|
||||
|
|
Глава 1Кто такие «черносотенцы»? Как уже сказано, прописная буква в слове «Революция» употреблена для того, чтобы подчеркнуть: речь идет не о каком-либо революционном взрыве (декабря 1905-го, февраля 1917-го и т. д.), но обо всем грандиозном катаклизме, потрясшем Россию в XX веке. Широкое значение имеет и слово «черносотенцы». Нередко вместо него предпочитают говорить о «членах Союза русского народа», но при этом дело сводится только к одной (пусть и наиболее крупной) патриотической и антиреволюционной организации, существовавшей с 8 ноября 1905-го и до Февральского переворота 1917 года. Между тем «черносотенцами» с полным основанием называли и называют многих и весьма различных деятелей и идеологов, выступивших намного ранее создания Союза русского народа, а также не входивших в этот Союз после его возникновения и даже вообще не состоявших в каких-либо организациях и объединениях. Поэтому слово «черносотенцы», несмотря на его одиозное, то есть имеющее крайне «отрицательное» и, более того, проникнутое ненавистью значение, все же наиболее уместно при исследовании того явления, которому посвящена эта глава моего сочинения. Да, слово «черносотенцы» (производное от «черная сотня») предстает как откровенно бранная кличка. Правда, в новейшем «Словаре русского языка» (1984) была предпринята попытка дать более или менее объективное толкование этого слова (привожу его целиком): «Черносотенец, — ица. Член, участник погромно-монархических организаций в России начала 20 века, деятельность которых была направлена на борьбу с революционным движением». Небесполезно разобраться в этом определении. Странноватый двойной эпитет «погромно-монархические» явно призван сохранить в толковании этого слова бранный (таково уж само это словечко «погромный») привкус. Правильнее было бы сказать «крайне» или «экстремистски монархические» (то есть не признающие никаких ограничений монархической власти); определение «погромные» неуместно здесь уже хотя бы потому, что некоторые заведомо «черносотенные» организации — например, Русское собрание (в отличие от того же Союза русского народа) — никто никогда не связывал с какими-либо насильственными — то есть могущими быть отнесенными к «погромным» — акциями. Во-вторых, в приведенном словарном определении неправомерно ограничение понятием «монархизм»; следовало сказать об «организациях», защищавших традиционный тройственный, триединый принцип — православие, монархия (самодержавие) и народность (то есть самобытные отношения и формы русской жизни). Во имя этой триады «черносотенцы» и вели непримиримую, бескомпромиссную борьбу с Революцией, притом гораздо более последовательную, чем многие тогдашние должностные лица монархического государства, которых «черносотенцы» постоянно и резко критиковали за примирение либо даже прямое приспособленчество к революционным — или хотя бы к сугубо либеральным — тенденциям. Не раз «черносотенная» критика обращалась даже и на самого монарха, и на главу Православной церкви, и на крупнейших творцов национальной культуры (более всего — на Толстого, хотя в свое время именно он создал «Войну и мир» — одно из самых великолепных и полнокровных воплощений того, что обозначается словом «народность»). Далее, разбираемое словарное определение не вполне четко обрисовало те, так сказать, границы, в которых существовали «черносотенцы»; говорится и о «членах», и также об «участниках» соответствующих организаций. В этом видно стремление как-то разграничить прямых, непосредственных «функционеров» этих организаций и, с другой стороны, «сочувствующих» им, в той или иной мере разделяющих их устремления деятелей — то есть скорее «соучастников», чем «участников». Так, например, авторы и сотрудники редакции знаменитой газеты «Новое время» (в отличие, скажем, от сотрудников редакций газет «Московские ведомости» или «Русское знамя») не входили в какие-либо «черносотенные» организации и даже нередко и подчас весьма решительно их критиковали, но тем не менее «нововременцев» все же вполне основательно причисляли и причисляют к лагерю «черносотенцев». Наконец, словарное определение относит к «черносотенцам» только деятелей «начала 20 века»; между тем это обозначение часто — и опять-таки с полным основанием — применяется и ко многим деятелям предыдущего, XIX века, хотя и называют их так, конечно, задним числом. Но, как бы там ни было, начиная по меньшей мере с 1860-х годов на общественной сцене выступали идеологи, которые явно представляли собой прямых предшественников тех «черносотенцев», которые действовали в 1900–1910-х годах. Собственно говоря, убеждения принадлежавших к старшим поколениям виднейших деятелей «черносотенных» организаций — таких, например, как Д. И. Иловайский (1832–1920), К. Ф. Головин (1843–1913), С. Ф. Шарапов (1850–1911), В. А. Грингмут (1851–1907), Л. А. Тихомиров (1852–1923), А. И. Соболевский (1856–1929), — вполне сложились еще до начала XX века. Итак, обрисованы общие контуры явления, известного под названием «черносотенство». Нельзя, впрочем, умолчать о том, что слово это — или, точнее, кличка — последние несколько лет самым активным образом используется по отношению к тем или иным современным, сегодняшним деятелям и идеологам. Но это уже совершенно особый вопрос, о котором можно рассуждать только после уяснения действительного характера дореволюционного «черносотенства». Как сказано, слово «черносотенцы» — а также словосочетание «черная сотня», от которого оно образовано, — употреблялось и употребляется, по сути дела, в качестве бранной клички, своего рода проклятия (хотя в новейших словарях можно найти примеры более «спокойного» толкования). Еще в 1907 году известнейший «Энциклопедический словарь» Брокгауза-Ефрона (2-й дополнительный том) «заложил основы» именно такого словоупотребления (курсив в цитируемом тексте, а также в дальнейшем, кроме специально оговоренных случаев, мой. — В.К.): «Черная сотня — ходячее название, которое в последнее время стало применяться к подонкам населения… Черносотенство под разными наименованиями являлось на историческую сцену (например, в Италии — каморра и мафия)… При культурных формах политической жизни черносотенство обыкновенно исчезает…» И далее: «… сами черносотенцы охотно приняли эту кличку, она делается признанным наименованием всех элементов, принадлежащих к крайне правым партиям и противополагающих себя «красносотенцам». В № 141 «Московских ведомостей» за 1906 год было помещено «Руководство черносотенца-монархиста»… Такой же характер имеет брошюра А. А. Майкова «Революционеры и черносотенцы» (СПб., 1907)…» В этой словарной статье, между прочим, дано и иное, не бранное определение «черносотенцев»: речь идет об «элементах», то есть, попросту говоря, о людях (автор словарной статьи как бы не хотел называть их «людьми»), «принадлежащих к крайне правым партиям»; выражение «крайне правые» можно было бы заменить и более «научным» — «крайне консервативные» или, в конце концов, «реакционные» (правда, и это слово в России давно уже стало «ругательным»). Но словарь относится с явным предпочтением к обозначению «черносотенцы», ловко ссылаясь на то, что «сами черносотенцы охотно приняли эту кличку», — как будто они были готовы принять на себя и такие содержащиеся в словарной статье определения, как «подонки» и «мафия», а также обвинение в полной несовместимости с культурой (ведь, согласно словарю, «при культурных формах политической жизни черносотенство исчезает») и т. п. Сам по себе факт, что «черносотенцы» не возражали против навязываемой им «клички», не столь уж удивителен. Не раз в истории название какого-либо течения принималось из враждебных или хотя бы чуждых уст; так, например, Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Самарин не открещивались от названия «славянофилы», которое употреблялось по отношению к ним в качестве заведомо иронической, издевательской (пусть и не заряженной столь ярой ненавистью, как «черносотенцы») клички. При этом идеологи «черносотенства» хорошо знали действительную историю слова, ставшего их «кличкой», — историю, прослеженную, например, в классическом курсе лекций В. О. Ключевского «Терминология русской истории», литографическое издание которого появилось еще в 1885 году. Словосочетание «черная сотня» вошло в русские летописи начиная с XII века (!) и играло первостепенную роль вплоть до Петровской эпохи. В средневековой Руси, показывал В. О. Ключевский, «общество делилось на два разряда лиц, — это «служилые люди» и «черные». Черные люди… назывались еще земскими… Это были горожане… и сельчане — свободные крестьяне». А «черные сотни — это разряды или местные общества», образованные из «черных», «земских» людей»{1}. Итак, «черные сотни» — это объединения «земских» людей, людей земли, — в отличие от «служилых», чья жизнь была неразрывно связана с учреждениями государства. И, именуя свои организации «черными сотнями», идеологи начала XX века стремились тем самым возродить древний, сугубо «демократический» порядок вещей: в тяжкое для страны время объединения «земских людей» — «черные сотни» — призваны спасти ее главные устои. Основоположник организованного «черносотенства» В. А. Грингмут (о нем еще пойдет речь) в своем уже упомянутом «Руководстве монархиста-черносотенца» (1906) писал: «Враги самодержавия назвали «черной сотней» простой, черный русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почетное ли это название, «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников»{2}. Из этого ясно, в частности, что идеологи «черносотенства» приняли сию «кличку» и даже дорожили ею в силу ее глубоко народного, проникнутого подлинным демократизмом смысла и значения. Кое-кому последнее утверждение может показаться чисто парадоксальным, ибо ведь как раз непримиримые враги, антиподы «черносотенцев» объявляли себя единственными настоящими «демократами». Но вот весьма любопытное признание идеолога, коего никак нельзя заподозрить в стремлении «обелить» крайних противников Революции: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий»{3}. Так писал в 1913 году не кто-нибудь, а В. И. Ленин. Притом данное им определение «темный» нужно правильно понять. Речь идет, несомненно, о тех слоях народа, которые еще не затронуты «светом», «просвещением», исходящим со страниц революционных газет и из уст воинственных митинговых агитаторов. Но в наше время уже нетрудно, полагаю, понять, что отсутствие такого «просвещения» обеспечивало и немалые преимущества. Ибо не «просвещенные» в этом плане люди глубже и яснее сознавали или хотя бы чувствовали, к чему приведет разрушение основных устоев русского бытия — то есть православия, самодержавия и народности. Чувствовали и пытались сопротивляться разрушительной работе… Словом, В. И. Ленин был совершенно прав, говоря о «самом глубоком демократизме», присущем «черносотенству». И в то же время ленинское определение «мужицкий» ложно. «Черносотенство» отличалось от всех остальных политических течений своей, если угодно, «общенародностью», оно складывалось поверх границ классов и сословий. В нем с самого начала принимали прямое участие и родовитейшие князья Рюриковичи (например, правнук декабриста М. Н. Волконский и Д. Н. Долгоруков), и рабочие Путиловского завода (1500 из них были членами Союза русского народа){4}, виднейшие деятели культуры (о чем еще пойдет речь) и «неграмотные» крестьяне, предприимчивые купцы и иерархи Церкви и т. д. Эта «всесословность» в обстановке острейшей «классовой борьбы», характерной для начала XX века, уже сама по себе привлекает заинтересованное внимание. Здесь уместно напомнить о том, что речь у нас вообще идет о загадочных страницах истории. И разве не загадочен уже сам по себе факт, что очень многие из нынешних популярных авторов и ораторов, стремящихся как можно более «беззаветно» разоблачить и проклясть Революцию, в то же самое время явно с еще большей яростью проклинают «черносотенцев», которые с самого начала Революции с замечательной, надо сказать, точностью предвидели ее чудовищные последствия и были, в сущности, единственной общественной (то есть не принадлежавшей непосредственно к государственным институтам) силой, действительно стремившейся (пусть и тщетно) остановить ход Революции?… Это достаточно сложная «загадка», которую я буду пытаться прояснить на протяжении всего этого сочинения, но важно, чтобы читатели постоянно имели ее в виду. Стоит еще обратить внимание на то обстоятельство, что чисто бранному употреблению слова «черносотенцы» (и, конечно, «черная сотня») весьма способствует новейшее смысловое наполнение эпитета «черный», присутствующее в нем помимо его прямого значения — то есть значения определенного цвета. Мы видели, что в свое время «черный» было синонимом слова «земский». Войско Дмитрия Донского, как сообщает «Сказание о Мамаевом побоище», сражалось на Куликовом поле под черным знаменем, и это, возможно, означало, что в битве участвуют не только «служилые», но и «земские» люди — то есть вся Русская Земля. Напомню еще, что «чернецами» звались монахи (и по сей день еще употребляется словосочетание «черное духовенство» — то есть монашество). Таким образом, слово «черный» было достаточно многозначным. Однако в новейшее время в нем стали господствовать смысловые оттенки, говорящие о чем-то сугубо «мрачном», «враждебном» или даже «сатанинском»… И эти обертоны значения слова «черный» используются, подчеркиваются интонацией при произнесении слова «черносотенцы», так что в самом деле нелегко «обелить» (невольно напрашивается эта игра слов) обозначаемое им явление. И все же постараемся понять, кто же такие в действительности были «черносотенцы»? * * *Начать целесообразно с того необходимого фундамента, на котором создается любое общественное движение, — проблемы культуры (культуры философской, научной, политической и т. д.). Конечно, есть общественные движения, основывающиеся на весьма или даже крайне небогатом, неразвитом и узком культурном фундаменте, но так или иначе он все же обязательно наличествует. В представлениях о «черносотенцах» господствует оценка их культурного уровня как предельно низкого; они рисуются в качестве этаких «черных-темных» субъектов, живущих набором примитивных догм и трафаретных лозунгов. Именно так истолковывается, например, постоянно упоминаемая — обычно с сугубо иронической интонацией — основополагающая для черносотенцев триада: «православие, самодержавие, народность». Конечно, в сознании тех или иных заурядных людей эта тройственная идея — как, впрочем, и вообще любая идея — существовала в качестве плоского, не обладающего весомым смыслом лозунга. Но едва ли возможно всерьез оспорить утверждение, что в духовном творчестве Ивана Киреевского, Хомякова, Тютчева, Гоголя, Юрия Самарина, Константина и Ивана Аксаковых, Достоевского, Константина Леонтьева многовековые реальности русской Церкви, русского Царства и самого русского Народа предстают как феномены, исполненные богатейшего и глубочайшего исторического содержания, которое по своей культурной и духовной ценности ничуть не уступает, скажем, историческому содержанию, воплощенному в западноевропейском самосознании. Несмотря на это, и на Западе, и в России, разумеется, были и есть многочисленные идеологи, пытающиеся всячески принизить развивавшееся в течение столетий содержание русского исторического пути, объявляя его чем-то заведомо и гораздо менее значительным, нежели содержание, запечатлевшееся в западноевропейском самосознании. Однако такие попытки, повторюсь, попросту не серьезны. Они, в частности, оказываются в поистине нелепом противоречии с тем очевидным фактом, что наследие перечисленных только что русских писателей и мыслителей давно и предельно высоко оценено на Западе, — подчас (пусть это звучит как-то постыдно для русских людей…) более высоко, чем в самой России. И попытки обесценить выраженное в их наследии понимание тройственной идеи «православие — самодержавие — народность» свидетельствуют либо об убогости тех, кто предпринимает подобные попытки, либо об их недобросовестной тенденциозности (кстати сказать, для дискредитации «тройственной идеи» применяется такой прием: вот, мол, Достоевский действительно несравненный гений, но была у него странная ахиллесова пята: вера в Церковь, Царя и Народ). Нельзя не заметить, что наиболее «умные» противники тройственной идеи поступали и поступают по-иному. Они отдают высокие или даже высочайшие почести вдохновлявшимся этой идеей русским мыслителям XIX века, особенно дореформенного периода, но утверждают, что, мол, к XX веку сия идея «разложилась» или «выродилась» и стала-де превращаться в вульгарную догму. Владимир Соловьев, начавший, между прочим, свой путь именно в среде правоверных славянофилов и их наследников, в тесной связи с Иваном Аксаковым, Достоевским, Леонтьевым, к середине 1880-х годов очень резко изменяет свои позиции и все более непримиримо критикует (нередко до удивления легковесно) своих недавних единомышленников. В 1889 году он публикует пространную статью с выразительным названием: «Славянофильство и его вырождение». Здесь он, достаточно высоко оценивая славянофилов 1840–1850-х годов, почти целиком отвергает современных ему продолжателей славянофильства. Далее, лидер либерализма П. Н. Милюков в 1893 году (то есть также ранее появления «черносотенства» в прямом смысле слова) выступает со статьей «Разложение славянофильства»; вне зависимости от намерений автора и это название подразумевало, что в свое время «славянофильство» было чем-то существенным, но к 1893 году оно-де «разложилось» и, следовательно, утратило свое прежнее значение. В 1911 году историк культуры М. О. Гершензон подготовил к изданию сочинения Ивана Киреевского и, объявляя его в своем предисловии одним из глубочайших общечеловеческих мыслителей XIX века, вместе с тем сетовал, что иные его идеи превратились к настоящему времени в нечто ничтожное и возмутительное. Разумеется, за те три четверти века, которые протекли со времени возникновения славянофильства и до этого гершензоновского «обвинения», в русском самосознании многое изменилось. Однако это было обусловлено вовсе не неким «вырождением» идеи, но существеннейшим изменением самой исторической реальности: невозможно было мыслить в России и о России 1900–1910-х годов точно так же, как в 1840–1850-х… Для более полного выявления проблемы отмечу, забегая вперед, что в наше время, в 1990-х годах, обрисованный мною «процесс» продолжает развиваться, и те идеологи, которые с порога отвергают нынешних продолжателей славянофильства, вполне уважительно относятся не только к «классическим» славянофилам первой половины XIX века, но и к таким их наследникам, как Леонтьев или Николай Страхов, а нередко и более поздним — как Розанов или Флоренский. Но идеологи эти по-прежнему начисто «отрицают» любое современное им продолжение славянофильства (в широком смысле слова). Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. Обратимся теперь непосредственно к «черносотенству» начала XX века. Уже и из приведенных соображений ясно, что даже самые решительные противники «черносотенства» так или иначе признавали его прямую связь с долгим и полным значительности предшествующим развитием русской мысли, утверждая, правда, что к XX веку мысль эта «разложилась» и «выродилась». «Выродилась» до такой степени, что как бы вообще утратила культурный статус. И явно господствует представление, согласно которому «черносотенство» начала XX века вообще не имеет отношения к истинной культуре с необходимо присущей ей высотой, богатством, многообразием и утонченностью; культура, мол, абсолютно несовместима с «черносотенством». Это представление настолько утвердилось в умах подавляющего большинства людей, что, знакомясь всерьез с реальными представителями «черносотенства», они испытывают чувство настоящего изумления. Так, например, современный архивист С. В. Шумихин, подготовивший целый ряд интересных публикаций, был, по его собственному признанию, «поражен», когда ему довелось познакомиться с наследием и самой личностью одного из виднейших «черносотенных» деятелей начала века — члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского (1870–1919). Архивисту именно «довелось» узнать об этом человеке, так как изучал-то он ценное наследие полузабытого поэта, прозаика и литературоведа Бориса Садовского (который, впрочем, как оказалось, тоже был «черносотенцем», — правда, не по принадлежности к какой-либо организации, а по внутренним убеждениям), но, обнаружив в архиве Садовского целый ряд писем Б. В. Никольского, С. В. Шумихин невольно увлекся этим близким сотоварищем своего кумира. И вот какое впечатление произвел на архивиста этот человек (отдельные слова выделены в тексте мною): «В первую очередь в этой незаурядной личности поражает то, что идеи, кажущиеся нам (стоило бы уточнить, кто же эти самые «мы»? — В.К.) в исторической ретроспективе несовместимыми, сочетались в Никольском вполне органично, без тени какого-либо душевного дискомфорта. С одной стороны, это был многосторонне одаренный человек: поклонник и глубокий исследователь творчества Фета… крупнейший специалист по творчеству Гая Валерия Катулла; пушкинист, поэт, критик, отмеченный печатью несомненного таланта; вдобавок — один из лучших ораторов своего времени… С другой — перед нами активный член «Союза русского народа» (архивист явно не осмелился сказать: «один из главных руководителей». — В.К.) и не менее одиозного (вот-вот! — В.К.) «Русского собрания»… ортодоксальный монархист»{5} и т. д. (итак, быть монархистом уже само по себе преступление…). К этому можно бы добавить, что Б. В. Никольский был крупным правоведом, глубоко изучавшим римское и современное право, что он собрал одну из самых больших и наиболее ценных частных библиотек того времени, для которой пришлось нанять целую отдельную квартиру, что… впрочем, тут даже трудно все перечислить. Скажу только еще о следующем факте. В 1900 году Александр Блок принес свои юношеские, но уже замечательные стихотворения в имевший вроде бы широкую программу журнал «Мир Божий», где печатались тогда Н. А. Бердяев и Ф. Д. Батюшков, И. А. Бунин и сам В. И. Ленин… Но, познакомившись со стихотворениями, сугубо либеральный редактор журнала В. П. Острогорский заявил Блоку: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится»{6} (речь шла о тогдашней борьбе студентов за «свободу». — В.К.). В следующий раз Блок отдал свои стихи Б. В. Никольскому, и тот (а он тогда уже был одним из активнейших деятелей «черносотенного» Русского собрания), нелицеприятно покритиковав молодого поэта за «декадентщину», все же отправил его талантливые стихи в печать. Этот эпизод бросает свет на уровень эстетической культуры у либерала и «черносотенца». Блок удовлетворенно вспоминал в автобиографии 1915 года, что он со своими стихами после неудачи с Острогорским «долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому» (там же). Следует подчеркнуть, что восприятие современным архивистом С. В. Шумихиным наследия видного деятеля культуры и вместе с тем активнейшего «черносотенца» Б. В. Никольского — это только один выразительный «пример», помогающий уяснить проблему. Было бы совершенно неправильным понять мои рассуждения как некий упрек или хотя бы полемику, обращенные именно к С. В. Шумихину. Повторяю еще раз, что подавляющее большинство нынешних читателей, столкнувшись с «феноменом» Б. В. Никольского, восприняло бы его точно так же, как названный архивист, ибо большинство это порабощено мифом о «черносотенстве». Словом, С. В. Шумихин — это всего лишь типичный современный читатель (и исследователь) на рандеву, на свидании с «черносотенцем». И вот этот читатель убеждается, что личность члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского решительно противоречит всецело господствующему представлению о «черносотенцах». Впрочем, может быть, это только некий исключительный случай, так поразивший современного наблюдателя? И высококультурный Б. В. Никольский — своего рода белая ворона в «черносотенстве», оказавшаяся в его рядах по какой-то нелепой причине? Архивист — хотя он вообще-то человек знающий, осведомленный — воспринимает Б. В. Никольского именно так (это ясно видно из его высказываний). Вбитое в его сознание представление о «черносотенцах» поистине фатально застилает ему глаза, мешает увидеть реальное положение вещей, которое, в сущности, прямо противоположно «общепринятому» взгляду. * * *Выдающиеся деятели культуры (а также Церкви и государства) довольно-таки редко вступали в прямую, непосредственную связь с какими-либо политическими движениями. И тем не менее товарищем (то есть заместителем — вторым по значению лицом) председателя Главного совета Союза русского народа являлся один из двух наиболее выдающихся филологов конца XIX — начала XX века академик А. И. Соболевский (второй из этих двух филологов, академик А. А. Шахматов, был, напротив, членом ЦК кадетской партии). Алексей Иванович Соболевский (1856–1929) имел самое высокое всемирное признание, и после 1917 года, когда очень многие активные «черносотенцы» были — к тому же, как правило, без всякого следствия и суда — расстреляны (в их числе и Б. В. Никольский), его не решились тронуть, а классические труды его издавались в СССР и после его кончины. Деятельнейшим (хотя и не соглашавшимся занимать руководящие посты) участником «черносотенных» организаций был обладавший наиболее высокой духовной культурой из всех тогдашних церковных иерархов епископ, ас 1917 года митрополит Антоний (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1934). В юные годы он был близок с Достоевским и явился — что, конечно, немало о нем говорит, — прототипом образа Алеши Карамазова. Четырехтомное собрание его сочинений, изданное в 1909–1917 годах, предстает как воплощение вершин богословской мысли XX века, — о чем убедительно сказано в фундаментальном трактате о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия», изданном у нас в 1991 году (см. с. 427–438 и особенно с. 565, где Г. В. Флоровский показывает, насколько понимание сущности Церкви в трудах митрополита Антония было глубже и выше, чем в сочинениях на эту тему, принадлежащих прославленному В. С. Соловьеву). Кстати сказать, епископ Антоний постоянно общался и вел переписку с упомянутым Б. В. Никольским. На Всероссийском поместном соборе в ноябре 1917 года архиепископ Антоний был одним из двух главных кандидатов на пост Патриарха Московского и Всея Руси; митрополит Московский Тихон (В. И. Белавин) получил при избрании его Патриархом всего на 12 голосов больше, чем Антоний (соотношение голосов было 162:150). Но Тихон, причисленный ныне (в 1990 году) Церковью к лику святых, был, по-видимому, более готов к тому тяжкому нравственному подвигу, который он совершил, будучи Патриархом в 1917–1925 годах (Антоний же эмигрировал и стал во главе Синода Русской православной церкви Зарубежья). И нельзя не напомнить, что будущий патриарх Тихон, занимая в 1907–1913 годах пост архиепископа Ярославского и Ростовского, одновременно вполне официально возглавлял губернский отдел Союза русского народа (Антоний, как уже сказано, не соглашался занимать руководящее положение в «черносотенных» организациях, хотя весьма активно участвовал в их деятельности). Подвижническая трагедийная судьба святителя Тихона сегодня достаточно широко известна, но при его прославлении замалчивается тот факт, что он был виднейшим «черносотенцем», — так же как и канонизированный одновременно с ним светоносный протоиерей Иоанн Кронштадтский. В. И. Ленин был совершенно точен, когда во время своей жестокой борьбы с патриархом Тихоном и его сподвижниками постоянно называл их «черносотенным духовенством». Как уже говорилось, многие выдающиеся деятели Церкви, государства и культуры России начала XX века не считали возможным или нужным напрямую связывать себя с «черносотенными» организациями. Тем не менее в публиковавшихся в начале XX века списках членов главных из этих организаций — таких, как Русское собрание, Союз русских людей, Русская монархическая партия, Союз русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела, — мы находим многие имена виднейших тогдашних деятелей культуры (притом некоторые из них даже занимали в этих организациях руководящее положение). Вот хотя бы несколько из этих имен (все они, кстати сказать, представлены в любом современном энциклопедическом словаре): один из авторитетнейших филологов академик К. Я. Грот, выдающийся историк академик Н. П. Лихачев, замечательный музыкант, создатель первого в России оркестра народных инструментов В. В. Андреев, один из крупнейших медиков профессор С. С. Боткин, великая актриса М. Г. Савина, известный всему миру византинист академик Н. П. Кондаков, превосходные поэты Константин Случевский и Михаил Кузмин и не менее превосходные живописцы Константин Маковский и Николай Рерих (позднее прославившийся своими духовными инициативами), один из корифеев ботанической науки академик В. Л. Комаров (впоследствии — президент Академии наук), выдающийся книгоиздатель И. Д. Сытин и т. д. и т. п. Речь, повторю, идет о людях, которые непосредственно входили в «черносотенные» организации. Если же обратиться к именам выдающихся деятелей России начала XX века, которые в той или иной мере разделяли «черносотенную» идеологию, но по тем или иным причинам не вступали в соответствующие организации, придется прийти к неожиданному для многих и многих современных читателей выводу. Целесообразно будет сразу же, еще до представления существенных доказательств, сформулировать этот вывод. Есть все основания утверждать (хотя сие утверждение, конечно, вызовет недоверие и даже, по всей вероятности, прямой протест), что преобладающая часть наиболее глубоких и творческих по своему духу и — это уж совсем бесспорно — наиболее дальновидных в своем понимании хода истории деятелей начала XX века так или иначе оказывалась, по сути дела, в русле «черносотенства». Речь идет, в частности, о людях, которые не только не являлись членами «черносотенных» организаций, но подчас даже отмежевывались от них (что имело свои веские причины). Тем не менее, если «примерять» взгляды и настроения этих людей к имевшимся в то время налицо партиям и политическим движениям, становится совершенно ясно, что единственно близким им было именно и только «черносотенство», и их противники вполне обоснованно не раз заявляли об этом. Начать уместно с вопроса об исторической дальновидности, и здесь я обращусь к поистине замечательному документу — записке, поданной в феврале 1914 года Николаю II. Ее автор, П. Н. Дурново (1845–1915), с 23 октября 1905-го по 22 апреля 1906 года был министром внутренних дел России (его на этом посту сменил П. А. Столыпин), а затем занял гораздо более «спокойное» положение члена Государственного совета (стоит отметить, что П. Н. Дурново, как и почти все российские министры внутренних дел начала XX века, был приговорен левыми террористами к смерти). Уже хотя бы в силу своего официального положения П. Н. Дурново не принадлежал к каким-либо организациям, но никто не сомневался в его «черносотенных» убеждениях. Его записка царю проникнута столь поразительным духом предвидения, что современный историк А. Я. Аврех (1915–1988), автор семи изданных с 1966 по 1991 год обстоятельных книг о политических перипетиях начала XX века — книг, в которых он предстает как беззаветный апологет Революции и столь же беззаветный хулитель всех ее противников, — не смог все же удержаться от своего рода дифирамба по адресу Петра Николаевича Дурново. Заявив, что этот деятель — «крайний реакционер по своим взглядам» (а это, как отмечено выше, синоним «черносотенца»), А. Я. Аврех тут же характеризует его как создателя «документа, который, как показали дальнейшие события, оказался настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». В феврале 1914 года уже была очевидна надвигавшаяся угроза войны с Германией, и П. Н. Дурново, убеждая Николая II любой ценой предотвратить эту войну, писал: «…начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. …Армия, лишившаяся… за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Далее П. Н. Дурново пояснял еще: «За нашей оппозицией (имелись в виду думские либералы. — В.К.) нет никого, у нее нет поддержки в народе… наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет»{7}. Это до удивления ясное предвидение всего, что происходило затем в России вплоть до установления большевистской диктатуры (точно сказав о «беспросветной анархии», в самом деле охватившей страну к октябрю 1917 года, П. Н. Дурново не брался предвидеть дальнейшее), прямо-таки посрамляет всех тогдашних «либеральных» и «прогрессивных» идеологов (начиная с более «левого» П. Н. Милюкова и кончая наименее «левым» октябристом А. И. Гучковым), полагавших, что переход власти в их руки — а он действительно свершился в феврале 1917 года — явится прочным залогом решения основных российских проблем (на деле те же Милюков и Гучков удержались у власти всего лишь два месяца…). Итак, историк А. Я. Аврех именует П. Н. Дурново «крайним реакционером по своим взглядам» и вместе с тем называет составленную им записку «настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». Из контекста ясно, что историк усматривает здесь прямое «противоречие» (точно так же, как С. В. Шумихин противопоставляет высшую культуру Б. В. Никольского и его «черносотенство»). Между тем на деле именно те качества, которые, по терминологии А. Я. Авреха, являли собой «крайнюю реакционность», обусловили пророческую силу П. Н. Дурново и других его единомышленников. Один из главнейших кадетских лидеров, В. А. Маклаков, в отличие от подавляющего большинства его сотоварищей, честно признал в опубликованных в 1929 году парижскими «Современными записками» (т. 38, с. 290) мемуарах, что «в своих предсказаниях правые (правые в целом, а не только П. Н. Дурново или еще кто-нибудь. — В.К.) оказались пророками. Они предрекали, что либералы у власти будут лишь предтечами революции, сдадут ей свои позиции. Это был главный аргумент, почему они так упорно боролись против либерализма». Итак, борьба правых (В. А. Маклаков в данном случае явно постеснялся употребить кличку «черносотенцы») против либерализма определялась, диктовалась истинным пониманием грядущего пути русской истории; кадетский идеолог даже счел возможным возвышенно назвать этих своих непримиримых противников «пророками». Само определение «правые» вдруг приобретает здесь ценнейший смысл: «правые» — это те, кто — в отличие от либералов, которые в той или иной степени принадлежали к «левым», — были правы в своем понимании хода истории. И противники «правых» могут, конечно, находить в них самые разные отрицательные, дурные черты и назвать их «консерваторами», «реакционерами» и, наконец, «черносотенцами», вкладывая в эти названия неприятие и ненависть, но нельзя все же не признавать, что именно и только эти деятели и идеологи действительно понимали, куда двигалась Россия в начале XX века… * * *Прежде чем идти дальше, необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать действительный смысл определения «реакционный». В основе его лежит латинское слово, означающее «противодействие». Лишенные, в сущности, какой-либо конкретности, термины «реакция», «реакционный», «реакционер» и т. п. сложились как антонимы (то есть слова противоположного значения) к терминам «прогресс», «прогрессивный», «прогрессист» и т. д., исходящим из латинского же слова, означающего «движение вперед». Термин «прогресс» в новейшее время стал наиважнейшим для большинства идеологов, вкладывавших в него сугубо «оценочный» смысл: не просто «движение вперед», но движение к принципиально лучшему, в конце концов к совершенному обществу — своего рода земному раю. Идея прогресса утвердилась в период распространения атеизма и стала заменой (или, вернее, подменой) религии. Правда, в последние десятилетия XX века даже безусловные «прогрессисты» как бы оказались вынужденными оговаривать, что «прогресс» имеет более или менее «относительный» характер. Так, в соответствующей статье «Большой советской энциклопедии» (т. 21, издан в 1975 году) сначала заявлено, что прогресс есть «переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (с. 28), а потом сказано, что «понятие прогресса неприменимо ко Вселенной в целом, т. к. здесь отсутствует однозначно определенное направление развития» (с. 29). Это вроде бы надо понять так, что в развитии человеческого общества (в отличие от Вселенной в целом) царит одно вполне «определенное» направление развития (к совершенству), однако в другом месте статьи говорится, что «в досоциалистических формациях… одни элементы социального целого систематически прогрессируют за счет других», то есть, говоря попросту, что-то улучшается, а что-то одновременно ухудшается… И даже «социалистическое общество… не отменяет противоречивости развития». Если вдуматься, эти оговорки, по сути дела, отрицают идею прогресса, ибо оказывается, что приобретения в то же самое время ведут к утратам. И крайне сомнительно само уже «выведение» бытия людей из бытия Вселенной в целом, где, даже с точки зрения самих прогрессистов, нет прогресса (в смысле «совершенствования»); ведь люди, в частности, представляют собой не только особенный — общественный, социальный — феномен, но и явление природы, элемент Вселенной в ее целом. И сегодня любому мыслящему человеку ясно, например, что колоссальный прогресс техники поставил на грань катастрофы само существование человечества… Словом, можно рассуждать о прогрессе как определенном развитии, изменении, преобразовании общества, но представление о прогрессе как о некоем принципиальном «улучшении», «совершенствовании» и т. п. — это только миф новейшего времени — с XVII–XVIII веков (основательный повод для размышлений дает тот факт, что ранее в сознании людей господствовал противоположный миф, согласно которому «золотой век» остался в прошлом…). Миф о все нарастающем «совершенствовании» человеческого общества наглядно опровергается простым сопоставлением конкретных и целостных воплощений этого общества на разных — отделенных столетиями и тысячелетиями — стадиях его развития: кто, в самом деле, решится утверждать, что Платон и Фидий, Христовы апостолы и император Марк Аврелий, Сергий Радонежский и Андрей Рублев менее «совершенны», нежели самые «совершенные» люди нашего времени, которому предшествовал столь длительный человеческий «прогресс»? А ведь истинная реальность общества — это все же не количество потребляемой энергии, не характер политического устройства, не система образования и т. п., но сами люди, так или иначе вобравшие в себя все стороны и элементы общественной жизни своего времени. И еще: кто решится доказывать, что люди, живущие в позднейшую, более «прогрессивную» эпоху, более счастливы, чем люди предшествующих эпох? Искусство, запечатлевшее так или иначе духовную и душевную жизнь людей любой эпохи, ни в коей мере не подтвердит подобный тезис… Но, говоря обо всем этом, нельзя умолчать о поистине острейшей проблеме. Несмотря на то что миф о прогрессе в последнее время заметно дискредитировался, он все же остается достоянием большинства (или, пожалуй, даже подавляющего большинства) «цивилизованных» людей. Ведь, как уже сказано, вера в прогресс явилась заменой веры в Бога, а люди не могут жить вообще без веры. И масса людей проникнута всецело иллюзорным убеждением, что, «усовершенствуя» существующее общество, они — или хотя бы их дети — обретут подлинное удовлетворение и счастье. Особенно опасны, конечно, многообразные идеологи, которые убеждены не только в том, что эта цель достижима, но и в том, что они знают, как ее достичь. При этом на первый план выходит, естественно, даже не задача созидания более совершенного общественного устройства, но предварительная радикальная переделка или даже полная ликвидация существующего устройства. Теперь мы можем вернуться непосредственно к нашей теме. В начале XX века в России исключительно активно выступали бесчисленные «прогрессисты» — как либеральные, стремившиеся кардинально реформировать русское общество, так и революционные, убежденные в необходимости его полнейшего разрушения (что-де уже как бы само по себе обеспечит благо и процветание России). Своих противников они называли «реакционерами» (то есть буквально «противодействующими»); слово это, в сущности, стало бранным и непосредственно соседствовало с кличкой «черносотенец». Конечно, среди «реакционеров» были разные люди (ниже об этом еще пойдет речь). Но сосредоточимся на наиболее значительных из них — тех, кого сами «прогрессисты» подчас стеснялись назвать «реакционерами» (и тем более «черносотенцами»), предпочитая не столь резкое обозначение «консерватор», то есть «охранитель» (кстати, этот русский эквивалент слова «консерватор» был намного более «бранным»: «охранитель» как бы смыкался с «царской охранкой»). К «реакционерам» причисляли тех, кто ясно понимал иллюзорность идеи прогресса, отчетливо видел, что ослабление и разрушение вековых устоев России приведут к неисчислимым бедам и страданиям и в конце концов фатально «разочаруют» даже и самих «прогрессистов». * * *Уже шла речь о поразительной силе предвидения, которой обладали «реакционеры». Дело в том, что «прогрессисты», порабощенные своим мифом, заведомо не могли прозреть реальный ход истории. Их взгляд в будущее был как бы заслонен их собственными легковесными прожектами и неизбежно оказывался поверхностным и примитивным. И, конечно, не только предвидение как таковое, но и вообще духовная глубина и богатство чаще всего органически связаны с так называемыми «правыми» убеждениями. Начать уместно с имени величайшего ученого конца XIX — начала XX века Д. И. Менделеева, который в зрелые свои годы исповедовал прочные «правые» убеждения. Об этом любопытно вспоминал один из его весьма «либеральных» учеников — В. И. Вернадский. Сказав о заведомо «консервативных (слово «реакционных» Вернадский употребить не захотел, но достаточно и «охранительных». — В.К.) политических взглядах» Д. И. Менделеева, он вместе с тем свидетельствовал: «…ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества… Мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир… Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и его активному приложению, в очень многих возбуждал такие логические выводы и построения, которые были далеки от него самого»{8}. Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с мнимым — навязанным либеральным мифом — «противоречием» между «консерватизмом» и глубиной и богатством духовной культуры. В советское время была популярна даже своего рода «концепция» так называемого вопрекизма, с помощью коей пытались доказывать, что исповедовавшие безусловно «консервативные» и «реакционные» убеждения великие мыслители, писатели, деятели науки — такие, как Кант, Гегель, Гёте, Карлейль, Бальзак, Достоевский, — достигли величия в силу некоего парадокса — «вопреки» своим взглядам. Но эта искусственная «концепция» попросту несерьезна, и дело, конечно, обстоит прямо противоположным образом. «Превосходство» консерватизма особенно ясно выступает тогда, когда речь идет о предвидении будущего (о чем уже говорилось). Русские «правые» с самого начала Революции, и более того, еще в XIX веке, с удивительной прозорливостью предсказали ее результаты. И вполне очевидно следующее: противостоявшие «правым» деятели и идеологи исходили из заведомо несостоятельного и, более того, по сути дела, примитивного миропонимания, согласно которому можно-де, отринув и разрушив вековые устои бытия России, более или менее быстро обрести некую если и не райскую, то уж во всяком случае принципиально более благодатную жизнь; при этом они были убеждены, что их ум и их воля вполне годятся для осуществления сей затеи. И одной из главных причин их прискорбного и в конечном счете рокового для России и для них самих заблуждения был недостаток подлинной культуры самосознания — культуры, заключающейся не в обилии знаний и не в интеллектуальных навыках, но в истинно глубоком переживании исторического бытия — прошедшего и современного; если выразиться кратко, «либералы» были нередко умные, но не мудрые деятели. Позволительно утверждать, что простые крестьяне и рабочие, вступавшие в «черносотенные» организации (а «простолюдины» вступали туда десятками и даже сотнями тысяч — о чем ниже), были мудрее либеральных профессоров типа кадета С. А. Муромцева и радикальных публицистов вроде «народного социалиста» А. В. Пешехонова. Для создания более ясного представления о существе проблемы целесообразно напомнить о российском политическом и партийном «спектре» начала века: 1) «левые» партии: социал-демократы (из которых в 1903 году выделились большевики); социалисты-революционеры (эсеры) и близкие к ним трудовики и народные социалисты; анархисты различного толка; 2) «центристские»: конституционные демократы (кадеты) и так или иначе примыкавшие к ним мирно-обновленцы и прогрессисты; более «правые» (но все же либеральные) — октябристы; 3) «правые»: различные организации «черносотенцев» и более «умеренная» партия националистов. Если проследить пути виднейших деятелей культуры, так или иначе сближавшихся с существовавшими тогда партиями, выяснится, что те из них, которые были способны обрести наиболее глубокую духовную культуру, двигались «слева направо», — и это было, в сущности, постепенным обретением мудрости. Так, знаменитые позднее мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк начали свой путь в социал-демократической партии; как ни странно звучит это теперь, они в свои молодые годы были членами той самой РСДРП, в которой одновременно с ними состояли В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Струве, о чем уже говорилось, даже был автором Манифеста РСДРП, принятого на Первом съезде партии в 1898 году (кстати, позднее в РСДРП побывал и видный мыслитель следующего поколения — Г. П. Федотов). Впоследствии, в 1908 году, Бердяев, споря с В. В. Розановым, объяснял свою причастность к РСДРП именно молодостью, незрелостью, — над чем тут же поиздевался его бывший товарищ по партии Троцкий, написавший в фельетоне «Аристотель и Часослов», что Бердяев «ищет для «левости» объяснения в… физиологии возраста. Молодо-зелено, говорит он на эту тему…» И Троцкий «заклеймил» Бердяева таким «афоризмом»: «Русский человек до тридцати лет — радикал, а затем каналья»{9}. Кстати, С. Н. Булгаков также называл свой социал-демократизм «болезнью юности». Здесь невозможно обсуждать соотношение «радикализма» и возраста, но скажу все же, что дело, очевидно, в проблеме созревания духа, а отнюдь не в «физиологии». В. В. Розанов был, по его собственному признанию, вполне «левым» до 22–23-х лет; однако многие достаточно известные и, без сомнения, неглупые люди ухитрялись сохранять крайнюю «левизну» до седых волос; напомню уже сказанное о качественном различии ума и мудрости. В отличие от ума, мудрость способна преодолевать тяжкое давление среды, мнений большинства, в конце концов самой эпохи. Никуда не денешься от того факта, что в начале XX века только не очень уж значительное меньшинство деятелей культуры смогло устоять перед своего рода гипнозом революционности или хотя бы недальновидного прогрессизма и либерализма; даже иные наиболее глубокие люди, как Александр Блок, жили словно на грани этого гипноза и действительного прозрения. Тем не менее близко знавшая поэта «либералка» З. Н. Гиппиус с полным основанием написала, что «если на Блока наклеивать ярлык… то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти было нельзя… Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать… Блок… с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева… так и на нетерпимость новой по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик»{10}. Запомним это «если наклеивать ярлык, то ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти нельзя». То же самое вполне можно сказать о целом ряде самых выдающихся деятелей культуры того времени. И вернемся теперь к названным выше виднейшим мыслителям начала XX века. Преодолев свой юношеский социал-демократизм, они к 1905 году сблизились с центристской кадетской партией, а Струве стал даже членом ее ЦК (впоследствии он заявил о выходе из этого ЦК). Однако их развитие «вправо» продолжалось, и в начале 1909 года они выступили в знаменитом сборнике «Вехи», который произвел на кадетов ошеломляющее впечатление; только в конце следующего, 1910 года они, опомнившись, издали воинствующий антивеховский сборник «Интеллигенция в России» («левые» атаковали «Вехи» сразу же). Полностью порвать с такими недавними сотоварищами, как Бердяев, Булгаков, Струве, кадеты, конечно, не хотели. Поэтому их критика «Вех», при всей ее резкости, была по-своему осторожной; например, они только намекали на перекличку «веховцев» с «черносотенством». П. Н. Милюков, правда, решился прямо сопоставить содержание «веховских» статей и, с другой стороны, речей «черносотенцев» Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича и «националиста» В. В. Шульгина, хотя и оговорил, что «дело пока так далеко не идет». Он не советовал «слишком спешить с отождествлением проектов «Вех» и предложений крайне правых (то есть «черносотенных». — В.К.) партий. Проповедуя религиозность, государственность и народность, авторы «Вех» тем самым еще не усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и великорусского патриотизма. Однако точки соприкосновения есть — и довольно многочисленные». А в конце статьи, несколько забыв об осторожности, П. Н. Милюков, безоговорочно «клеймя» тех идеологов, которые, по его определению, «основывают национализм на реставрации старой триединой формулы» (то есть «православие, самодержавие, народность»), заявил следующее: «Совершили ли авторы «Вех» и этот шаг, мы пока сказать не решаемся (вот именно «не решаемся»! — В.К.). Но путь их ведет сюда. И они уже стоят на этом пути. Выбор пути уже сделан». И он взывал к веховцам: «Вернитесь же в ряды и станьте на ваше место. Нужно продолжать общую работу русской интеллигенции» (то есть работу по разрушению исторической России…){11}. Итак, веховцы, согласно характеристике кадета, «уже стоят» на пути, ведущем к «черносотенству». Иначе оценивали «Вехи» и левые, и правые идеологи, которые прямо и открыто, без каких-либо обиняков говорили об их фактическом переходе в «черносотенный» лагерь (разумеется, первые говорили об этом с негодованием, а вторые с одобрением или даже с восхищением). И в самом деле: основной смысл статей главных авторов «Вех» никак не вмещался в идеологию центристских (не говоря уже о левых) партий, включая даже наиболее «правую» из них — «октябристскую». Правда, впоследствии те или иные веховцы проделали сложную, извилистую эволюцию; «грехи молодости» (начиная с пребывания в РСДРП) не прошли для них даром. Более или менее прямым был, пожалуй, только путь С. Н. Булгакова, во многом отошедшего даже от остальных веховцев и вступившего в теснейшую связь с вполне «правыми» В. В. Розановым и П. А. Флоренским. Он, например, оценивал и левые партии, и кадетов, и октябристов, в сущности, «по-черносотенному». С. Н. Булгаков писал, в частности, о 2-й Государственной думе, где господствовали «левые» депутаты: «Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных… внушите им, что они спасители России… и вы получите 2-ю Государственную думу. И какими знающими, государственными, дельными представлялись на этом фоне деловые работники ведомств — «бюрократы»…» Но, по сути дела, столь же неприемлемы были для С. Н. Булгакова и кадеты, игравшие ведущую роль ранее, в 1-й Думе: «Первая Государственная дума… обнаружила полное отсутствие государственного разума и особенно воли и достоинства перед революцией, и меньше всего этого достоинства было в руководящей и ответственной кадетской. партии… Вечное равнение налево, трусливое оглядывание по сторонам было органически присуще партии и вождям… и это неудивительно, потому что духовно кадетизм был поражен тем же духом нигилизма и беспочвенности, что революция. В этом, духовном, смысле кадеты были и остаются в моих глазах революционерами в той же степени, как и большевики»{12}. Особое негодование С. Н. Булгакова вызывала позиция «правого» кадета В. А. Маклакова. Последний подчас довольно резко расходился с Милюковым, который в его глазах был слишком «левым»; тем не менее осенью 1915 года Маклаков опубликовал вызвавшую сенсацию статью «Трагическое положение», основанную на весьма прозрачной «подрывной» аллегории: «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге, — писал он, имея в виду путь России в условиях тяжкой войны, — один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может… В автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, но оттеснить шофера на полном ходу — трудная задача». И Маклаков развил скользкую дилемму: или следует подождать времени, «когда минует опасность» (то есть окончится война), или внять матери, которая «будет просить вас о помощи», и все же немедля отстранить не могущего править шофера{13}; кадеты абсолютно необоснованно полагали, что они-то «умеют» и могут править Россией… С. Н. Булгаков вспоминал позднее, как «в обращение было пущено подлое словцо В. А. Маклакова о перемене шофера на полном ходу автомобиля, и среди мужей — законодателей разума и совета (то есть либеральных думских депутатов. — В.К.) совершенно серьезно обсуждался вопрос о том, внесет ли это какое-либо потрясение или нет, причем, конечно, разрешали в последнем смысле». Сам же С. Н. Булгаков, как он формулировал, «видел совершенно ясно, знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня». С негодованием писал С. Н. Булгаков о политике кадетов и октябристов в конце 1916 года, в канун Февраля: «В это время в Москве (где жил мыслитель. — В.К.) происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот и говорилось об этом, как о событии завтрашнего дня. Приезжал в Москву А. И. Гучков (лидер октябристов. — В.К.), В. А. Маклаков, суетились и другие спасители отечества». И еще: «Особенное недоумение и негодование во мне вызвали в то время дела и речи кн. Г. Е. Львова, будущего премьера (Временного правительства. — В.К.)… Его я знал… как верного слугу Царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной сивухе, и вдруг его речи на ответственном посту (накануне Февральской революции Г. Е. Львов стал председателем Всероссийского земского союза. — В.К.) зовут прямо к революции… Это было для меня показательным, потому что о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Не иначе настроены были и мои близкие: Н. А. Бердяев бердяевствовал в отношении ко мне и моему монархизму, писал легкомысленные и безответственные статьи о «темной силе»; кн. Е. Н. Трубецкой плыл в широком русле кадетского либерализма и, кроме того, относился лично к Государю с застарелым раздражением… Только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого…» Это булгаковское восприятие политической действительности тогдашней России ничем не отличалось в своих основах от «черносотенного», хотя С. Н. Булгаков никогда не решался объявить себя прямым сторонником последнего. Он писал о руководителях «черносотенцев», что «они исповедовали православие и народность, которые и я исповедовал», но все же «я чувствовал себя в трагическом почти одиночестве в своем же собственном лагере», то есть в лагере «правых». Еще пойдет речь о том, почему С. Н. Булгаков (и, конечно, не только он) не мог в прямом смысле присоединиться к лидерам «организованного черносотенства»; но в то же время совершенно ясно, что его основные представления и убеждения, если определять их место в политическом спектре начала XX века, совпадали именно и только с «черносотенными». Очень характерно его замечание: «Из Госдумы я вышел таким черным, каким никогда не бывал». А вот его восприятие Февральской революции: «…начали ловить и водить переодетых городовых и околоточных с диким и гнусным криком… появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девицы… У меня была смерть на душе… А между тем кругом все сходило с ума от радости… брехня Керенского еще не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна)… Я… знал сердцем, как там, в центре революции ненавидели именно Царя, как там хотели не конституции, а именно свержения Царя, какие жиды (выделено С. Н. Булгаковым. — В.К.) там давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся — до цареубийства включительно — с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как цареубийством, которое есть настоящая черная месса революции. И вот понеслась весть за вестью: Царь отрекся. Одновременно в газетах появились известия об «Александре Федоровне» (по жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться)»{14}. Здесь естественно возникает вопрос о роли еврейства в Революции — вопрос, которого мы еще не касались. С. Н. Булгаков писал позднее об «участии» еврейства в Российской революции: «Чувство исторической правды заставляет признать, что количественно доля этого участия в личном составе правящего меньшинства ужасающа. Россия сделалась жертвой «комиссаров», которые проникли во все поры и щупальцами своими охватили все отрасли жизни… Еврейская доля участия в русском большевизме — увы — непомерно и несоразмерно велика…» И далее: «Еврейство в своем низшем вырождении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении совершило… значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над св. Русью, которое было попыткой ее духовного и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства России…»{15} * * *Но мы еще вернемся к этой острой теме. Сейчас необходимо подвести итоги изложенного выше. С. Н. Булгаков, как ныне, пожалуй, общепризнано, один из наиболее выдающихся представителей русской (да и, конечно, не только русской) духовной культуры начала XX века. А между тем его прямая «перекличка» с умонастроением заведомых «черносотенцев» вполне очевидна. Еще раз повторю: если определять «место», «положение» С. Н. Булгакова в политическом спектре эпохи Революции, — это именно и только «черносотенство». Конечно же, многие сегодняшние прогрессисты и либералы будут резко возражать, пытаясь доказывать, что между даже самыми «правыми» веховцами и, с другой стороны, «черносотенцами» якобы нет ничего общего. В связи с этим уместно обратиться к весьма характерной нынешней статье Владлена Сироткина «Черносотенцы и «Вехи», где предпринята попытка убедить читателей в том, что веховцы в равной мере несовместимы и с «левыми», и с «правыми». Правда, В. Сироткин не умолчал об очень выразительной особенности «Вех»: в этом сборнике сокрушительно развенчивались «левые» (и революционеры, и либералы), но, признает В. Сироткин, — «о черносотенцах там ни слова — народопоклонничество и здесь сыграло роль самоцензуры!». Автор вряд ли до конца осознал смысл своего собственного суждения… Ведь получается, что спровоцированные «левыми» бунты и аграрные беспорядки не являлись, с точки зрения веховцев, выражениями народной воли (именно потому «народопоклонничество» веховцев не мешало им отвергнуть все «левое»), а сопротивление Революции со стороны «черносотенцев» эти виднейшие мыслители, напротив, воспринимали как выражение подлинной народной воли, не подлежащей критике! В это стоит вдуматься… Стремясь, так сказать, окончательно разоблачить «черносотенцев», В. Сироткин пишет о речах Н. Е. Маркова («черносотенный» депутат Государственной думы): «Все это очень напоминало будущие речи Муссолини и Гитлера… И не случайно в своей мракобесной книжке «Война темных сил» Марков позднее восторгался Муссолини»{16}. Плохо осведомленный В. Сироткин явно полагает, что, сообщая об этом, он полностью «отделил» веховцев от «черносотенцев». Однако веховец (и далеко не самый правый) Н. А. Бердяев в одно время с Марковым писал в своей книжке «Новое средневековье»: «Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы… Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы»{17}. Могут возразить, что Бердяев вообще был крайне неустойчивым мыслителем, и у него можно обнаружить самые разные, нередко несовместимые, суждения. Но фашизм с его полным отрицанием «классических» форм демократии — вещь весьма и весьма определенная, конкретная, и одинаковый легкомысленный восторг перед ним ясно свидетельствует, что у Бердяева и Маркова были несомненные общие основы мировосприятия. Словом, попытки Владлена Сироткина и многих других убедить нас в несовместимости идеологии веховцев и «черносотенцев» попросту несерьезны; деятель, в честь которого получил свое имя историк Сироткин, то есть настоящий Владлен, был гораздо более прав, когда в свое время теснейшим образом связывал веховцев и «черносотенцев». В еще большей степени все это относится к тем двум великим мыслителям, которые были «правее» веховцев и с которыми, в частности, тесно сблизился в свои зрелые годы С. Н. Булгаков, — П. А. Флоренскому и В. В. Розанову. Впрочем, вопрос о Розанове даже не требует особого обсуждения, ибо и при жизни, и вплоть до нашего времени его вполне «заслуженно» именуют «черносотенцем». В связи с этим вспоминается один характерный эпизод из недавней литературной жизни. Кличка «черносотенец» не раз была употреблена в обширной статье о Розанове, сочиненной беззаветной современной «либералкой» Аллой Латыниной (см. журнал «Вопросы литературы», № 3 за 1975 год). Вскоре на заседании Приемной комиссии Московской писательской организации решался вопрос о вступлении А. Латыниной в Союз писателей, — притом статья о Розанове рассматривалась в качестве главного «достижения» претендентки. Я, состоявший тогда в сей комиссии, выступил против приема А. Латыниной, однако отнюдь не потому, что она «клеймила» Розанова как «черносотенца». Я говорил о том, что претендентка, увы, пишет о гениальном мыслителе как о некоем сомнительном писаке, якобы специализировавшемся на «политических доносах», «покушавшемся на свободу духа, свободу слова» (это Розанов-то!), проявлявшем «озадачивающую тенденциозность и странную глухоту (!) к художественной природе произведения искусства», «поразительную глубину непонимания (!) Достоевского» и т. д. и т. п. (все это — цитаты из статьи Латыниной…). Я выразил уверенность в том, что через какое-то время самой А. Латыниной будет попросту стыдно за этот свой жалкий опус (это время, думаю, настало; во всяком случае, невозможно представить, чтобы А. Латынина добровольно переиздала это свое «творение»…). Разумеется, мое выступление встретило в Приемной комиссии самый жесткий отпор, и А. Латынина была принята в Союз писателей — прежде всего именно как автор статьи о Розанове. Мое положение в Комиссии стало после этого шатким, а через какое-то время я постыдился промолчать и резко выступил против приема в Союз писателей высокопоставленного графомана — тогдашнего первого замминистра иностранных дел Ковалева, которого «рекомендовали» одновременно два секретаря Союза (хотя это не одобряется Уставом) — Андрей Вознесенский и Егор Исаев. И тогда меня уже вообще вычеркнули из Приемной комиссии… Я же, признаюсь, был весьма рад, что как-то пострадал из-за Розанова, которого теперь издали аж миллионными тиражами (это едва ли мог предвидеть и сам Василий Васильевич!). Сегодня остерегаются называть признанного гениальным мыслителем Розанова «черносотенцем», но он, конечно же, был «крайне правым», хотя в то же время невозможно представить его членом какой-либо партии. Впрочем, как уже не раз говорилось, многие выдающиеся деятели культуры не считали для себя возможным войти в какую-либо политическую организацию. Вместе с тем в высшей степени закономерно, что в 1913 году Розанова изгнали из формально «неполитической» организации — Религиозно-философского общества, творцом которого, кстати сказать, во многом был он сам. И это сделали люди, несовместимые с ним именно в политическом плане (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, А. В. Карташев, Н. А. Гредескул, Е. В. Аничков, А. А. Мейер и т. д.), и Розанов был изгнан именно за его «черносотенство». А в числе его тогдашних защитников были веховец П. Б. Струве и С. А. Аскольдов (Алексеев) — участник позднейшего сборника «Из глубины» (1918), подготовленного к изданию теми же веховцами. Между прочим, «дискриминируя» Розанова, Философов довольно-таки мерзко сказал и о его единомышленнике Флоренском: «Статья (речь шла об одной из «черносотеннейших» статей Розанова. — В.К.) помещена в «Богословском вестнике», органе Московской Духовной Академии… и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе… как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности…»{18} Иначе говоря, гнать надо этого Флоренского из Академии и «Богословского вестника» — как мы выгнали Розанова. Через двадцать лет, в 1933 году, ГПУ отправит П. А. Флоренского в ГУЛАГ по обвинению в «черносотенстве» и «фашизме» (эти слова есть в опубликованных ныне следственных и иных материалах)… И как «поучительна» эта перекличка либеральных витий 1910-х годов и гэпэушников! Но сия линия продолжается еще и сегодня… Так, неведомый мне автор, Леонид Никитин, в 1990 году издал в «демократическом» издательстве «Прометей» брошюру под эффектным названием «Здесь и теперь. Современный опыт философско-религиозного исследования», в которой, в частности, заявлено, что Павел Флоренский — «один из самых ярких ревнителей… ретроградного направления… Значительность и глубину затронутых им проблем нельзя недооценивать, но вместе с тем нельзя, например, не заметить и того, что он громит марбургскую школу неокантианцев (ту самую, которую прошел Пастернак)… почти с тем же непробиваемым пафосом собственной доброкачественности, с которым через 10–15 лет Геббельс открыто назовет их «жидами» и «дегенератами»…» «Ретроградное» здесь, конечно же, синоним «черносотенного», хотя П. А. Флоренский, как явствует из текста, называл марбургских неокантианцев «жидами» и «дегенератами» как-то скрытно — в отличие от Геббельса, который делал это «открыто». Но что скажет тов. Никитин о поэте, писавшем 19 июля 1912 года из самого Марбурга об этих самых неокантианцах: «Ах, они не существуют… Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма». Ведь так написал именно тот Б. Л. Пастернак (см. его книгу: «Воздушные пути». М., 1982, с. 7), который для тов. Никитина является своего рода высшим критерием ценности марбургской школы (ведь она «та самая, которую прошел Пастернак»). Тов. Никитин может возразить, что позднее, в «Охранной грамоте», Б. Л. Пастернак употреблял по отношению к главе сей школы слово «гениальный». Но тов. Никитин все же не сумел понять пастернаковский текст, насквозь проникнутый иронией; в этом тексте вместо подлинной творческой гениальности вдруг предстает как бы «реальный дух математической физики», — то есть, если угодно, интеллектуальное животное (употребляя юношеское пастернаковское слово — «скот»). И, вопреки тов. Никитину, Пастернак, в сущности, отказался «проходить» школу Марбурга: всего через несколько недель после начала соприкосновения с ней (прерываемого к тому же бурным романом и поездкой в Италию) он с явным отталкиванием от нее и даже, пожалуй, отвращением бежал из Марбурга в Москву… Это отнюдь не значит, что Пастернак недооценивал марбургскую философскую школу; ее методологические, «инструментальные» достижения очевидны и в известном смысле уникальны (их очень высоко ценил, в частности, М. М. Бахтин). Но, если выразиться попросту, в этой философии не было почти ничего «для души». Поэтому Пастернак и сказал о марбургских философах, что они «не существуют», а этот «приговор» вполне можно выразить по-другому: они дегенерировали, утратили основное в человеке («скоты»). Словом, если тов. Никитину угодно видеть в суждениях Флоренского «скрытый» смысл, подобный смыслу суждений Геббельса, то он должен, обязан охарактеризовать точно так же и суждения Пастернака… Впрочем, все здесь обстоит гораздо проще: тов. Никитин, в силу или отсутствия способностей, или недостаточной подготовленности, по сути дела, не понимает ни Флоренского, ни Пастернака, ни марбургскую школу; он только наклеивает не им придуманные ярлыки оценок (и негативных, и позитивных). Но пора бы ему все же понять самую малость: до предела постыдно ставить в один ряд с Геббельсом человека, который был загублен в результате аналогичного лживого обвинения… Это, кстати сказать, неизмеримо хуже, чем быть «интеллектуальным скотом»… * * *Вернемся еще раз к вопросу о непосредственном участии людей с «черносотенной» идеологией в соответствующих «организациях». Прославленный живописец В. М. Васнецов, получив предложение стать одним из членов-учредителей «черносотенного» Русского собрания, писал в своем ответном послании: «По существу я не имел бы ничего против; но дело в том, что на моей ответственности на долгие годы лежит столь серьезная художественная задача, что я все свои духовные и физические силы обязан сосредоточить на выполнении ее… Кроме того, работы эти, мне кажется, вполне соответствуют (выделено мною. — В.К.) тем задачам, выполнение которых поставило себе целью «Русское собрание»…»{19} В. М. Васнецов исключительно высоко ценил деятельность В. А. Грингмута, Л. А. Тихомирова, В. Л. Кигна (Дедлова) и других виднейших «черносотенцев». По его превосходному рисунку была изготовлена торжественная хоругвь (род знамени) Русской монархической партии. Близкий Васнецову великий живописец М. В. Нестеров преклонялся перед сочинениями «черносотенного» епископа Антония (Храповицкого). Он, в частности, сравнивал его и так же чрезвычайно высоко ценимого им В. В. Розанова, который, по его выражению, «кладет камень за камнем в подготовке больших и смелых решений в религиозных вопросах. Теперь по Руси немало таких, как он, и наисильнейший и наиболее обаятельный… епископ Уфимский и Мензелинский Антоний (Храповицкий)»{20}. Впоследствии, 19 октября 1917 года, Нестеров сообщал: «Сейчас пишу архиепископа Антония (Храповицкого), возможного патриарха Всероссийского» (там же, с. 277). Этот превосходный портрет хранится ныне в Третьяковской галерее. Поскольку Антоний — один из «проклятых», искусствоведы, пишущие о Нестерове, пытаются утверждать, что художник-де в этом портрете «разоблачал» архиепископа. Так, в одной из книг о творчестве Нестерова читаем: «Уже в 1909 году В. И. Ленин называл Антония Волынского «владыкой черносотенных изуверов»…» Поэтому на нестеровском портрете предстает, мол, «властное и неприятное лицо человека… полного жажды власти и гордыни… Холеные, породистые, почти сжатые в кулак и вместе с тем как бы покоящиеся на архиерейском жезле руки» и т. д.{21}. Это, конечно же, всецело тенденциозное «толкование» портрета. Тут уместно вспомнить зарисовку Антония, сделанную в мемуарах знаменитого лидера «партии националистов» В. В. Шульгина. Он не знал полотна Нестерова, но зато в 1909 году присутствовал на встрече епископа Антония с Николаем II: «Этот архиерей имел удивительно представительную внешность. Некоторые говорили, что он похож на Бога Саваофа, как его представляют себе в простоте души своей народные богомазы. В величественной лиловой мантии он стоял перед Царем, опираясь обеими руками на свой пастырский посох. Он говорил об отношениях монарха и Государственной думы…»{22} Этот «словесный портрет» близок к нестеровскому только в последнем, — оконченном уже после большевистского переворота, — есть черты глубочайшего страдания и скорби, но очевидна и непреклонность. И то, что советский искусствовед обозначает словами «жажда власти» и «гордыня», в действительности есть вера в конечную победу и презрение к насильникам. В связи с портретом архиепископа Антония необходимо напомнить, что в том же 1917 году (летом) Нестеров написал двойной портрет «Мыслители», на котором запечатлены С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский, а также собирался создать еще портрет В. В. Розанова, но вынужден был отказаться от намерения, ибо гениальный мыслитель и писатель был уже тяжко болен и, как вспоминал М. В. Нестеров позднее в своем ярком очерке «В. В. Розанов», «разрушался, и мало было надежд воскресить в нем былое. Время для такого портрета прошло, прошло безвозвратно…»{23} «Выбор» героев своих полотен, сделанный в 1917 году крупнейшим русским живописцем начала XX века (я вовсе не хочу умалять достоинства М. А. Врубеля, В. А. Серова или более молодого Б. М. Кустодиева, но первенство М. В. Нестерова все же неоспоримо), сам по себе очень много значит. Проникновенное чутье художника избрало этих четырех наиболее глубоких духовных вождей русской культуры эпохи Революции… Рядом с ними неизбежно отходят на второй план все остальные (включая даже и других участников сборника «Вехи» — не говоря уже о либеральных и революционных идеологах). Никто из них — сейчас это уже более или менее ясно каждому беспристрастному наблюдателю — не может быть поставлен в один ряд с Розановым, Флоренским, С. Н. Булгаковым и митрополитом Антонием (Храповицким). Либеральные идеологи — будь то П. Н. Милюков или М. М. Ковалевский, Д. С. Мережковский или Л. Шестов, и даже философ Е. Н. Трубецкой — не поднимались и не могли подняться до этого уровня (о революционных идеологах и говорить не приходится — их мышление было попросту примитивным). Одна из важнейших причин «первенства» консервативных идеологов кроется в проблеме культурного «наследства». Вопрос о наследстве был остро поставлен, в частности, в сборнике «Вехи» и полемике вокруг него. Тот же С. Н. Булгаков (как и прямые «черносотенцы») считал необходимым продолжать дело Киреевского, Гоголя, Хомякова, Тютчева, братьев Аксаковых, Самарина, Достоевского, Страхова, Леонтьева, которые основывались на «триаде» православия, самодержавия и народности. «Учителями» же его противников были поздний Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Лавров, Шелгунов и т. п. Ныне любой мыслящий человек понимает, что с точки зрения культуры первые представляют собой не просто «более выдающихся», но явления совершенно иного, высшего порядка. Однако в начале XX века либералы (не говоря уже о революционерах) вообще не изучали (да и не имели достаточной подготовки, чтобы изучить и понять) этих крупнейших мыслителей России; в их глазах они являли собой чуждых и враждебных «реакционеров». Впрочем, это была уже давно, еще в XIX веке, сложившаяся и безусловно господствующая тенденция, о которой резко, но совершенно точно писал, например, веховец С. Л. Франк в книге «Крушение кумиров»: «…сколько жертв вообще было принесено на алтарь революционного или «прогрессивного» общественного мнения!.. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые приходящие в голову самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — нет числа!»{24} Все это привело к поистине диким результатам, рельефно отразившимся, например, в следующем факте. В начале XX века не раз издавался «Опыт библиографического пособия» — «Русские писатели XIX–XX ст.», составленный влиятельным «прогрессивным» книговедом И. В. Владиславлевым. Это «пособие» (которое по охвату имен значительно шире названия, так как в нем представлены не только писатели в узком смысле — то есть художники слова, — но и многие важнейшие с точки зрения составителя «идеологи») было, так сказать, «вратами культуры» для всей «прогрессивной» интеллигенции. И вот что прямо-таки замечательно: в дореволюционных изданиях этого «пособия» (1909 и 1913 годы) имя Константина Леонтьева (хотя он, между прочим, опубликовал ряд романов и повестей) вообще отсутствует! А между тем в «пособии» множество имен заурядных и просто ничтожных — но зато «прогрессивных»! — идеологов — современников гениального мыслителя (М. Антонович, К. Арсеньев, В. Берви-Флеровский, В. Зайцев, А. Скабичевский, С. Шашков, Н. Шелгунов и т. д.), чьи сочинения ныне и читать-то невозможно. Точно так же отсутствует в «пособии» и имя Розанова, хотя есть целый ряд имен его менее, гораздо менее или прямо-таки несоизмеримо менее значительных современников, — таких, как А. Айхенвальд, А. Богданович, С. Венгеров, А. Волынский, А. Горнфельд, Р. Иванов-Разумник, П. Коган, В. Кранихфельд, А. Луначарский, В. Львов-Рогачевский, А. Ляцкий, Е. Соловьев-Андреевич, В. Фриче, Л. Шестов и т. п. Эти авторы, в отличие от Розанова, были так или иначе связаны с кадетами, или эсерами, или социал-демократами. Любопытно, что в послереволюционное издание своего «пособия» (1918) Владиславлев, — видимо, слегка «поумнев», — включил и Леонтьева, и Розанова. Но, конечно, для начала XX века характерно не только прискорбное «замалчивание» ценнейшего наследства русской культуры, а и жестокая борьба против него. Вот весьма впечатляющий рассказ В. В. Розанова: «— Нужно преодолеть Достоевского, — это взял темою себе в памятной речи, посвященной Достоевскому, в Религиозно-Философском собрании (должно быть, в 1913 или 1914 году) Столпнер{25}. — Диалектика, философия и психология всего Достоевского… такова, что пока она не опрокинута, пока не показана ее ложность, дотоле русский человек, русское общество, вообще Россия — не может двинуться вперед… Шестов, тоже еврей, сидя у меня, спросил: — К какой бы из теперешних партий примкнул Достоевский, если бы был жив? Я молчал. Он продолжал: — Разумеется, к самой черносотенной партии, к Союзу русского народа и «истинно русских людей». Догадавшись, я сказал: — Конечно. Не забудем, что… Достоевский стал на сторону мясников, поколотивших студентов в Охотном ряду (Москва). На бешенство печати он сказал, обращаясь, собственно, к студентам: «Мясником был и Кузьма Минин-Сухорукий». Достоевский еще не пережил 1-го марта (то есть убийства Александра II. — В.К.). Можно представить себе ярость, какую бы он после этого почувствовал… Но достаточно и мясников: он очевидно бы примкнул к тем, кто после 17 октября и «великой забастовки» (1905 года. — В.К.) начал громить интеллигенцию в Твери, в Томске, в Одессе»{26}. Стоит добавить к этому, что вдова Достоевского, благороднейшая Анна Григорьевна, стремившаяся так или иначе продолжать его деятельность, сочла своим долгом стать действительным членом «черносотенного» Русского собрания… Нельзя умолчать о характерной и по-своему забавной ситуации, в которой оказались сегодня, сейчас «прогрессистские» идеологи: с одной стороны, они яростно борются против «консерваторов», но в то же время они не могут теперь не сознавать, что почти все наиболее выдающиеся идеологи России XIX века были отнюдь не «прогрессистами»; последние за редким исключением являли собой нечто заведомо «второсортное». Ныне просто невозможно всерьез изучать сочинения Добролюбова, Чернышевского, Писарева и т. п., чего никак не скажешь о Леонтьеве, Данилевском, Ап. Григорьеве. И возникает диковатый парадокс: многие теперешние «прогрессисты» выше всего ценят в прошлом мыслителей именно того «направления», которое сегодня они с пеной у рта отрицают… Примечания:ПРИМЕЧАНИЯ >К главе первой «Кто такие «черносотенцы»? id="c1_1">1) Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. М., 1959, т. VI, с. 157, 159, 165. id="c1_2">2) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 9. id="c1_3">3) Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 18. id="c1_4">4) Степанов С. А., указ. соч., с. 226. id="c1_5">5) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М., Л., 1963, т. 7, с. 14. id="c1_6">6) Звенья. Исторический альманах. Выпуск 2. М. — СПб., 1992, с. 342. id="c1_7">7) Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 15, 16. id="c1_8">8) Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973, с. 69. id="c1_9">9) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 230. id="c1_10">10) Гиппиус Зинаида. Живые лица. Воспоминания. Тб., 1991, с. 26, 28. id="c1_11">11) Интеллигенция в России. Сборник статей. СПб., 1910, с. 130, 113, 171, 191. id="c1_12">12) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 302, 300. id="c1_13">13) Цит. по кн.: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 182. id="c1_14">14) Булгаков С. цит. изд., с. 310, 300, 302, 313. id="c1_15">15) Булгаков Сергей, прот. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991, с. 121, 137. id="c1_16">16) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. Очерки и публицистика. М., 1991, с. 58, 49. id="c1_17">17) Бердяев H. Л. Новое средневековье. М., 1991, с. 46. id="c1_18">18) См.: «Наш современник», 1990, № 10, с. 112. id="c1_19">19) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 183. id="c1_20">20) Нестеров М. В. Письма. Избранное. М., 1988, с. 198. id="c1_21">21) Никонова И. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1962, с. 101. id="c1_22">22) Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 92. id="c1_23">23) Михаил Васильевич Нестеров. 1862–1942. М., 1990, с. 92. id="c1_24">24) Франк С. Л. Сочинения. М., 1990, с. 154. id="c1_25">25) Столпнер Б. Г. (1871–1967) — лектор и переводчик в области философии, с 1920 г. — профессор. id="c1_26">26) Розанов В. В. Мимолетное, 1915. См.: «Начала», 1992, № 3, с. 21. >К главе второй «Что такое Революция?» id="c2_1">1) Розанов В. В. Из воспоминаний и мыслей об А. С. Суворине. М., 1992, с. 18. id="c2_2">2) Тэри Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор. Paris, 1986, с. 1. id="c2_3">3) Назаров А. И. Книга в советском обществе. М., 1964, с. 28. id="c2_4">4) «Вопросы философии», 1990, № 8, с. 133, 134–135, 136. id="c2_5">5) Федотов Г. П. Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989, с. 99–100. id="c2_6">6) Там же, с. 91. id="c2_7">7) Бердяев H. Душа России. М., 1990, с. 12, 14. id="c2_8">8) Токвиль. Старый порядок и Революция. М., 1905, с. 196–197. id="c2_9">9) См.: Миронов Б. H. История в цифрах. Л., 1992, с. 136. id="c2_10">10) Там же, с. 82, 83. id="c2_11">11) «Вопросы истории», 1992, № 2–3, с. 82. id="c2_12">12) Родионов И. А. Два доклада. СПб., 1912, с. 79, 77, 71. id="c2_13">13) Цит. по кн.: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. Мюнхен, 1949, т. II, с. 256, 257. id="c2_14">14) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. М., 1990, с. 40. id="c2_15">15) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. М., 1988, с. 30. id="c2_16">16) Деникин А. И. Поход на Москву. М., 1989, с. 75, 76. id="c2_17">17) Разгром Колчака. Воспоминания. М., 1969, с. 242. >К главе третьей «Неправедный суд» id="c3_1">1) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 270. id="c3_2">2) Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977, с. 280. id="c3_3">3) Булгаков С. Н., цит. изд., с. 28. id="c3_4">4) Палеолог Морис. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 265, 291. id="c3_5">5) Цит. по кн.: Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 334. id="c3_6">6) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914). М., 1992, с. 91. id="c3_7">7) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 172. id="c3_8">8) Журн. «Родина», 1992, № 2, с. 20. id="c3_9">9) Обнинский В. П. Новый строй. М., 1909, с. 18. id="c3_10">10) Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991, с. 281–283. id="c3_11">11) «Исторические записки». М., 1971, т. 91, с. 269–270. id="c3_12">12) Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…» СПб., 1992, с. 234. id="c3_13">13) Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991, с. 150. Эти воспоминания известны С. А. Степанову только по цитатам в других работах (ср. с. 92 и 118 его книги). id="c3_14">14) Шульгин В. В. цит. соч., с. 235. id="c3_15">15) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 325. id="c3_16">16) Цит. по кн.: Яковлев Н. 1 августа 1914. М., 1974, с. 141. id="c3_17">17) Милюков П. Н. цит. соч., с. 445. id="c3_18">18) Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920). М., 1982, с. ПО, 114, 117. Историк, правда, назвала здесь великого герцога Гессенского и Рейнского «принцем». id="c3_19">19) Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е издание, т. 34, с. 348. id="c3_20">20) «Вопросы истории», 1991, № 7–8, с. 154. id="c3_21">21) Цит. по кн.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 136. id="c3_22">22) Цит. по кн.: Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 267. id="c3_23">23) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 335–336. id="c3_24">24) Аврех А. цит. соч., с. 134–135. id="c3_25">25) Булгаков С. Н. цит. соч., с. 300, 308. (Выделено мною. — В.К.) id="c3_26">26) Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989, с.153. id="c3_27">27) Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной Думы. М., 1932, с. 284. >К главе четвертой «Правда о погромах» id="c4_1">1) Inquisition and Society in Early Modern Europe. London, 1987, p. 10–25. id="c4_2">2) Гессен Ю. История еврейского народа в России. Москва-Иерусалим, 1993, с. 217–218; Он же. Погромы в России. ЕЭ, т. 12, с. 612 и след. id="c4_3">3) См.: Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. II. Восьмидесятые годы. Прг. —М., 1923, с. 529–542. id="c4_4">4) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I. Прг., 1919, с. 135–137. id="c4_5">5) «Литературная учеба», 1992, № 1–3, с. 114–115. id="c4_6">6) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. 1,с. 354–355. id="c4_7">7) Сироткин В. Так кто же раскручивает «кровавую карусель»? В кн.: Резник С Кровавая карусель. М., 1991, с. 209, 214. (Курсив мой. — В.К.) id="c4_8">8) Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 68. id="c4_9">9) Малая Советская Энциклопедия. М., 1931, т. 6, с. 627–628. id="c4_10">10) Еврейская Энциклопедия, т. 12, с. 618, 622; в последней цитируемой фразе я опустил упоминание о том, что погром произошел в 1906 году еще и в Гомеле — притом здесь же дана такая отсылка: «см. Гомельский процесс, Евр. Энц., т. 6, с. 666–667». По-видимому, слово «Гомель» вставил не автор статьи — весьма точный человек, — а какой-нибудь редактор, не обративший внимание на тот факт, что в 1906 году завершился судебный процесс по делу о гомельском погроме, а сам-то погром состоялся еще в 1903 году (см. указанную статью в 6-м томе ЕЭ). id="c4_11">11) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 8. id="c4_12">12) Левицкий В. Правые партии. В кн.: Общественное движение в России в начале XX века. СПб., 1914, т. III, кн. 5, с. 392. id="c4_13">13) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I, с. XII. id="c4_14">14) Малая Советская Энциклопедия, т. 6, с. 628. id="c4_15">15) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 92, 171. id="c4_16">16) «Родина», 1992, № 2, с. 19. id="c4_17">17) Laqueur Walter. Stalin. The Glasnost Revelations. N.Y., 1990, p. 247. id="c4_18">18) Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 120. id="c4_19">19) Государственная Дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия IV. СПб., 1911, ч. III, стб. 3146. id="c4_20">20) Цит. по кн.: Кузьмичев А., Петров Р. Русские миллионщики. Семейные хроники. М., 1993, с. 108. >К главе пятой «Истинная причина травли «черносотенцев» id="c5_1">1) Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History. Cambridge University Press, 1992. id="c5_2">2) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 2, с. 232. id="c5_3">3) Там же, с. 233. (Курсив мой. — В.К.) id="c5_4">4) «Родина», 1994, № 1, с. 25. id="c5_5">5) Цит. по кн.: Марков Н. Е. Войны темных сил. М., 1993, с. 147. id="c5_6">6) См.: Минувшее. Исторический альманах, 14. М. — СПб., 1993, с. 145–225. id="c5_7">7) См.: Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 146. id="c5_8">8) «Наш современник», 1991, № 9, с. 90, 93. id="c5_9">9) Жаботинский Владимир (Зеев). Избранное. Иерусалим-Санкт-Петербург, 1992, с. 74–75. id="c5_10">10) «Исторический архив», 1993, № 4, с. 220. id="c5_11">11) «Российский архив», IV. М., 1993, с. 6. id="c5_12">12) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 271. id="c5_13">13) Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991, с. 237. id="c5_14">14) Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992, Т. 2, с. 43. id="c5_15">15) Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981, с. 227. id="c5_16">16) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 213. id="c5_17">17) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 147. id="c5_18">18) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 104. id="c5_19">19) Русские писатели… Т. 2, с. 44. id="c5_20">20) Цит. по кн.: Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978, с. 132. id="c5_21">21) Цит. по журн.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 152. id="c5_22">22) Аврех А. Я. П. А. Столыпин…, с. 226–227. id="c5_23">23) Жаботинский., цит. соч., с. 72, 73. id="c5_24">24) См.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 151. id="c5_25">25) Жаботинский, цит. соч., с. 122. id="c5_26">26) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. М., 1991, с. 52. id="c5_27">27) Карсавин Л. П. Россия и евреи. В кн.: Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX века. СПб, 1993, с. 407. В 1928 году статья впервые опубликована в эмигрантском журнале «Версты», одним из редакторов которого был муж М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрон. id="c5_28">28) Шафаревин И. Р. Сочинения. В трех томах. М., 1994, т. 2, с. 142–143, 158. id="c5_29">29) Нежный Александр. Комиссар дьявола. М., 1993, с. 7. id="c5_30">30) Марков Н. Е., цит. соч., с. 121. id="c5_31">31) Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 61. id="c5_32">32) Альбац Евгения. Мина замедленного действия. (Политический портрет КГБ). М., 1992, с. 129–130. id="c5_33">33) Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав. М., 1992, с. 162, 204. id="c5_34">34) Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1983, т. 25, с. 86. (Выделено автором.) id="c5_35">35) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1994, № 1, с. 42. id="c5_36">36) СССР в цифрах. М., 1935, с. 273. id="c5_37">37) Бела Моте. Мир Жаботинского. Иерусалим — Москва, 1992, с. 153. id="c5_38">38) См., напр.: «Наш современник», № 6 за 1990 г. и № 9 за 1991 г. и мою книгу «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» (М., 1990, с. 221–246). >К глава шестой «Что же в действительности произошло в 1917 году?» id="c6_1">1) Войсковые комитеты действующей армии. Март 1917 г. — март 1918 г. М., 1981, с. 18. id="c6_2">2) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 207. id="c6_3">3) Цит по кн.: Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 69. id="c6_4">4) Деникин А. И. Очерки русской смуты. «Вопросы истории», 1990, № 8, с. 78. id="c6_5">5) Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1990, т. 1, с. 53. id="c6_6">6) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М.-Л., 1963, т. 8, с. 498. id="c6_7">7) Блок Александр. Записные книжки 1901–1920. М., 1965, с. 379, 380. id="c6_8">8) См.: Бонч-Бруевич Вл. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине. Журн. «Звезда», 1930, с. 182–183 (перепечатано в кн.: «За кулисами видимой власти». М., 1984, с. 94–96); Яковлев H. 1 августа 1914. М., 1974; Старцев В. И. Революция и власть. М., 1978; Он же. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980; За кулисами видимой власти. М., 1984; Старцев В. И. Российские масоны XX века. «Вопросы истории», 1989, № 6; Русское политическое масонство. 1906–1918 гг. (Документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира). «История СССР», 1989, № 6 и 1990, № 1; Замойский Лоллий. За фасадом масонского храма. Взгляд на проблему. М., 1990; Старцев Виталий. Что могут масоны. Газ. «Экономика сегодня и завтра». М., 1992, № 1, 1993, № 1. Определенные итоги изучения масонства подведены в издании: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; здесь освещена масонская принадлежность многих главных «героев Февраля». Основная эмигрантская и иностранная литература о российском масонстве XX века указана в статье В. И. Старцева в журн. «Вопросы истории», 1989, № 6 (см. сноски к с. 34–38). id="c6_9">9) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 94, 96. id="c6_10">10) Так, виднейшие русские историки В. О. Ключевский и, вслед за ним, С. Ф. Платонов убедительно объяснили явление пугачевщины указами Петра III и Екатерины II о «вольности дворянской», которые расшатали наиболее широкую опору власти и, с другой стороны, породили «законное» стремление к вольности в крестьянстве. id="c6_11">11) В ноябре 1824 года Пушкин писал своему брату Льву из Михайловского: «…пришли мне… Жизнь Емельки Пугачева» (Пушкин А. С. Письма. М.-Л., 1926, т. 1, с. 96); имелась в виду единственная тогда книга о Пугачеве (переведенная с немецкого), которую, впрочем, Пушкин позднее назвал «глупым романом». id="c6_12">12) «Вопросы истории», 1990, № 9, с. 103–104. id="c6_13">13) Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983, с. 233. id="c6_14">14) Цит. по журн.: «Согласие», 1993, № 2, с. 213–214. id="c6_15">15) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 421–422. id="c6_16">16) Бунин И. А. Собрание сочинений. Берлин, 1935, т. X, с. 165. id="c6_17">17) Блок Александр. Собрание сочинений. Т. 7, с. 330. id="c6_18">18) Блок Александр. Записные книжки… с. 394. id="c6_19">19) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 102. id="c6_20">20) Станкевич В. Б. Революция. В кн.: Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991, с. 239. id="c6_21">21) Бернштам Михаил. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992, с. 21. id="c6_22">22) Бернштам Михаил., цит. соч., с. 41; Спирин Л. М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.). М., 1968, с. 180. id="c6_23">23) Иллерицкая Е. В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России. М., 1981, с. 119. id="c6_24">24) Минувшее. Исторический альманах. I. М., 1990, с. 309. id="c6_25">25) Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993, с. 307, 308, 309. id="c6_26">26) Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М. — СПб., 1992, с. 354. id="c6_27">27) Цит. по кн.: Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. Свердловск, 1991, с. 90. id="c6_28">28) Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 1927, с. 163. id="c6_29">29) Дневники императора Николая II. М., 1991, с. 625. id="c6_30">30) Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986, с. 36–39, 58–60. id="c6_31">31) «История СССР», 1990, № 1, с. 153. id="c6_32">32) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 92. id="c6_33">33) Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991, с. 213. Необходимо отметить, что и самого великого князя Александра Михайловича Н. Н. Берберова причислила к масонству; в действительности же он участвовал в своего рода придворной игре — «Ложе филалетов», в которую, как сообщала сама Н. Н. Берберова, «принимали всех, кто хотел» (с. 23). Никакого отношения к политике эта «ложа» не имела и не могла иметь. id="c6_34">34) Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993, с. 9. id="c6_35">35) «Военно-исторический журнал», 1967, № 5, с. 113. id="c6_36">36) Командующий Балтийским флотом адмирал А. И. Непенин считал себя продолжателем дела декабристов и готовился к перевороту; по известной логике «за что боролись…» он был уже 4 марта 1917 года убит взбунтовавшимися матросами… id="c6_37">37) Старцев В. Я. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 248. id="c6_38">38) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 118, 169, 233–234. id="c6_39">39) Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1933, с. 166. id="c6_40">40) Белая Россия. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937 г. Репринт — СПб., 1991, с. 123, 11, 17, 60. id="c6_41">41) Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992, с. 40. id="c6_42">42) «Вопросы истории», 1993, № 10, с. 113–114. id="c6_43">43) Леховин Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992, с. 22. id="c6_44">44) Цит. по кн.: Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983, с. 16. id="c6_45">45) См.: Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак. «Вопросы истории», 1991, № 1, с. 61. id="c6_46">46) Гуль Р. Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Будберг А. Дневник. М., 1990, с. 252. id="c6_47">47) Цит. по кн.: Думова H. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.). М., 1982, с. 337. id="c6_48">48) Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 54. id="c6_49">49) Поскольку в 1918–1922 годах не велась статистика новорожденных, невозможно достоверно выяснить количество умерших детей. id="c6_50">50) Кожинов Вадим. Жертвы насилия. Истинные наши потери с 1917 по 1941 год. «Москва», 1994, № 6, с. 126–129. id="c6_51">51) Малая Советская Энциклопедия. М., 1929, т. 1, с. 703. id="c6_52">52) Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. СПб., 1992, с. 123. id="c6_53">53) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг. М., 1988, с. 196. id="c6_54">54) Источник. Документы русской истории. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». М., 1993, № 2, с. 27. id="c6_55">55) Цит. изд., 1993, № 3, с. 13. id="c6_56">56) См.: Кавтарадзе А. Г., цит. соч., с. 174. id="c6_57">57) Великий князь Александр Михайлович, цит. соч., с. 256–257. id="c6_58">58) Как пишет, основываясь на многолетнем исследовании проблемы, В. И. Старцев, в масонство — разумеется, еще до 1917 года — входили только «двое большевиков — вероятно, в качестве наблюдателей. Это были С. П. Середа из Рязани и И. И. Скворцов-Степанов из Москвы» («Экономика сегодня и завтра», 1993, № 1, с. 28). После же Октября никаких реальных контактов большевиков и масонов не обнаруживается. id="c6_59">59) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы (с предисловием А. Г. Кавтарадзе). М., 1990, с. 146, 147. id="c6_60">60) Деникин А. И. Поход на Москву…, с. 48. id="c6_61">61) Цит. по кн.: История советской литературы. Новый взгляд. М., 1990, ч. 2, с. 28. id="c6_62">62) Лакер Уолтер. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994, с. 64. id="c6_63">63) См. библиографию в журн.: «Вопросы истории», 1989, № 6, с. 35–38. id="c6_64">64) Аврех А. Я. Масонство и революция. М., 1990, с. 18. >Примечания к историософскому приложению: О визаитийском и монгольском «наследствах» в судьбе России id="c7_1">1) Тихомиров М. И. Русская культура X–XVIII вв. М., 1968, с. 131. id="c7_2">2) Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980, с. 250–252. id="c7_3">3) Из произведений патриарха Фотия. — В кн.: Материалы по истории СССР. Вып. 1. М., 1985, с. 267–270. id="c7_4">4) Гегель. Сочинения. М., 1935, т. VIII, с. 323, 318 (далее — по этому же изданию). id="c7_5">5) Гердер Иоганн Готфрид. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 499 (далее — по этому же изданию). id="c7_6">6) Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991, с. 317 (далее — по этому же изданию). id="c7_7">7) Цит. изд., с. 499. id="c7_8">8) Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза. М., 1989, с. 322. id="c7_9">9) Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности. «Новый мир», 1988, № 7, с. 214. id="c7_10">10) Леонтьев Константин. Записки отшельника. М., 1992, с. 29, 32, 33. id="c7_11">11) Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991, т. 1, с. 533 (далее — по этому же изданию). id="c7_12">12) Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994, с. 392, 398, 443. id="c7_13">13) Коленкур Арманд. Поход Наполеона в Россию. М., 1943, с. 220. id="c7_14">14) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 579. id="c7_15">15) Маркс Карл. Разоблачение дипломатической истории XVIII века. «Вопросы истории», 1989, № 4, с. 3. id="c7_16">16) Там же. id="c7_17">17) Гегель, цит. изд., с. 85. id="c7_18">18) Там же, с. 110. id="c7_19">19) Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1975, т. 1, с. 314. id="c7_20">20) Тойнби, цит. изд., с. 250. id="c7_21">21) Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М, 1989, с. 213. id="c7_22">22) Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М, 1892 с. 137. id="c7_23">23) Барбаро и Контарини о России. Л., 1971, с. 226. id="c7_24">24) Казанская история. В кн.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М, 1985, с. 462. Эти сведения из «Казанской истории» или, иначе, «Казанского летописца», кажутся некоторым исследователям недостоверными, ибо господствует мнение о непримиримой борьбе Руси с остатками Монгольской империи. Так, комментаторы новейшего издания «Казанского летописца» Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева утверждают, что упомянутые царевичи-чингизиды «на самом деле в походе на Казань не участвовали». Они не отрицают, что чингизид Шигалей (Шах-Али) принимал участие в походе, ибо об этом сообщают многие источники. Но об остальных чингизидах сведения есть только в наиболее обстоятельном «Казанском летописце», и потому комментаторы подвергают их сомнению. Между тем этот летописец создавался вскоре после событий (в 1564–1565 гг.), когда большинство участников похода еще были живы, и неосновательно предполагать, что в рассказ о Казанском походе 1552 года вошли заведомо ложные сведения о целом ряде всем известных людей. Такое случалось только в произведениях, создававшихся намного позже описываемых событий. Словом, сомнение комментаторов продиктовано, очевидно, неверным представлением о характере взаимоотношений Руси и сходившей с исторической сцены монгольской власти над Евразией. id="c7_25">25) «Вопросы истории», 1994, № 1, с. 182 (перевод видного историка В. Н. Виноградова). id="c7_26">26) Цит. по кн.: Нестеров Ф. Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., 1980, с. 107–108. id="c7_27">27) 27. См.: Ашукин Н. С.,Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1966, с. 676–677. ПРИМЕЧАНИЯ >К главе первой «Кто такие «черносотенцы»? id="c1_1">1) Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. М., 1959, т. VI, с. 157, 159, 165. 2) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 9. 3) Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 18. 4) Степанов С. А., указ. соч., с. 226. 5) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М., Л., 1963, т. 7, с. 14. 6) Звенья. Исторический альманах. Выпуск 2. М. — СПб., 1992, с. 342. 7) Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 15, 16. 8) Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973, с. 69. 9) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 230. 10) Гиппиус Зинаида. Живые лица. Воспоминания. Тб., 1991, с. 26, 28. 11) Интеллигенция в России. Сборник статей. СПб., 1910, с. 130, 113, 171, 191. 12) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 302, 300. 13) Цит. по кн.: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 182. 14) Булгаков С. цит. изд., с. 310, 300, 302, 313. 15) Булгаков Сергей, прот. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991, с. 121, 137. 16) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. Очерки и публицистика. М., 1991, с. 58, 49. 17) Бердяев H. Л. Новое средневековье. М., 1991, с. 46. 18) См.: «Наш современник», 1990, № 10, с. 112. 19) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 183. 20) Нестеров М. В. Письма. Избранное. М., 1988, с. 198. 21) Никонова И. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1962, с. 101. 22) Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 92. 23) Михаил Васильевич Нестеров. 1862–1942. М., 1990, с. 92. 24) Франк С. Л. Сочинения. М., 1990, с. 154. 25) Столпнер Б. Г. (1871–1967) — лектор и переводчик в области философии, с 1920 г. — профессор. 26) Розанов В. В. Мимолетное, 1915. См.: «Начала», 1992, № 3, с. 21. Как-то так получилось, что слово «черносотенцы» («черная сотня») стало бранным. А ведь это словосочетание вошло в русские летописи с начала XII века. Черные, или земские, сотни не раз защищали Отечество наше в тяжкие времена. Было так на Куликовом поле, было и в 1612 году, когда, собравшись вокруг Минина, они спасали Москву и всю Россию от поляков и изменников. Не пора ли реабилитировать их сейчас, когда Россия снова оказалась у черты, за которой бездна небытия? Книга выдающегося мыслителя, писателя, историка Вадима Кожинова (1930–2001) призвана выполнить такую миссию. 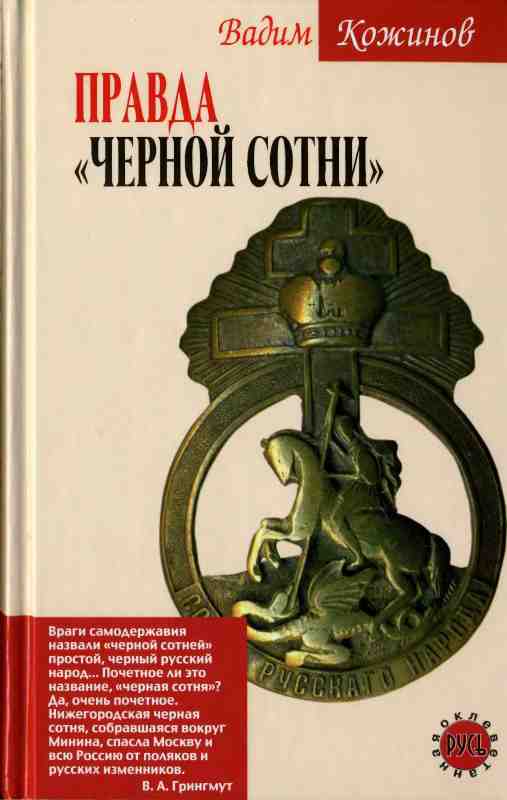 1.0 — создание файла В. В. Кожинов Правда «Черной сотни» >ВВЕДЕНИЕ О возможной точке зрения на Российскую революцию История России в нашем столетии являет собой прежде всего историю Революции. Я пишу это слово с заглавной буквы (так, между прочим, писал его полтора столетия назад в своих историософских стихотворениях и статьях Ф. И. Тютчев, хотя он имел в виду, понятно, европейскую — прежде всего французскую — Революцию, развертывавшуюся с 1780-х по 1870-е годы), ибо речь идет не о каких-либо, пусть значительнейших, но все же отдельных революционных событиях, свершившихся в 1905, 1917, 1929-м и т. п. годах, а о многосторонней, но в конечном счете целостной исторической динамике, определившей путь России с самого начала нашего века и до сего дня. Два года назад исполнилось 80 лет со времени «пика» Революции — Февральского и Октябрьского переворотов 1917 года; срок немалый, но едва ли есть основания утверждать, что историки выработали действительно объективное, беспристрастное понимание хода событий. И, конечно, мое сочинение — это именно и только опыт исследования, но, надеюсь, в той или иной степени пролагающий путь к пониманию нашей истории XX века. Революция предстает как результат действий различных и даже, казалось бы, совершенно несовместимых социально-политических сил, ставивших перед собой свои, особенные цели. Общим для этих сил было отвержение российского социально-политического устройства, что выражалось в едином для них лозунге «Свобода! Освобождение!», имевшем в виду ликвидацию исторически сложившихся «ограничений» в сфере экономики, права, политики, идеологии. Характерно, что явившиеся на политическую сцену на рубеже XIX–XX вв. группы предшественников и большевистской, и вроде бы крайне далекой от нее конституционно-демократической (кадетской) партий с самого начала поставили этот лозунг во главу угла, назвав себя «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» (его возглавил будущий вождь большевиков В. И. Ленин) и «Союзом Освобождения» (его глава И. И. Петрункевич впоследствии стал председателем ЦК кадетской партии). Сегодня большевики и кадеты кажутся абсолютно чуждыми друг другу, но вспомним, что видный политический деятель того времени П. Б. Струве сначала тесно сотрудничал с В. И. Лениным и даже составлял Манифест Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП; в ее рамках в 1903 году сформировался большевизм), а в 1905 году стал одним из лидеров кадетской партии. Или другой — менее известный — факт: С. М. Киров (Костриков), вначале связанный с РСДРП, в 1909 году на долгое время оказался в русле кадетской партии, став даже ведущим сотрудником северокавказской кадетской газеты «Терек», и лишь накануне Октябрьского переворота «вернулся» в РСДРП(б), а впоследствии был одним из главных ее «вождей» (см. об этом, например: Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 1996, с. 120–121). Вообще необходимо осознать, что почти все политические течения начала XX века были, если выразиться попросту, «за Революцию», и переход Кирова из РСДРП к кадетам вовсе не означал отказа от революционных устремлений. Мне, вероятно, напомнят, что большевики обличали кадетов как «контрреволюционеров». Но ведь и кадеты, в свою очередь, клеймили «контрреволюционерами» самих большевиков. И эти взаимные обвинения вполне закономерны и понятны: дело здесь прежде всего в том, что каждая из партий претендовала на главенство в Революции и, далее, в долженствующем создаться после ее победы новом социально-политическом устройстве. Очень показательно в этом смысле «противоречие», содержащееся в новейшем (3-м) издании «Большой советской энциклопедии». В статье о кадетах (ее авторы — историки А. Я. Аврех и Н. Ф. Славин) эта партия вместе с ее предшественником, «Союзом Освобождения», квалифицирована как «партия контрреволюционной либерально-монархической буржуазии» (т. 11, с. 389), однако в статье той же самой БСЭ «Союз Освобождения», составленной известным специалистом в этой области историографии К. Ф. Шацилло, читаем: «Большевики во главе с В. И. Лениным выступали против попыток «Союза Освобождения» захватить руководство революционно-освободительным движением и одновременно боролись за высвобождение из-под влияния либералов радикального крыла «Союза Освобождения»…» (т. 24, с. 272). Если бы кадеты действительно были контрреволюционной партией, едва ли вообще мог встать вопрос об их «руководстве революционно-освободительным движением» и едва ли в этой партии имелось бы «радикальное (то есть особо «левое») крыло». Тем не менее в сочинениях советских историков кадеты, как правило, предстают в качестве «контрреволюционной» силы, а «антисоветские» (эмигрантские, зарубежные и в настоящее время многие «бывшие советские» или «постсоветские») историки нередко усматривают «контрреволюционность», напротив, в большевиках, которые, захватив власть, не дали «освободить» Россию — к чему, мол, стремились кадеты (а также эсеры, меньшевики и т. д.). Как уже сказано, взаимные обвинения из уст кадетских и большевистских деятелей были естественным порождением политического соперничества. Однако совершенно иной характер имеют подобные обвинения, когда они появляются в позднейших сочинениях историков: эти обвинения означают, что историк, по сути дела, отказывается от беспристрастного анализа, который вроде бы призвана осуществлять историография, и рассматривает ход Революции как бы глазами одной из участвовавших в. ней партий. Сегодня всем ясно, что советская историография, изучавшая Революцию всецело с «точки зрения» большевиков, никак не могла быть действительно объективной (достаточно сказать, что роль большевиков в событиях 1903–1916 годов крайне преувеличивалась; на самом деле они обрели первостепенное значение только летом 1917 года). Но нынешние сочинения историков, фактически избирающих «точкой отсчета» для взгляда на Революцию кадетов либо, скажем, эсеров, в сущности, еще более далеки от объективного понимания хода истории, — более потому, что кадеты и эсеры потерпели поражение, и смотреть на ход Революции их глазами — едва ли плодотворное дело. Необходимо четко осознать принципиальное различие между задачами, встающими перед нами в отношении современности, настоящего, сегодняшней ситуации в политике, экономике и т. д., и, с другой стороны, теми целями, которые встают при нашем обращении к более или менее отдаленному прошлому, к тому, что уже стало историей. Когда мы имеем дело с современностью, у нас есть возможность (разумеется, именно и только возможность, далеко не всегда осуществляемая) оказать реальное воздействие на ход событий, конечный результат которых пока неизвестен и может оказаться различным. Поэтому, в частности, вполне понятны и уместны наша поддержка той или иной политической силы, представляющейся нам наиболее «позитивной» и способной победить в развертывающейся сегодня борьбе, а также наше стремление воспринимать действительность с точки зрения этой силы. Однако в прошлом (что вполне понятно) уже ничего нельзя изменить, результат развертывавшейся в нем борьбы известен, и любая попытка ставить вопрос о том, что результат-де мог быть иным, в конечном счете вредит пониманию реального хода истории: мы неизбежно начинаем размышлять не столько о том, что совершилось, сколько о том, что, по нашему мнению, могло совершиться, и «возможность» в той или иной мере заслоняет от нас историческую действительность. Это, к сожалению, типично для нынешних сочинений о Революции. Вместе с тем нельзя не видеть, что пока еще крайне трудно, пожалуй, даже вообще невозможно изучать ход Революции, полностью отрешившись от нашего отношения к действовавшим с начала XX века политическим силам. В более или менее отдаленном будущем, когда уместно будет сказать словами поэта, что «страсти улеглись», подлинная объективность станет, очевидно, достижимой целью. Но сегодня, в наши дни, когда на политической сцене появляются течения, открыто провозглашающие себя «продолжателями» дела тех или иных возникших в начале века партий (от радикально социалистических до принципиально «капиталистических»), требования смотреть на Революцию с совершенно «нейтральной» точки зрения являются заведомо утопичными. * * *Проблему, встающую сегодня перед историками Революции, можно и важно осмыслить именно в плане соотношения прошлого, настоящего и будущего. Ясно, что любое исследование истории — это взгляд из будущего в прошлое, а исследование настоящего, современности (то есть предпринятое непосредственно в период развертывания исследуемых событий) едва ли способно стать полноценным явлением исторической науки; оно представляет собой скорее явление политической публицистики, цель которой заключается не столько в том, чтобы беспристрастно познать ход событий, сколько в том, чтобы воздействовать на этот ход, стремиться направить его по наиболее «позитивному» (с точки зрения автора того или иного публицистического сочинения) пути. Это, конечно, не значит, что публицистика вообще не может нести в себе объективного понимания хода нынешних событий, но все же главная цель исследования современных событий (конечный итог, «плод» которых еще, так сказать, не созрел) естественно и неизбежно раскрывается как стремление способствовать тому или иному вероятному итогу. Тот очевидный факт, что сегодня так или иначе продолжается политическая и идеологическая борьба, начавшаяся на рубеже XIX–XX веков (например, если выразиться наиболее кратко и просто, борьба между «капитализмом» и «социализмом»), побуждает прийти к существенному выводу: история России XX века (в отличие от истории XIX и предшествующих веков) еще не стала для нас в истинном смысле слова прошлым, мы еще, в сущности, не можем смотреть на нее из действительного будущего — то есть из иной, «новой» исторической эпохи, наступающей тогда, когда итоги предыдущей так или иначе подведены, и о них в самом деле можно судить беспристрастно. Вместе с тем было бы, конечно, нелепо «отложить» на какое-то время изучение этой истории, а, кроме того, даже наиболее политизированное (скажем, догматически советское или заостренно антисоветское) исследование хода Революции все же способно выяснить нечто существенное — пусть и с определенными ограничениями и искажениями. Наконец, нельзя упускать из виду, что у современных историков, которые не отдалены от событий многими десятилетиями и тем более веками, есть и несомненные преимущества перед теми, кто будет изучать Революцию в условиях совсем иной, грядущей эпохи с ее особенными проблемами и настроениями (хотя, конечно, наши потомки обретут, надо думать, такую объективность взгляда на итоги Революции, которая нам недоступна). И, рассуждая о непреодолимой «тенденциозности» нынешних сочинений об еще не ставшей «прошлым» Революции, я отнюдь не перечеркиваю усилия историков, основывающихся на той или иной «точке зрения» («большевистской», «кадетской» и т. п.); в конце концов, эти усилия в своей совокупности способны дать многостороннюю картину. Я только предлагаю подойти к делу более ответственно и прежде всего более осознанно, чем это обычно имеет место. Если вдуматься, главные «недостатки» тех сочинений об истории XX века, которые основываются на «точке зрения» какой-либо из политических сил (большевиков, кадетов и т. д.), проистекают не столько из самой этой — по сути дела, в настоящее время неизбежной — «политизированности», сколько из того факта, что она или не выявлена, или даже вообще не осознана авторами этих сочинений, преподносимых в качестве будто бы вполне «объективных». Открытое признание о сделанном автором такого сочинения выборе «точки зрения» дало бы существенную корректировку его анализа и его выводов. В моем сочинении «точка зрения» или, вернее будет сказать, «точка отсчета» избрана вполне сознательно, и я говорю о ней с полной откровенностью: это крайне «консервативные» политические движения начала века, которые обычно называют «черносотенными». Этот выбор вроде бы означает, что я оказываюсь в точно таком же положении, как и историки, которые сегодня избирают «точкой отсчета» большевиков, кадетов, эсеров и т. д. Ведь в настоящее время действуют если и не в полном — практическом — смысле слова политические, то, по крайней мере, идеологические силы, прямо и непосредственно считающиеся (и даже сами считающие себя) наследниками «черносотенцев» начала века. И, следовательно, мое сочинение будет являть собой не столько исследование истории, сколько выдвижение «черносотенства» в качестве программы для современной, сегодняшней борьбы в сфере идеологии и в конечном счете политики. Однако мое сочинение, надеюсь, убедит каждого читателя в том, что программа «черносотенцев» не может «победить» — как не могла она победить уже и в начале нашего века… Впрочем, и здесь, в предисловии, уместно и должно сказать об этом хотя бы вкратце. «Черносотенцы» начала века исходили из того, что преобладающее большинство населения России нерушимо исповедует христианско-православные, монархически-самодержавные и народно-национальные убеждения, которые составляют самую основу сознания и бытия этого большинства. Однако ход истории со всей несомненностью показал, что такое представление было иллюзорным. Ныне же, в конце века, лишь не желающие оглянуться вокруг, замкнувшиеся в мире чисто умозрительных построений люди могут надеяться на победу «черносотенных» идей (о политиканах, только делающих вид, что они верят в соответствующий дух современного народа, говорить в данном случае незачем). И я избираю «черносотенцев» в качестве точки отсчета для взгляда на историю России XX века отнюдь не потому, что вижу в их идеологии вероятную программу грядущего пути России. События последнего времени (в частности, результаты различных избирательных кампаний) показали, что политические силы, которые в той или иной мере являются «наследниками» большевиков, или кадетов, или эсеров, могли получать более или менее широкую поддержку населения страны. Однако нынешние православно-монархические течения, так или иначе, но действительно «продолжающие» линию «черносотенцев» начала века, явно не имеют такой поддержки и не способны повести за собой значительные слои народа. Едва ли можно назвать хотя бы одного современного политического деятеля, который, открыто выдвинув последовательную православно-монархическую программу, победил на каких-либо выборах. Говоря об этом, я, понятно, отнюдь не имею в виду патриотические устремления вообще, которые в той или иной ситуации были присущи и «советской» эпохе. Идеология «черносотенства» всецело основывалась на безусловной, так сказать, врожденной православной Вере, еще сохранявшейся к началу XX века в душах миллионов русских людей; подлинный монархизм и немыслим без Веры, ибо монарх должен представать как «помазанник Божий», находящийся на троне по Высшей (а не человеческой) воле. * * *Здесь уместно и важно сделать отступление общего характера. Современные русские люди, полагающие, что можно возродить в душе народа — или хотя бы весомой его части — то зиждившееся на православной Вере национальное сознание, которое было реальностью еще в прошлом веке, не принимают во внимание своего рода переворот в самом «строении», «структуре» человеческих душ, совершившийся за последние десятилетия. Утрату людьми убежденной, как бы врожденной Веры обычно истолковывают только как последствие запретов и борьбы с Христианством в советское время. Между тем история мира дает немало доказательств того, что жестокие гонения на христиан нередко вели к противоположному результату — к укреплению и росту Веры; есть подобные примеры и в советские времена. И характерно, что очень многие люди, родившиеся накануне или в первые годы после Революции и под воздействием жестоких гонений и антирелигиозной пропаганды вроде бы совсем отошедшие от Церкви, в пожилом возрасте стали возвращаться в нее; это даже дало серьезные основания говорить (главным образом в так называемом самиздате) о «православном возрождении» конца 1960–1970-х годов. Однако с теми, кто начал жизнь, скажем, в 1950-х годах и тем более позднее, дело обстоит по-иному. Правда, в наши дни, когда все запреты с религии и Церкви сняты, многие из этих людей посещают храмы. Но нередко это, увы, диктуется, — прошу извинить за резкость, — модным поветрием, а не духовным прозрением. Я отнюдь не хочу сказать, что среди сегодняшних посетителей Церкви вообще нет подлинно религиозных людей; речь лишь о том, что они все же составляют меньшинство, и, пожалуй, не очень значительное… И причина утраты глубокой подлинной Веры заключается не столько в воздействии официального атеизма и всякого рода запретов, имевших место до последнего десятилетия (что затрудняло или вообще исключало посещение храмов), сколько в кардинальном изменении самой «структуры» человеческого сознания в условиях современной цивилизации. Еще сравнительно недавно для абсолютного большинства людей их сознание и их деятельная жизнь были чем-то нераздельным, и верующий человек участвовал в религиозных обрядах в храме или в собственном доме, не задумываясь о самой своей Вере, не подвергая ее какому-либо «анализу». Он, в сущности, вообще не мог воспринять свое религиозное сознание как «объект», который можно осмыслять и оценивать. Но в новейшее время совершается широчайшее и стремительное распространение различного рода предметных форм «информации», которые существуют «отдельно» от людей и их непосредственной жизнедеятельности. Если еще сравнительно недавно человеческое сознание было всецело или хотя бы главным образом порождением самой жизни, формировалось как прямое и непосредственное «отражение» реального быта, труда, религиозного обряда, путешествия и т. д., то теперь оно во всевозрастающей степени основывается на том, что явлено в каком-либо «тексте», на различного рода «экранах» и т. п. Могут возразить, что книга и даже газета — «изобретение» давних времен; однако только в XX веке они становятся привычной реальностью для большинства, в пределе — для всех людей. Ранее постоянное чтение было уделом немногих даже из среды владеющих грамотой людей (и, кстати сказать, религиозные сомнения в те давние времена были характерны почти исключительно для «книгочеев»). Человек, обретающий преобладающую или хотя бы очень значительную часть «информации» о мире из «специально» созданных для этой цели «объектов» — текстов, изображений, кино- и телеэкранов и т. п., — тем самым обретает возможность и, более того, привычку — как бы необходимость — воспринимать в качестве объекта свое сознание вообще — в том числе религиозное сознание, которое ранее было неотделимой стороной самого существования человека, — подобной, например, дыханию. А превращение своего собственного религиозного сознания в объект неизбежно ведет к «критическому» отношению к нему (под «критикой» здесь подразумевается не «негативизм», а, так сказать, аналитизм). В свое время человек малым ребенком входил вместе со своей семьей и соседями в храм, вбирал в себя религиозность как органическую часть, как одну из сторон общего и своего собственного бытия, и ему даже не могло прийти в голову «отделить» от цельности бытия свое субъективное переживание религии и анализировать это переживание. Ныне же такое «отделение» в той или иной мере неизбежно, что обусловлено, как уже говорилось, не большей, в сравнении с отцами и дедами, «образованностью» (именно этим нередко пытаются объяснять утрату религиозности), а существенным изменением самого строения душ, для которых собственное сознание становится объектом осмысления и оценки. А осмысление и оценка основ религиозного сознания — это поистине труднейшая и сложнейшая задача, плодотворное решение которой под силу только богато одаренным или исключительно высокоразвитым людям. И сегодня подлинная Вера присуща, надо думать, либо людям особенного духовного склада и своеобразной судьбы, сумевшим сохранить в себе изначальную, первородную религиозность, не поддавшуюся «критике» со стороны «отделившегося» сознания, — либо людям наивысшей культуры, которые, пройдя неизбежную стадию «критики», обрели вполне осознанную Веру — ту, каковая явлена в глубоких размышлениях классиков богословия. Я близко знал такого человека — всемирно известного ныне Михаила Михайловича Бахтина, который, кстати сказать, утверждал, что любой подлинно великий разум — религиозен, ибо нельзя достичь безусловного величия без Веры в Бога, дающей истинную свободу мысли; поскольку люди вообще не могут жить без какой-либо веры (пусть хотя бы веры в правду безверия), отсутствие Веры в Бога, воплощающего в Себе безграничность, с необходимостью означает идолопоклонство, то есть веру в нечто ограниченное (например, гуманизм, обожествляющий человека, социальный идеал, обожествляющий определенную организацию общества, и т. п.). Это, конечно, отнюдь не значит, что подлинная Вера доступна только людям великого разума; речь идет в данном случае о глубоко осознанной Вере, но Вера, впитанная, как говорится, с молоком матери и нерушимо пронесенная через все испытания, являет собой безусловную ценность и свидетельствует об особенной духовной одаренности ее носителя. Другой вопрос — что люди, наделенные таким даром, едва ли составляют значительную часть населения страны, хотя их, очевидно, намного больше, чем людей, обладающих высшим разумом, дающим возможность всецело осознанно обрести Веру. Основная же масса нынешних людей, так или иначе обращающихся к Православию, оказывается на своего рода безвыходном распутье: они уже привыкли к критическому «анализу» своего сознания, но для решения на высшем уровне вопроса о бытии Бога и тем более о бессмертии их собственных душ у них нет ни особенного дара, ни высшей развитости разума… Исходя из этого едва ли можно полагать, что Православие и все неразрывно с ним связанное — в том числе идея истинной монархии — способно возродиться и стать основной опорой бытия страны… Утверждая это, я имею в виду современное положение вещей; нельзя исключить, что в более или менее отдаленном будущем положение в силу каких-либо исторических сдвигов и событий преобразуется. Но сегодня тот духовный фундамент, на который стремилось опереться «черносотенство», менее — и даже гораздо менее — «надежен», чем в начале нашего века… * * *Повторю еще раз: я обращаюсь к «черносотенству» начала века вовсе не потому, что усматриваю в нем некий прообраз нашего будущего пути (по крайней мере — предвидимого сегодня будущего). Как раз напротив! «Черносотенство» в данном случае нужно и важно в качестве воплощения не будущего, а прошлого. Как уже сказано, мы еще, по сути дела, не можем смотреть на Революцию из будущего; она в той или иной степени остается непреодоленным настоящим, которое властно порождает стремление не столько познавать, сколько действовать — хотя бы действовать словом — и создавать скорее «программы», чем исследования хода истории. Но если пока еще крайне труден или вообще немыслим взгляд на Революцию из беспристрастного будущего, есть основания попытаться взглянуть на нее из предшествовавшего ей прошлого, которое как раз и являли собой на политической сцене начала века «черносотенцы». Могут возразить, что воплощением прошлого была прежде всего сама тогдашняя власть — царь и его правительство. Но это едва ли сколько-нибудь верно; понимание российской власти начала века как всецело «реакционного» явления было первоначально внедрено в умы (и, в сущности, остается в них и сегодня) боровшимися с ней силами — от кадетов до большевиков. Одна уже фигура председателя Совета министров П. А. Столыпина, игравшего первостепенную роль в 1906–1911 годах, опровергает подобное понимание, ибо «прогрессизм» явно преобладал в этом правителе над «консерватизмом». Так, осуществленные тогда кардинальные изменения в судьбе миллионов крестьян превосходят по своей значимости все, что предпринимали до Февраля 1917 года другие «прогрессивные» силы. И вполне закономерно, что «черносотенцы», которые поначалу поддерживали политику Столыпина, решительно боровшегося с бунтами и террором 1906–1907 годов, позднее резко и даже очень резко выступали против его реформаторской деятельности, ибо смотрели на современность всецело с точки зрения прошлого России. Я отдаю себе отчет в том, что предложение смотреть на Революцию «из прошлого» может быть воспринято как сомнительный или по меньшей мере парадоксальный «метод». Но подчеркну еще раз, что по отношению к XX веку естественный для историка взгляд на прошлое из будущего вряд ли осуществим в наше время, и историография, так сказать, обречена смотреть на Революцию ее глазами (вернее, глазами той или иной действовавшей в ней политической силы). А обращение к прошлому, к принципиально «реакционной» политической силе дает — при всех вероятных оговорках — возможность увидеть Революцию «сторонним», то есть в какой-то мере объективным взглядом (между тем глазами большевиков, кадетов и т. п. мы неизбежно смотрим на Революцию не извне, а изнутри). И если даже эта постановка вопроса воспринимается с полнейшей недоверчивостью, дальнейшее изложение, надеюсь, в той или иной степени убедит моих читателей в оправданности (пусть хотя бы частичной, относительной) предлагаемого «метода» исследования хода Революции. И еще одно соображение. Уже было отмечено, что взгляд на Революцию, с точки зрения кадетов или эсеров, малопродуктивен, ибо эти партии потерпели сокрушительное поражение — и, значит, оказались недальновидными, не понимали или хотя бы плохо понимали, куда ведут события — в том числе события, вызванные их собственными действиями. Но ведь и «черносотенцев» — скажут мне — постиг полный крах, притом даже раньше, чем тех же кадетов; они фактически сошли с политической сцены уже во время Февральского переворота 1917 года, и (выразительный факт!) один из их известнейших предводителей, В. М. Пуришкевич, летом этого года объявил о своем присоединении к кадетам! Однако в идеологии «черносотенцев» имелся, как будет показано, существеннейший момент: они, в отличие от кадетов, эсеров и т. д., рано (не позднее 1910 года) и достаточно ясно осознали неизбежность своего поражения (я имею в виду, конечно, не всех участников «черносотенного» движения, а его основных идеологов). И это осознание дало им немалые преимущества перед «слепо» рвавшимися к победе кадетами, эсерами и т. д.; они гораздо лучше других политических сил понимали, к чему ведет Революция. >Глава 1 Кто такие «черносотенцы»? Как уже сказано, прописная буква в слове «Революция» употреблена для того, чтобы подчеркнуть: речь идет не о каком-либо революционном взрыве (декабря 1905-го, февраля 1917-го и т. д.), но обо всем грандиозном катаклизме, потрясшем Россию в XX веке. Широкое значение имеет и слово «черносотенцы». Нередко вместо него предпочитают говорить о «членах Союза русского народа», но при этом дело сводится только к одной (пусть и наиболее крупной) патриотической и антиреволюционной организации, существовавшей с 8 ноября 1905-го и до Февральского переворота 1917 года. Между тем «черносотенцами» с полным основанием называли и называют многих и весьма различных деятелей и идеологов, выступивших намного ранее создания Союза русского народа, а также не входивших в этот Союз после его возникновения и даже вообще не состоявших в каких-либо организациях и объединениях. Поэтому слово «черносотенцы», несмотря на его одиозное, то есть имеющее крайне «отрицательное» и, более того, проникнутое ненавистью значение, все же наиболее уместно при исследовании того явления, которому посвящена эта глава моего сочинения. Да, слово «черносотенцы» (производное от «черная сотня») предстает как откровенно бранная кличка. Правда, в новейшем «Словаре русского языка» (1984) была предпринята попытка дать более или менее объективное толкование этого слова (привожу его целиком): «Черносотенец, — ица. Член, участник погромно-монархических организаций в России начала 20 века, деятельность которых была направлена на борьбу с революционным движением». Небесполезно разобраться в этом определении. Странноватый двойной эпитет «погромно-монархические» явно призван сохранить в толковании этого слова бранный (таково уж само это словечко «погромный») привкус. Правильнее было бы сказать «крайне» или «экстремистски монархические» (то есть не признающие никаких ограничений монархической власти); определение «погромные» неуместно здесь уже хотя бы потому, что некоторые заведомо «черносотенные» организации — например, Русское собрание (в отличие от того же Союза русского народа) — никто никогда не связывал с какими-либо насильственными — то есть могущими быть отнесенными к «погромным» — акциями. Во-вторых, в приведенном словарном определении неправомерно ограничение понятием «монархизм»; следовало сказать об «организациях», защищавших традиционный тройственный, триединый принцип — православие, монархия (самодержавие) и народность (то есть самобытные отношения и формы русской жизни). Во имя этой триады «черносотенцы» и вели непримиримую, бескомпромиссную борьбу с Революцией, притом гораздо более последовательную, чем многие тогдашние должностные лица монархического государства, которых «черносотенцы» постоянно и резко критиковали за примирение либо даже прямое приспособленчество к революционным — или хотя бы к сугубо либеральным — тенденциям. Не раз «черносотенная» критика обращалась даже и на самого монарха, и на главу Православной церкви, и на крупнейших творцов национальной культуры (более всего — на Толстого, хотя в свое время именно он создал «Войну и мир» — одно из самых великолепных и полнокровных воплощений того, что обозначается словом «народность»). Далее, разбираемое словарное определение не вполне четко обрисовало те, так сказать, границы, в которых существовали «черносотенцы»; говорится и о «членах», и также об «участниках» соответствующих организаций. В этом видно стремление как-то разграничить прямых, непосредственных «функционеров» этих организаций и, с другой стороны, «сочувствующих» им, в той или иной мере разделяющих их устремления деятелей — то есть скорее «соучастников», чем «участников». Так, например, авторы и сотрудники редакции знаменитой газеты «Новое время» (в отличие, скажем, от сотрудников редакций газет «Московские ведомости» или «Русское знамя») не входили в какие-либо «черносотенные» организации и даже нередко и подчас весьма решительно их критиковали, но тем не менее «нововременцев» все же вполне основательно причисляли и причисляют к лагерю «черносотенцев». Наконец, словарное определение относит к «черносотенцам» только деятелей «начала 20 века»; между тем это обозначение часто — и опять-таки с полным основанием — применяется и ко многим деятелям предыдущего, XIX века, хотя и называют их так, конечно, задним числом. Но, как бы там ни было, начиная по меньшей мере с 1860-х годов на общественной сцене выступали идеологи, которые явно представляли собой прямых предшественников тех «черносотенцев», которые действовали в 1900–1910-х годах. Собственно говоря, убеждения принадлежавших к старшим поколениям виднейших деятелей «черносотенных» организаций — таких, например, как Д. И. Иловайский (1832–1920), К. Ф. Головин (1843–1913), С. Ф. Шарапов (1850–1911), В. А. Грингмут (1851–1907), Л. А. Тихомиров (1852–1923), А. И. Соболевский (1856–1929), — вполне сложились еще до начала XX века. Итак, обрисованы общие контуры явления, известного под названием «черносотенство». Нельзя, впрочем, умолчать о том, что слово это — или, точнее, кличка — последние несколько лет самым активным образом используется по отношению к тем или иным современным, сегодняшним деятелям и идеологам. Но это уже совершенно особый вопрос, о котором можно рассуждать только после уяснения действительного характера дореволюционного «черносотенства». Как сказано, слово «черносотенцы» — а также словосочетание «черная сотня», от которого оно образовано, — употреблялось и употребляется, по сути дела, в качестве бранной клички, своего рода проклятия (хотя в новейших словарях можно найти примеры более «спокойного» толкования). Еще в 1907 году известнейший «Энциклопедический словарь» Брокгауза-Ефрона (2-й дополнительный том) «заложил основы» именно такого словоупотребления (курсив в цитируемом тексте, а также в дальнейшем, кроме специально оговоренных случаев, мой. — В.К.): «Черная сотня — ходячее название, которое в последнее время стало применяться к подонкам населения… Черносотенство под разными наименованиями являлось на историческую сцену (например, в Италии — каморра и мафия)… При культурных формах политической жизни черносотенство обыкновенно исчезает…» И далее: «… сами черносотенцы охотно приняли эту кличку, она делается признанным наименованием всех элементов, принадлежащих к крайне правым партиям и противополагающих себя «красносотенцам». В № 141 «Московских ведомостей» за 1906 год было помещено «Руководство черносотенца-монархиста»… Такой же характер имеет брошюра А. А. Майкова «Революционеры и черносотенцы» (СПб., 1907)…» В этой словарной статье, между прочим, дано и иное, не бранное определение «черносотенцев»: речь идет об «элементах», то есть, попросту говоря, о людях (автор словарной статьи как бы не хотел называть их «людьми»), «принадлежащих к крайне правым партиям»; выражение «крайне правые» можно было бы заменить и более «научным» — «крайне консервативные» или, в конце концов, «реакционные» (правда, и это слово в России давно уже стало «ругательным»). Но словарь относится с явным предпочтением к обозначению «черносотенцы», ловко ссылаясь на то, что «сами черносотенцы охотно приняли эту кличку», — как будто они были готовы принять на себя и такие содержащиеся в словарной статье определения, как «подонки» и «мафия», а также обвинение в полной несовместимости с культурой (ведь, согласно словарю, «при культурных формах политической жизни черносотенство исчезает») и т. п. Сам по себе факт, что «черносотенцы» не возражали против навязываемой им «клички», не столь уж удивителен. Не раз в истории название какого-либо течения принималось из враждебных или хотя бы чуждых уст; так, например, Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Самарин не открещивались от названия «славянофилы», которое употреблялось по отношению к ним в качестве заведомо иронической, издевательской (пусть и не заряженной столь ярой ненавистью, как «черносотенцы») клички. При этом идеологи «черносотенства» хорошо знали действительную историю слова, ставшего их «кличкой», — историю, прослеженную, например, в классическом курсе лекций В. О. Ключевского «Терминология русской истории», литографическое издание которого появилось еще в 1885 году. Словосочетание «черная сотня» вошло в русские летописи начиная с XII века (!) и играло первостепенную роль вплоть до Петровской эпохи. В средневековой Руси, показывал В. О. Ключевский, «общество делилось на два разряда лиц, — это «служилые люди» и «черные». Черные люди… назывались еще земскими… Это были горожане… и сельчане — свободные крестьяне». А «черные сотни — это разряды или местные общества», образованные из «черных», «земских» людей»{1}. Итак, «черные сотни» — это объединения «земских» людей, людей земли, — в отличие от «служилых», чья жизнь была неразрывно связана с учреждениями государства. И, именуя свои организации «черными сотнями», идеологи начала XX века стремились тем самым возродить древний, сугубо «демократический» порядок вещей: в тяжкое для страны время объединения «земских людей» — «черные сотни» — призваны спасти ее главные устои. Основоположник организованного «черносотенства» В. А. Грингмут (о нем еще пойдет речь) в своем уже упомянутом «Руководстве монархиста-черносотенца» (1906) писал: «Враги самодержавия назвали «черной сотней» простой, черный русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почетное ли это название, «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников»{2}. Из этого ясно, в частности, что идеологи «черносотенства» приняли сию «кличку» и даже дорожили ею в силу ее глубоко народного, проникнутого подлинным демократизмом смысла и значения. Кое-кому последнее утверждение может показаться чисто парадоксальным, ибо ведь как раз непримиримые враги, антиподы «черносотенцев» объявляли себя единственными настоящими «демократами». Но вот весьма любопытное признание идеолога, коего никак нельзя заподозрить в стремлении «обелить» крайних противников Революции: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий»{3}. Так писал в 1913 году не кто-нибудь, а В. И. Ленин. Притом данное им определение «темный» нужно правильно понять. Речь идет, несомненно, о тех слоях народа, которые еще не затронуты «светом», «просвещением», исходящим со страниц революционных газет и из уст воинственных митинговых агитаторов. Но в наше время уже нетрудно, полагаю, понять, что отсутствие такого «просвещения» обеспечивало и немалые преимущества. Ибо не «просвещенные» в этом плане люди глубже и яснее сознавали или хотя бы чувствовали, к чему приведет разрушение основных устоев русского бытия — то есть православия, самодержавия и народности. Чувствовали и пытались сопротивляться разрушительной работе… Словом, В. И. Ленин был совершенно прав, говоря о «самом глубоком демократизме», присущем «черносотенству». И в то же время ленинское определение «мужицкий» ложно. «Черносотенство» отличалось от всех остальных политических течений своей, если угодно, «общенародностью», оно складывалось поверх границ классов и сословий. В нем с самого начала принимали прямое участие и родовитейшие князья Рюриковичи (например, правнук декабриста М. Н. Волконский и Д. Н. Долгоруков), и рабочие Путиловского завода (1500 из них были членами Союза русского народа){4}, виднейшие деятели культуры (о чем еще пойдет речь) и «неграмотные» крестьяне, предприимчивые купцы и иерархи Церкви и т. д. Эта «всесословность» в обстановке острейшей «классовой борьбы», характерной для начала XX века, уже сама по себе привлекает заинтересованное внимание. Здесь уместно напомнить о том, что речь у нас вообще идет о загадочных страницах истории. И разве не загадочен уже сам по себе факт, что очень многие из нынешних популярных авторов и ораторов, стремящихся как можно более «беззаветно» разоблачить и проклясть Революцию, в то же самое время явно с еще большей яростью проклинают «черносотенцев», которые с самого начала Революции с замечательной, надо сказать, точностью предвидели ее чудовищные последствия и были, в сущности, единственной общественной (то есть не принадлежавшей непосредственно к государственным институтам) силой, действительно стремившейся (пусть и тщетно) остановить ход Революции?… Это достаточно сложная «загадка», которую я буду пытаться прояснить на протяжении всего этого сочинения, но важно, чтобы читатели постоянно имели ее в виду. Стоит еще обратить внимание на то обстоятельство, что чисто бранному употреблению слова «черносотенцы» (и, конечно, «черная сотня») весьма способствует новейшее смысловое наполнение эпитета «черный», присутствующее в нем помимо его прямого значения — то есть значения определенного цвета. Мы видели, что в свое время «черный» было синонимом слова «земский». Войско Дмитрия Донского, как сообщает «Сказание о Мамаевом побоище», сражалось на Куликовом поле под черным знаменем, и это, возможно, означало, что в битве участвуют не только «служилые», но и «земские» люди — то есть вся Русская Земля. Напомню еще, что «чернецами» звались монахи (и по сей день еще употребляется словосочетание «черное духовенство» — то есть монашество). Таким образом, слово «черный» было достаточно многозначным. Однако в новейшее время в нем стали господствовать смысловые оттенки, говорящие о чем-то сугубо «мрачном», «враждебном» или даже «сатанинском»… И эти обертоны значения слова «черный» используются, подчеркиваются интонацией при произнесении слова «черносотенцы», так что в самом деле нелегко «обелить» (невольно напрашивается эта игра слов) обозначаемое им явление. И все же постараемся понять, кто же такие в действительности были «черносотенцы»? * * *Начать целесообразно с того необходимого фундамента, на котором создается любое общественное движение, — проблемы культуры (культуры философской, научной, политической и т. д.). Конечно, есть общественные движения, основывающиеся на весьма или даже крайне небогатом, неразвитом и узком культурном фундаменте, но так или иначе он все же обязательно наличествует. В представлениях о «черносотенцах» господствует оценка их культурного уровня как предельно низкого; они рисуются в качестве этаких «черных-темных» субъектов, живущих набором примитивных догм и трафаретных лозунгов. Именно так истолковывается, например, постоянно упоминаемая — обычно с сугубо иронической интонацией — основополагающая для черносотенцев триада: «православие, самодержавие, народность». Конечно, в сознании тех или иных заурядных людей эта тройственная идея — как, впрочем, и вообще любая идея — существовала в качестве плоского, не обладающего весомым смыслом лозунга. Но едва ли возможно всерьез оспорить утверждение, что в духовном творчестве Ивана Киреевского, Хомякова, Тютчева, Гоголя, Юрия Самарина, Константина и Ивана Аксаковых, Достоевского, Константина Леонтьева многовековые реальности русской Церкви, русского Царства и самого русского Народа предстают как феномены, исполненные богатейшего и глубочайшего исторического содержания, которое по своей культурной и духовной ценности ничуть не уступает, скажем, историческому содержанию, воплощенному в западноевропейском самосознании. Несмотря на это, и на Западе, и в России, разумеется, были и есть многочисленные идеологи, пытающиеся всячески принизить развивавшееся в течение столетий содержание русского исторического пути, объявляя его чем-то заведомо и гораздо менее значительным, нежели содержание, запечатлевшееся в западноевропейском самосознании. Однако такие попытки, повторюсь, попросту не серьезны. Они, в частности, оказываются в поистине нелепом противоречии с тем очевидным фактом, что наследие перечисленных только что русских писателей и мыслителей давно и предельно высоко оценено на Западе, — подчас (пусть это звучит как-то постыдно для русских людей…) более высоко, чем в самой России. И попытки обесценить выраженное в их наследии понимание тройственной идеи «православие — самодержавие — народность» свидетельствуют либо об убогости тех, кто предпринимает подобные попытки, либо об их недобросовестной тенденциозности (кстати сказать, для дискредитации «тройственной идеи» применяется такой прием: вот, мол, Достоевский действительно несравненный гений, но была у него странная ахиллесова пята: вера в Церковь, Царя и Народ). Нельзя не заметить, что наиболее «умные» противники тройственной идеи поступали и поступают по-иному. Они отдают высокие или даже высочайшие почести вдохновлявшимся этой идеей русским мыслителям XIX века, особенно дореформенного периода, но утверждают, что, мол, к XX веку сия идея «разложилась» или «выродилась» и стала-де превращаться в вульгарную догму. Владимир Соловьев, начавший, между прочим, свой путь именно в среде правоверных славянофилов и их наследников, в тесной связи с Иваном Аксаковым, Достоевским, Леонтьевым, к середине 1880-х годов очень резко изменяет свои позиции и все более непримиримо критикует (нередко до удивления легковесно) своих недавних единомышленников. В 1889 году он публикует пространную статью с выразительным названием: «Славянофильство и его вырождение». Здесь он, достаточно высоко оценивая славянофилов 1840–1850-х годов, почти целиком отвергает современных ему продолжателей славянофильства. Далее, лидер либерализма П. Н. Милюков в 1893 году (то есть также ранее появления «черносотенства» в прямом смысле слова) выступает со статьей «Разложение славянофильства»; вне зависимости от намерений автора и это название подразумевало, что в свое время «славянофильство» было чем-то существенным, но к 1893 году оно-де «разложилось» и, следовательно, утратило свое прежнее значение. В 1911 году историк культуры М. О. Гершензон подготовил к изданию сочинения Ивана Киреевского и, объявляя его в своем предисловии одним из глубочайших общечеловеческих мыслителей XIX века, вместе с тем сетовал, что иные его идеи превратились к настоящему времени в нечто ничтожное и возмутительное. Разумеется, за те три четверти века, которые протекли со времени возникновения славянофильства и до этого гершензоновского «обвинения», в русском самосознании многое изменилось. Однако это было обусловлено вовсе не неким «вырождением» идеи, но существеннейшим изменением самой исторической реальности: невозможно было мыслить в России и о России 1900–1910-х годов точно так же, как в 1840–1850-х… Для более полного выявления проблемы отмечу, забегая вперед, что в наше время, в 1990-х годах, обрисованный мною «процесс» продолжает развиваться, и те идеологи, которые с порога отвергают нынешних продолжателей славянофильства, вполне уважительно относятся не только к «классическим» славянофилам первой половины XIX века, но и к таким их наследникам, как Леонтьев или Николай Страхов, а нередко и более поздним — как Розанов или Флоренский. Но идеологи эти по-прежнему начисто «отрицают» любое современное им продолжение славянофильства (в широком смысле слова). Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. Обратимся теперь непосредственно к «черносотенству» начала XX века. Уже и из приведенных соображений ясно, что даже самые решительные противники «черносотенства» так или иначе признавали его прямую связь с долгим и полным значительности предшествующим развитием русской мысли, утверждая, правда, что к XX веку мысль эта «разложилась» и «выродилась». «Выродилась» до такой степени, что как бы вообще утратила культурный статус. И явно господствует представление, согласно которому «черносотенство» начала XX века вообще не имеет отношения к истинной культуре с необходимо присущей ей высотой, богатством, многообразием и утонченностью; культура, мол, абсолютно несовместима с «черносотенством». Это представление настолько утвердилось в умах подавляющего большинства людей, что, знакомясь всерьез с реальными представителями «черносотенства», они испытывают чувство настоящего изумления. Так, например, современный архивист С. В. Шумихин, подготовивший целый ряд интересных публикаций, был, по его собственному признанию, «поражен», когда ему довелось познакомиться с наследием и самой личностью одного из виднейших «черносотенных» деятелей начала века — члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского (1870–1919). Архивисту именно «довелось» узнать об этом человеке, так как изучал-то он ценное наследие полузабытого поэта, прозаика и литературоведа Бориса Садовского (который, впрочем, как оказалось, тоже был «черносотенцем», — правда, не по принадлежности к какой-либо организации, а по внутренним убеждениям), но, обнаружив в архиве Садовского целый ряд писем Б. В. Никольского, С. В. Шумихин невольно увлекся этим близким сотоварищем своего кумира. И вот какое впечатление произвел на архивиста этот человек (отдельные слова выделены в тексте мною): «В первую очередь в этой незаурядной личности поражает то, что идеи, кажущиеся нам (стоило бы уточнить, кто же эти самые «мы»? — В.К.) в исторической ретроспективе несовместимыми, сочетались в Никольском вполне органично, без тени какого-либо душевного дискомфорта. С одной стороны, это был многосторонне одаренный человек: поклонник и глубокий исследователь творчества Фета… крупнейший специалист по творчеству Гая Валерия Катулла; пушкинист, поэт, критик, отмеченный печатью несомненного таланта; вдобавок — один из лучших ораторов своего времени… С другой — перед нами активный член «Союза русского народа» (архивист явно не осмелился сказать: «один из главных руководителей». — В.К.) и не менее одиозного (вот-вот! — В.К.) «Русского собрания»… ортодоксальный монархист»{5} и т. д. (итак, быть монархистом уже само по себе преступление…). К этому можно бы добавить, что Б. В. Никольский был крупным правоведом, глубоко изучавшим римское и современное право, что он собрал одну из самых больших и наиболее ценных частных библиотек того времени, для которой пришлось нанять целую отдельную квартиру, что… впрочем, тут даже трудно все перечислить. Скажу только еще о следующем факте. В 1900 году Александр Блок принес свои юношеские, но уже замечательные стихотворения в имевший вроде бы широкую программу журнал «Мир Божий», где печатались тогда Н. А. Бердяев и Ф. Д. Батюшков, И. А. Бунин и сам В. И. Ленин… Но, познакомившись со стихотворениями, сугубо либеральный редактор журнала В. П. Острогорский заявил Блоку: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится»{6} (речь шла о тогдашней борьбе студентов за «свободу». — В.К.). В следующий раз Блок отдал свои стихи Б. В. Никольскому, и тот (а он тогда уже был одним из активнейших деятелей «черносотенного» Русского собрания), нелицеприятно покритиковав молодого поэта за «декадентщину», все же отправил его талантливые стихи в печать. Этот эпизод бросает свет на уровень эстетической культуры у либерала и «черносотенца». Блок удовлетворенно вспоминал в автобиографии 1915 года, что он со своими стихами после неудачи с Острогорским «долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому» (там же). Следует подчеркнуть, что восприятие современным архивистом С. В. Шумихиным наследия видного деятеля культуры и вместе с тем активнейшего «черносотенца» Б. В. Никольского — это только один выразительный «пример», помогающий уяснить проблему. Было бы совершенно неправильным понять мои рассуждения как некий упрек или хотя бы полемику, обращенные именно к С. В. Шумихину. Повторяю еще раз, что подавляющее большинство нынешних читателей, столкнувшись с «феноменом» Б. В. Никольского, восприняло бы его точно так же, как названный архивист, ибо большинство это порабощено мифом о «черносотенстве». Словом, С. В. Шумихин — это всего лишь типичный современный читатель (и исследователь) на рандеву, на свидании с «черносотенцем». И вот этот читатель убеждается, что личность члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского решительно противоречит всецело господствующему представлению о «черносотенцах». Впрочем, может быть, это только некий исключительный случай, так поразивший современного наблюдателя? И высококультурный Б. В. Никольский — своего рода белая ворона в «черносотенстве», оказавшаяся в его рядах по какой-то нелепой причине? Архивист — хотя он вообще-то человек знающий, осведомленный — воспринимает Б. В. Никольского именно так (это ясно видно из его высказываний). Вбитое в его сознание представление о «черносотенцах» поистине фатально застилает ему глаза, мешает увидеть реальное положение вещей, которое, в сущности, прямо противоположно «общепринятому» взгляду. * * *Выдающиеся деятели культуры (а также Церкви и государства) довольно-таки редко вступали в прямую, непосредственную связь с какими-либо политическими движениями. И тем не менее товарищем (то есть заместителем — вторым по значению лицом) председателя Главного совета Союза русского народа являлся один из двух наиболее выдающихся филологов конца XIX — начала XX века академик А. И. Соболевский (второй из этих двух филологов, академик А. А. Шахматов, был, напротив, членом ЦК кадетской партии). Алексей Иванович Соболевский (1856–1929) имел самое высокое всемирное признание, и после 1917 года, когда очень многие активные «черносотенцы» были — к тому же, как правило, без всякого следствия и суда — расстреляны (в их числе и Б. В. Никольский), его не решились тронуть, а классические труды его издавались в СССР и после его кончины. Деятельнейшим (хотя и не соглашавшимся занимать руководящие посты) участником «черносотенных» организаций был обладавший наиболее высокой духовной культурой из всех тогдашних церковных иерархов епископ, ас 1917 года митрополит Антоний (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1934). В юные годы он был близок с Достоевским и явился — что, конечно, немало о нем говорит, — прототипом образа Алеши Карамазова. Четырехтомное собрание его сочинений, изданное в 1909–1917 годах, предстает как воплощение вершин богословской мысли XX века, — о чем убедительно сказано в фундаментальном трактате о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия», изданном у нас в 1991 году (см. с. 427–438 и особенно с. 565, где Г. В. Флоровский показывает, насколько понимание сущности Церкви в трудах митрополита Антония было глубже и выше, чем в сочинениях на эту тему, принадлежащих прославленному В. С. Соловьеву). Кстати сказать, епископ Антоний постоянно общался и вел переписку с упомянутым Б. В. Никольским. На Всероссийском поместном соборе в ноябре 1917 года архиепископ Антоний был одним из двух главных кандидатов на пост Патриарха Московского и Всея Руси; митрополит Московский Тихон (В. И. Белавин) получил при избрании его Патриархом всего на 12 голосов больше, чем Антоний (соотношение голосов было 162:150). Но Тихон, причисленный ныне (в 1990 году) Церковью к лику святых, был, по-видимому, более готов к тому тяжкому нравственному подвигу, который он совершил, будучи Патриархом в 1917–1925 годах (Антоний же эмигрировал и стал во главе Синода Русской православной церкви Зарубежья). И нельзя не напомнить, что будущий патриарх Тихон, занимая в 1907–1913 годах пост архиепископа Ярославского и Ростовского, одновременно вполне официально возглавлял губернский отдел Союза русского народа (Антоний, как уже сказано, не соглашался занимать руководящее положение в «черносотенных» организациях, хотя весьма активно участвовал в их деятельности). Подвижническая трагедийная судьба святителя Тихона сегодня достаточно широко известна, но при его прославлении замалчивается тот факт, что он был виднейшим «черносотенцем», — так же как и канонизированный одновременно с ним светоносный протоиерей Иоанн Кронштадтский. В. И. Ленин был совершенно точен, когда во время своей жестокой борьбы с патриархом Тихоном и его сподвижниками постоянно называл их «черносотенным духовенством». Как уже говорилось, многие выдающиеся деятели Церкви, государства и культуры России начала XX века не считали возможным или нужным напрямую связывать себя с «черносотенными» организациями. Тем не менее в публиковавшихся в начале XX века списках членов главных из этих организаций — таких, как Русское собрание, Союз русских людей, Русская монархическая партия, Союз русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела, — мы находим многие имена виднейших тогдашних деятелей культуры (притом некоторые из них даже занимали в этих организациях руководящее положение). Вот хотя бы несколько из этих имен (все они, кстати сказать, представлены в любом современном энциклопедическом словаре): один из авторитетнейших филологов академик К. Я. Грот, выдающийся историк академик Н. П. Лихачев, замечательный музыкант, создатель первого в России оркестра народных инструментов В. В. Андреев, один из крупнейших медиков профессор С. С. Боткин, великая актриса М. Г. Савина, известный всему миру византинист академик Н. П. Кондаков, превосходные поэты Константин Случевский и Михаил Кузмин и не менее превосходные живописцы Константин Маковский и Николай Рерих (позднее прославившийся своими духовными инициативами), один из корифеев ботанической науки академик В. Л. Комаров (впоследствии — президент Академии наук), выдающийся книгоиздатель И. Д. Сытин и т. д. и т. п. Речь, повторю, идет о людях, которые непосредственно входили в «черносотенные» организации. Если же обратиться к именам выдающихся деятелей России начала XX века, которые в той или иной мере разделяли «черносотенную» идеологию, но по тем или иным причинам не вступали в соответствующие организации, придется прийти к неожиданному для многих и многих современных читателей выводу. Целесообразно будет сразу же, еще до представления существенных доказательств, сформулировать этот вывод. Есть все основания утверждать (хотя сие утверждение, конечно, вызовет недоверие и даже, по всей вероятности, прямой протест), что преобладающая часть наиболее глубоких и творческих по своему духу и — это уж совсем бесспорно — наиболее дальновидных в своем понимании хода истории деятелей начала XX века так или иначе оказывалась, по сути дела, в русле «черносотенства». Речь идет, в частности, о людях, которые не только не являлись членами «черносотенных» организаций, но подчас даже отмежевывались от них (что имело свои веские причины). Тем не менее, если «примерять» взгляды и настроения этих людей к имевшимся в то время налицо партиям и политическим движениям, становится совершенно ясно, что единственно близким им было именно и только «черносотенство», и их противники вполне обоснованно не раз заявляли об этом. Начать уместно с вопроса об исторической дальновидности, и здесь я обращусь к поистине замечательному документу — записке, поданной в феврале 1914 года Николаю II. Ее автор, П. Н. Дурново (1845–1915), с 23 октября 1905-го по 22 апреля 1906 года был министром внутренних дел России (его на этом посту сменил П. А. Столыпин), а затем занял гораздо более «спокойное» положение члена Государственного совета (стоит отметить, что П. Н. Дурново, как и почти все российские министры внутренних дел начала XX века, был приговорен левыми террористами к смерти). Уже хотя бы в силу своего официального положения П. Н. Дурново не принадлежал к каким-либо организациям, но никто не сомневался в его «черносотенных» убеждениях. Его записка царю проникнута столь поразительным духом предвидения, что современный историк А. Я. Аврех (1915–1988), автор семи изданных с 1966 по 1991 год обстоятельных книг о политических перипетиях начала XX века — книг, в которых он предстает как беззаветный апологет Революции и столь же беззаветный хулитель всех ее противников, — не смог все же удержаться от своего рода дифирамба по адресу Петра Николаевича Дурново. Заявив, что этот деятель — «крайний реакционер по своим взглядам» (а это, как отмечено выше, синоним «черносотенца»), А. Я. Аврех тут же характеризует его как создателя «документа, который, как показали дальнейшие события, оказался настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». В феврале 1914 года уже была очевидна надвигавшаяся угроза войны с Германией, и П. Н. Дурново, убеждая Николая II любой ценой предотвратить эту войну, писал: «…начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. …Армия, лишившаяся… за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Далее П. Н. Дурново пояснял еще: «За нашей оппозицией (имелись в виду думские либералы. — В.К.) нет никого, у нее нет поддержки в народе… наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет»{7}. Это до удивления ясное предвидение всего, что происходило затем в России вплоть до установления большевистской диктатуры (точно сказав о «беспросветной анархии», в самом деле охватившей страну к октябрю 1917 года, П. Н. Дурново не брался предвидеть дальнейшее), прямо-таки посрамляет всех тогдашних «либеральных» и «прогрессивных» идеологов (начиная с более «левого» П. Н. Милюкова и кончая наименее «левым» октябристом А. И. Гучковым), полагавших, что переход власти в их руки — а он действительно свершился в феврале 1917 года — явится прочным залогом решения основных российских проблем (на деле те же Милюков и Гучков удержались у власти всего лишь два месяца…). Итак, историк А. Я. Аврех именует П. Н. Дурново «крайним реакционером по своим взглядам» и вместе с тем называет составленную им записку «настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». Из контекста ясно, что историк усматривает здесь прямое «противоречие» (точно так же, как С. В. Шумихин противопоставляет высшую культуру Б. В. Никольского и его «черносотенство»). Между тем на деле именно те качества, которые, по терминологии А. Я. Авреха, являли собой «крайнюю реакционность», обусловили пророческую силу П. Н. Дурново и других его единомышленников. Один из главнейших кадетских лидеров, В. А. Маклаков, в отличие от подавляющего большинства его сотоварищей, честно признал в опубликованных в 1929 году парижскими «Современными записками» (т. 38, с. 290) мемуарах, что «в своих предсказаниях правые (правые в целом, а не только П. Н. Дурново или еще кто-нибудь. — В.К.) оказались пророками. Они предрекали, что либералы у власти будут лишь предтечами революции, сдадут ей свои позиции. Это был главный аргумент, почему они так упорно боролись против либерализма». Итак, борьба правых (В. А. Маклаков в данном случае явно постеснялся употребить кличку «черносотенцы») против либерализма определялась, диктовалась истинным пониманием грядущего пути русской истории; кадетский идеолог даже счел возможным возвышенно назвать этих своих непримиримых противников «пророками». Само определение «правые» вдруг приобретает здесь ценнейший смысл: «правые» — это те, кто — в отличие от либералов, которые в той или иной степени принадлежали к «левым», — были правы в своем понимании хода истории. И противники «правых» могут, конечно, находить в них самые разные отрицательные, дурные черты и назвать их «консерваторами», «реакционерами» и, наконец, «черносотенцами», вкладывая в эти названия неприятие и ненависть, но нельзя все же не признавать, что именно и только эти деятели и идеологи действительно понимали, куда двигалась Россия в начале XX века… * * *Прежде чем идти дальше, необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать действительный смысл определения «реакционный». В основе его лежит латинское слово, означающее «противодействие». Лишенные, в сущности, какой-либо конкретности, термины «реакция», «реакционный», «реакционер» и т. п. сложились как антонимы (то есть слова противоположного значения) к терминам «прогресс», «прогрессивный», «прогрессист» и т. д., исходящим из латинского же слова, означающего «движение вперед». Термин «прогресс» в новейшее время стал наиважнейшим для большинства идеологов, вкладывавших в него сугубо «оценочный» смысл: не просто «движение вперед», но движение к принципиально лучшему, в конце концов к совершенному обществу — своего рода земному раю. Идея прогресса утвердилась в период распространения атеизма и стала заменой (или, вернее, подменой) религии. Правда, в последние десятилетия XX века даже безусловные «прогрессисты» как бы оказались вынужденными оговаривать, что «прогресс» имеет более или менее «относительный» характер. Так, в соответствующей статье «Большой советской энциклопедии» (т. 21, издан в 1975 году) сначала заявлено, что прогресс есть «переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (с. 28), а потом сказано, что «понятие прогресса неприменимо ко Вселенной в целом, т. к. здесь отсутствует однозначно определенное направление развития» (с. 29). Это вроде бы надо понять так, что в развитии человеческого общества (в отличие от Вселенной в целом) царит одно вполне «определенное» направление развития (к совершенству), однако в другом месте статьи говорится, что «в досоциалистических формациях… одни элементы социального целого систематически прогрессируют за счет других», то есть, говоря попросту, что-то улучшается, а что-то одновременно ухудшается… И даже «социалистическое общество… не отменяет противоречивости развития». Если вдуматься, эти оговорки, по сути дела, отрицают идею прогресса, ибо оказывается, что приобретения в то же самое время ведут к утратам. И крайне сомнительно само уже «выведение» бытия людей из бытия Вселенной в целом, где, даже с точки зрения самих прогрессистов, нет прогресса (в смысле «совершенствования»); ведь люди, в частности, представляют собой не только особенный — общественный, социальный — феномен, но и явление природы, элемент Вселенной в ее целом. И сегодня любому мыслящему человеку ясно, например, что колоссальный прогресс техники поставил на грань катастрофы само существование человечества… Словом, можно рассуждать о прогрессе как определенном развитии, изменении, преобразовании общества, но представление о прогрессе как о некоем принципиальном «улучшении», «совершенствовании» и т. п. — это только миф новейшего времени — с XVII–XVIII веков (основательный повод для размышлений дает тот факт, что ранее в сознании людей господствовал противоположный миф, согласно которому «золотой век» остался в прошлом…). Миф о все нарастающем «совершенствовании» человеческого общества наглядно опровергается простым сопоставлением конкретных и целостных воплощений этого общества на разных — отделенных столетиями и тысячелетиями — стадиях его развития: кто, в самом деле, решится утверждать, что Платон и Фидий, Христовы апостолы и император Марк Аврелий, Сергий Радонежский и Андрей Рублев менее «совершенны», нежели самые «совершенные» люди нашего времени, которому предшествовал столь длительный человеческий «прогресс»? А ведь истинная реальность общества — это все же не количество потребляемой энергии, не характер политического устройства, не система образования и т. п., но сами люди, так или иначе вобравшие в себя все стороны и элементы общественной жизни своего времени. И еще: кто решится доказывать, что люди, живущие в позднейшую, более «прогрессивную» эпоху, более счастливы, чем люди предшествующих эпох? Искусство, запечатлевшее так или иначе духовную и душевную жизнь людей любой эпохи, ни в коей мере не подтвердит подобный тезис… Но, говоря обо всем этом, нельзя умолчать о поистине острейшей проблеме. Несмотря на то что миф о прогрессе в последнее время заметно дискредитировался, он все же остается достоянием большинства (или, пожалуй, даже подавляющего большинства) «цивилизованных» людей. Ведь, как уже сказано, вера в прогресс явилась заменой веры в Бога, а люди не могут жить вообще без веры. И масса людей проникнута всецело иллюзорным убеждением, что, «усовершенствуя» существующее общество, они — или хотя бы их дети — обретут подлинное удовлетворение и счастье. Особенно опасны, конечно, многообразные идеологи, которые убеждены не только в том, что эта цель достижима, но и в том, что они знают, как ее достичь. При этом на первый план выходит, естественно, даже не задача созидания более совершенного общественного устройства, но предварительная радикальная переделка или даже полная ликвидация существующего устройства. Теперь мы можем вернуться непосредственно к нашей теме. В начале XX века в России исключительно активно выступали бесчисленные «прогрессисты» — как либеральные, стремившиеся кардинально реформировать русское общество, так и революционные, убежденные в необходимости его полнейшего разрушения (что-де уже как бы само по себе обеспечит благо и процветание России). Своих противников они называли «реакционерами» (то есть буквально «противодействующими»); слово это, в сущности, стало бранным и непосредственно соседствовало с кличкой «черносотенец». Конечно, среди «реакционеров» были разные люди (ниже об этом еще пойдет речь). Но сосредоточимся на наиболее значительных из них — тех, кого сами «прогрессисты» подчас стеснялись назвать «реакционерами» (и тем более «черносотенцами»), предпочитая не столь резкое обозначение «консерватор», то есть «охранитель» (кстати, этот русский эквивалент слова «консерватор» был намного более «бранным»: «охранитель» как бы смыкался с «царской охранкой»). К «реакционерам» причисляли тех, кто ясно понимал иллюзорность идеи прогресса, отчетливо видел, что ослабление и разрушение вековых устоев России приведут к неисчислимым бедам и страданиям и в конце концов фатально «разочаруют» даже и самих «прогрессистов». * * *Уже шла речь о поразительной силе предвидения, которой обладали «реакционеры». Дело в том, что «прогрессисты», порабощенные своим мифом, заведомо не могли прозреть реальный ход истории. Их взгляд в будущее был как бы заслонен их собственными легковесными прожектами и неизбежно оказывался поверхностным и примитивным. И, конечно, не только предвидение как таковое, но и вообще духовная глубина и богатство чаще всего органически связаны с так называемыми «правыми» убеждениями. Начать уместно с имени величайшего ученого конца XIX — начала XX века Д. И. Менделеева, который в зрелые свои годы исповедовал прочные «правые» убеждения. Об этом любопытно вспоминал один из его весьма «либеральных» учеников — В. И. Вернадский. Сказав о заведомо «консервативных (слово «реакционных» Вернадский употребить не захотел, но достаточно и «охранительных». — В.К.) политических взглядах» Д. И. Менделеева, он вместе с тем свидетельствовал: «…ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества… Мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир… Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и его активному приложению, в очень многих возбуждал такие логические выводы и построения, которые были далеки от него самого»{8}. Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с мнимым — навязанным либеральным мифом — «противоречием» между «консерватизмом» и глубиной и богатством духовной культуры. В советское время была популярна даже своего рода «концепция» так называемого вопрекизма, с помощью коей пытались доказывать, что исповедовавшие безусловно «консервативные» и «реакционные» убеждения великие мыслители, писатели, деятели науки — такие, как Кант, Гегель, Гёте, Карлейль, Бальзак, Достоевский, — достигли величия в силу некоего парадокса — «вопреки» своим взглядам. Но эта искусственная «концепция» попросту несерьезна, и дело, конечно, обстоит прямо противоположным образом. «Превосходство» консерватизма особенно ясно выступает тогда, когда речь идет о предвидении будущего (о чем уже говорилось). Русские «правые» с самого начала Революции, и более того, еще в XIX веке, с удивительной прозорливостью предсказали ее результаты. И вполне очевидно следующее: противостоявшие «правым» деятели и идеологи исходили из заведомо несостоятельного и, более того, по сути дела, примитивного миропонимания, согласно которому можно-де, отринув и разрушив вековые устои бытия России, более или менее быстро обрести некую если и не райскую, то уж во всяком случае принципиально более благодатную жизнь; при этом они были убеждены, что их ум и их воля вполне годятся для осуществления сей затеи. И одной из главных причин их прискорбного и в конечном счете рокового для России и для них самих заблуждения был недостаток подлинной культуры самосознания — культуры, заключающейся не в обилии знаний и не в интеллектуальных навыках, но в истинно глубоком переживании исторического бытия — прошедшего и современного; если выразиться кратко, «либералы» были нередко умные, но не мудрые деятели. Позволительно утверждать, что простые крестьяне и рабочие, вступавшие в «черносотенные» организации (а «простолюдины» вступали туда десятками и даже сотнями тысяч — о чем ниже), были мудрее либеральных профессоров типа кадета С. А. Муромцева и радикальных публицистов вроде «народного социалиста» А. В. Пешехонова. Для создания более ясного представления о существе проблемы целесообразно напомнить о российском политическом и партийном «спектре» начала века: 1) «левые» партии: социал-демократы (из которых в 1903 году выделились большевики); социалисты-революционеры (эсеры) и близкие к ним трудовики и народные социалисты; анархисты различного толка; 2) «центристские»: конституционные демократы (кадеты) и так или иначе примыкавшие к ним мирно-обновленцы и прогрессисты; более «правые» (но все же либеральные) — октябристы; 3) «правые»: различные организации «черносотенцев» и более «умеренная» партия националистов. Если проследить пути виднейших деятелей культуры, так или иначе сближавшихся с существовавшими тогда партиями, выяснится, что те из них, которые были способны обрести наиболее глубокую духовную культуру, двигались «слева направо», — и это было, в сущности, постепенным обретением мудрости. Так, знаменитые позднее мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк начали свой путь в социал-демократической партии; как ни странно звучит это теперь, они в свои молодые годы были членами той самой РСДРП, в которой одновременно с ними состояли В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Струве, о чем уже говорилось, даже был автором Манифеста РСДРП, принятого на Первом съезде партии в 1898 году (кстати, позднее в РСДРП побывал и видный мыслитель следующего поколения — Г. П. Федотов). Впоследствии, в 1908 году, Бердяев, споря с В. В. Розановым, объяснял свою причастность к РСДРП именно молодостью, незрелостью, — над чем тут же поиздевался его бывший товарищ по партии Троцкий, написавший в фельетоне «Аристотель и Часослов», что Бердяев «ищет для «левости» объяснения в… физиологии возраста. Молодо-зелено, говорит он на эту тему…» И Троцкий «заклеймил» Бердяева таким «афоризмом»: «Русский человек до тридцати лет — радикал, а затем каналья»{9}. Кстати, С. Н. Булгаков также называл свой социал-демократизм «болезнью юности». Здесь невозможно обсуждать соотношение «радикализма» и возраста, но скажу все же, что дело, очевидно, в проблеме созревания духа, а отнюдь не в «физиологии». В. В. Розанов был, по его собственному признанию, вполне «левым» до 22–23-х лет; однако многие достаточно известные и, без сомнения, неглупые люди ухитрялись сохранять крайнюю «левизну» до седых волос; напомню уже сказанное о качественном различии ума и мудрости. В отличие от ума, мудрость способна преодолевать тяжкое давление среды, мнений большинства, в конце концов самой эпохи. Никуда не денешься от того факта, что в начале XX века только не очень уж значительное меньшинство деятелей культуры смогло устоять перед своего рода гипнозом революционности или хотя бы недальновидного прогрессизма и либерализма; даже иные наиболее глубокие люди, как Александр Блок, жили словно на грани этого гипноза и действительного прозрения. Тем не менее близко знавшая поэта «либералка» З. Н. Гиппиус с полным основанием написала, что «если на Блока наклеивать ярлык… то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти было нельзя… Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать… Блок… с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева… так и на нетерпимость новой по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик»{10}. Запомним это «если наклеивать ярлык, то ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти нельзя». То же самое вполне можно сказать о целом ряде самых выдающихся деятелей культуры того времени. И вернемся теперь к названным выше виднейшим мыслителям начала XX века. Преодолев свой юношеский социал-демократизм, они к 1905 году сблизились с центристской кадетской партией, а Струве стал даже членом ее ЦК (впоследствии он заявил о выходе из этого ЦК). Однако их развитие «вправо» продолжалось, и в начале 1909 года они выступили в знаменитом сборнике «Вехи», который произвел на кадетов ошеломляющее впечатление; только в конце следующего, 1910 года они, опомнившись, издали воинствующий антивеховский сборник «Интеллигенция в России» («левые» атаковали «Вехи» сразу же). Полностью порвать с такими недавними сотоварищами, как Бердяев, Булгаков, Струве, кадеты, конечно, не хотели. Поэтому их критика «Вех», при всей ее резкости, была по-своему осторожной; например, они только намекали на перекличку «веховцев» с «черносотенством». П. Н. Милюков, правда, решился прямо сопоставить содержание «веховских» статей и, с другой стороны, речей «черносотенцев» Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича и «националиста» В. В. Шульгина, хотя и оговорил, что «дело пока так далеко не идет». Он не советовал «слишком спешить с отождествлением проектов «Вех» и предложений крайне правых (то есть «черносотенных». — В.К.) партий. Проповедуя религиозность, государственность и народность, авторы «Вех» тем самым еще не усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и великорусского патриотизма. Однако точки соприкосновения есть — и довольно многочисленные». А в конце статьи, несколько забыв об осторожности, П. Н. Милюков, безоговорочно «клеймя» тех идеологов, которые, по его определению, «основывают национализм на реставрации старой триединой формулы» (то есть «православие, самодержавие, народность»), заявил следующее: «Совершили ли авторы «Вех» и этот шаг, мы пока сказать не решаемся (вот именно «не решаемся»! — В.К.). Но путь их ведет сюда. И они уже стоят на этом пути. Выбор пути уже сделан». И он взывал к веховцам: «Вернитесь же в ряды и станьте на ваше место. Нужно продолжать общую работу русской интеллигенции» (то есть работу по разрушению исторической России…){11}. Итак, веховцы, согласно характеристике кадета, «уже стоят» на пути, ведущем к «черносотенству». Иначе оценивали «Вехи» и левые, и правые идеологи, которые прямо и открыто, без каких-либо обиняков говорили об их фактическом переходе в «черносотенный» лагерь (разумеется, первые говорили об этом с негодованием, а вторые с одобрением или даже с восхищением). И в самом деле: основной смысл статей главных авторов «Вех» никак не вмещался в идеологию центристских (не говоря уже о левых) партий, включая даже наиболее «правую» из них — «октябристскую». Правда, впоследствии те или иные веховцы проделали сложную, извилистую эволюцию; «грехи молодости» (начиная с пребывания в РСДРП) не прошли для них даром. Более или менее прямым был, пожалуй, только путь С. Н. Булгакова, во многом отошедшего даже от остальных веховцев и вступившего в теснейшую связь с вполне «правыми» В. В. Розановым и П. А. Флоренским. Он, например, оценивал и левые партии, и кадетов, и октябристов, в сущности, «по-черносотенному». С. Н. Булгаков писал, в частности, о 2-й Государственной думе, где господствовали «левые» депутаты: «Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных… внушите им, что они спасители России… и вы получите 2-ю Государственную думу. И какими знающими, государственными, дельными представлялись на этом фоне деловые работники ведомств — «бюрократы»…» Но, по сути дела, столь же неприемлемы были для С. Н. Булгакова и кадеты, игравшие ведущую роль ранее, в 1-й Думе: «Первая Государственная дума… обнаружила полное отсутствие государственного разума и особенно воли и достоинства перед революцией, и меньше всего этого достоинства было в руководящей и ответственной кадетской. партии… Вечное равнение налево, трусливое оглядывание по сторонам было органически присуще партии и вождям… и это неудивительно, потому что духовно кадетизм был поражен тем же духом нигилизма и беспочвенности, что революция. В этом, духовном, смысле кадеты были и остаются в моих глазах революционерами в той же степени, как и большевики»{12}. Особое негодование С. Н. Булгакова вызывала позиция «правого» кадета В. А. Маклакова. Последний подчас довольно резко расходился с Милюковым, который в его глазах был слишком «левым»; тем не менее осенью 1915 года Маклаков опубликовал вызвавшую сенсацию статью «Трагическое положение», основанную на весьма прозрачной «подрывной» аллегории: «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге, — писал он, имея в виду путь России в условиях тяжкой войны, — один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может… В автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, но оттеснить шофера на полном ходу — трудная задача». И Маклаков развил скользкую дилемму: или следует подождать времени, «когда минует опасность» (то есть окончится война), или внять матери, которая «будет просить вас о помощи», и все же немедля отстранить не могущего править шофера{13}; кадеты абсолютно необоснованно полагали, что они-то «умеют» и могут править Россией… С. Н. Булгаков вспоминал позднее, как «в обращение было пущено подлое словцо В. А. Маклакова о перемене шофера на полном ходу автомобиля, и среди мужей — законодателей разума и совета (то есть либеральных думских депутатов. — В.К.) совершенно серьезно обсуждался вопрос о том, внесет ли это какое-либо потрясение или нет, причем, конечно, разрешали в последнем смысле». Сам же С. Н. Булгаков, как он формулировал, «видел совершенно ясно, знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня». С негодованием писал С. Н. Булгаков о политике кадетов и октябристов в конце 1916 года, в канун Февраля: «В это время в Москве (где жил мыслитель. — В.К.) происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот и говорилось об этом, как о событии завтрашнего дня. Приезжал в Москву А. И. Гучков (лидер октябристов. — В.К.), В. А. Маклаков, суетились и другие спасители отечества». И еще: «Особенное недоумение и негодование во мне вызвали в то время дела и речи кн. Г. Е. Львова, будущего премьера (Временного правительства. — В.К.)… Его я знал… как верного слугу Царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной сивухе, и вдруг его речи на ответственном посту (накануне Февральской революции Г. Е. Львов стал председателем Всероссийского земского союза. — В.К.) зовут прямо к революции… Это было для меня показательным, потому что о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Не иначе настроены были и мои близкие: Н. А. Бердяев бердяевствовал в отношении ко мне и моему монархизму, писал легкомысленные и безответственные статьи о «темной силе»; кн. Е. Н. Трубецкой плыл в широком русле кадетского либерализма и, кроме того, относился лично к Государю с застарелым раздражением… Только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого…» Это булгаковское восприятие политической действительности тогдашней России ничем не отличалось в своих основах от «черносотенного», хотя С. Н. Булгаков никогда не решался объявить себя прямым сторонником последнего. Он писал о руководителях «черносотенцев», что «они исповедовали православие и народность, которые и я исповедовал», но все же «я чувствовал себя в трагическом почти одиночестве в своем же собственном лагере», то есть в лагере «правых». Еще пойдет речь о том, почему С. Н. Булгаков (и, конечно, не только он) не мог в прямом смысле присоединиться к лидерам «организованного черносотенства»; но в то же время совершенно ясно, что его основные представления и убеждения, если определять их место в политическом спектре начала XX века, совпадали именно и только с «черносотенными». Очень характерно его замечание: «Из Госдумы я вышел таким черным, каким никогда не бывал». А вот его восприятие Февральской революции: «…начали ловить и водить переодетых городовых и околоточных с диким и гнусным криком… появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девицы… У меня была смерть на душе… А между тем кругом все сходило с ума от радости… брехня Керенского еще не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна)… Я… знал сердцем, как там, в центре революции ненавидели именно Царя, как там хотели не конституции, а именно свержения Царя, какие жиды (выделено С. Н. Булгаковым. — В.К.) там давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся — до цареубийства включительно — с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как цареубийством, которое есть настоящая черная месса революции. И вот понеслась весть за вестью: Царь отрекся. Одновременно в газетах появились известия об «Александре Федоровне» (по жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться)»{14}. Здесь естественно возникает вопрос о роли еврейства в Революции — вопрос, которого мы еще не касались. С. Н. Булгаков писал позднее об «участии» еврейства в Российской революции: «Чувство исторической правды заставляет признать, что количественно доля этого участия в личном составе правящего меньшинства ужасающа. Россия сделалась жертвой «комиссаров», которые проникли во все поры и щупальцами своими охватили все отрасли жизни… Еврейская доля участия в русском большевизме — увы — непомерно и несоразмерно велика…» И далее: «Еврейство в своем низшем вырождении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении совершило… значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над св. Русью, которое было попыткой ее духовного и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства России…»{15} * * *Но мы еще вернемся к этой острой теме. Сейчас необходимо подвести итоги изложенного выше. С. Н. Булгаков, как ныне, пожалуй, общепризнано, один из наиболее выдающихся представителей русской (да и, конечно, не только русской) духовной культуры начала XX века. А между тем его прямая «перекличка» с умонастроением заведомых «черносотенцев» вполне очевидна. Еще раз повторю: если определять «место», «положение» С. Н. Булгакова в политическом спектре эпохи Революции, — это именно и только «черносотенство». Конечно же, многие сегодняшние прогрессисты и либералы будут резко возражать, пытаясь доказывать, что между даже самыми «правыми» веховцами и, с другой стороны, «черносотенцами» якобы нет ничего общего. В связи с этим уместно обратиться к весьма характерной нынешней статье Владлена Сироткина «Черносотенцы и «Вехи», где предпринята попытка убедить читателей в том, что веховцы в равной мере несовместимы и с «левыми», и с «правыми». Правда, В. Сироткин не умолчал об очень выразительной особенности «Вех»: в этом сборнике сокрушительно развенчивались «левые» (и революционеры, и либералы), но, признает В. Сироткин, — «о черносотенцах там ни слова — народопоклонничество и здесь сыграло роль самоцензуры!». Автор вряд ли до конца осознал смысл своего собственного суждения… Ведь получается, что спровоцированные «левыми» бунты и аграрные беспорядки не являлись, с точки зрения веховцев, выражениями народной воли (именно потому «народопоклонничество» веховцев не мешало им отвергнуть все «левое»), а сопротивление Революции со стороны «черносотенцев» эти виднейшие мыслители, напротив, воспринимали как выражение подлинной народной воли, не подлежащей критике! В это стоит вдуматься… Стремясь, так сказать, окончательно разоблачить «черносотенцев», В. Сироткин пишет о речах Н. Е. Маркова («черносотенный» депутат Государственной думы): «Все это очень напоминало будущие речи Муссолини и Гитлера… И не случайно в своей мракобесной книжке «Война темных сил» Марков позднее восторгался Муссолини»{16}. Плохо осведомленный В. Сироткин явно полагает, что, сообщая об этом, он полностью «отделил» веховцев от «черносотенцев». Однако веховец (и далеко не самый правый) Н. А. Бердяев в одно время с Марковым писал в своей книжке «Новое средневековье»: «Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы… Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы»{17}. Могут возразить, что Бердяев вообще был крайне неустойчивым мыслителем, и у него можно обнаружить самые разные, нередко несовместимые, суждения. Но фашизм с его полным отрицанием «классических» форм демократии — вещь весьма и весьма определенная, конкретная, и одинаковый легкомысленный восторг перед ним ясно свидетельствует, что у Бердяева и Маркова были несомненные общие основы мировосприятия. Словом, попытки Владлена Сироткина и многих других убедить нас в несовместимости идеологии веховцев и «черносотенцев» попросту несерьезны; деятель, в честь которого получил свое имя историк Сироткин, то есть настоящий Владлен, был гораздо более прав, когда в свое время теснейшим образом связывал веховцев и «черносотенцев». В еще большей степени все это относится к тем двум великим мыслителям, которые были «правее» веховцев и с которыми, в частности, тесно сблизился в свои зрелые годы С. Н. Булгаков, — П. А. Флоренскому и В. В. Розанову. Впрочем, вопрос о Розанове даже не требует особого обсуждения, ибо и при жизни, и вплоть до нашего времени его вполне «заслуженно» именуют «черносотенцем». В связи с этим вспоминается один характерный эпизод из недавней литературной жизни. Кличка «черносотенец» не раз была употреблена в обширной статье о Розанове, сочиненной беззаветной современной «либералкой» Аллой Латыниной (см. журнал «Вопросы литературы», № 3 за 1975 год). Вскоре на заседании Приемной комиссии Московской писательской организации решался вопрос о вступлении А. Латыниной в Союз писателей, — притом статья о Розанове рассматривалась в качестве главного «достижения» претендентки. Я, состоявший тогда в сей комиссии, выступил против приема А. Латыниной, однако отнюдь не потому, что она «клеймила» Розанова как «черносотенца». Я говорил о том, что претендентка, увы, пишет о гениальном мыслителе как о некоем сомнительном писаке, якобы специализировавшемся на «политических доносах», «покушавшемся на свободу духа, свободу слова» (это Розанов-то!), проявлявшем «озадачивающую тенденциозность и странную глухоту (!) к художественной природе произведения искусства», «поразительную глубину непонимания (!) Достоевского» и т. д. и т. п. (все это — цитаты из статьи Латыниной…). Я выразил уверенность в том, что через какое-то время самой А. Латыниной будет попросту стыдно за этот свой жалкий опус (это время, думаю, настало; во всяком случае, невозможно представить, чтобы А. Латынина добровольно переиздала это свое «творение»…). Разумеется, мое выступление встретило в Приемной комиссии самый жесткий отпор, и А. Латынина была принята в Союз писателей — прежде всего именно как автор статьи о Розанове. Мое положение в Комиссии стало после этого шатким, а через какое-то время я постыдился промолчать и резко выступил против приема в Союз писателей высокопоставленного графомана — тогдашнего первого замминистра иностранных дел Ковалева, которого «рекомендовали» одновременно два секретаря Союза (хотя это не одобряется Уставом) — Андрей Вознесенский и Егор Исаев. И тогда меня уже вообще вычеркнули из Приемной комиссии… Я же, признаюсь, был весьма рад, что как-то пострадал из-за Розанова, которого теперь издали аж миллионными тиражами (это едва ли мог предвидеть и сам Василий Васильевич!). Сегодня остерегаются называть признанного гениальным мыслителем Розанова «черносотенцем», но он, конечно же, был «крайне правым», хотя в то же время невозможно представить его членом какой-либо партии. Впрочем, как уже не раз говорилось, многие выдающиеся деятели культуры не считали для себя возможным войти в какую-либо политическую организацию. Вместе с тем в высшей степени закономерно, что в 1913 году Розанова изгнали из формально «неполитической» организации — Религиозно-философского общества, творцом которого, кстати сказать, во многом был он сам. И это сделали люди, несовместимые с ним именно в политическом плане (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, А. В. Карташев, Н. А. Гредескул, Е. В. Аничков, А. А. Мейер и т. д.), и Розанов был изгнан именно за его «черносотенство». А в числе его тогдашних защитников были веховец П. Б. Струве и С. А. Аскольдов (Алексеев) — участник позднейшего сборника «Из глубины» (1918), подготовленного к изданию теми же веховцами. Между прочим, «дискриминируя» Розанова, Философов довольно-таки мерзко сказал и о его единомышленнике Флоренском: «Статья (речь шла об одной из «черносотеннейших» статей Розанова. — В.К.) помещена в «Богословском вестнике», органе Московской Духовной Академии… и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе… как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности…»{18} Иначе говоря, гнать надо этого Флоренского из Академии и «Богословского вестника» — как мы выгнали Розанова. Через двадцать лет, в 1933 году, ГПУ отправит П. А. Флоренского в ГУЛАГ по обвинению в «черносотенстве» и «фашизме» (эти слова есть в опубликованных ныне следственных и иных материалах)… И как «поучительна» эта перекличка либеральных витий 1910-х годов и гэпэушников! Но сия линия продолжается еще и сегодня… Так, неведомый мне автор, Леонид Никитин, в 1990 году издал в «демократическом» издательстве «Прометей» брошюру под эффектным названием «Здесь и теперь. Современный опыт философско-религиозного исследования», в которой, в частности, заявлено, что Павел Флоренский — «один из самых ярких ревнителей… ретроградного направления… Значительность и глубину затронутых им проблем нельзя недооценивать, но вместе с тем нельзя, например, не заметить и того, что он громит марбургскую школу неокантианцев (ту самую, которую прошел Пастернак)… почти с тем же непробиваемым пафосом собственной доброкачественности, с которым через 10–15 лет Геббельс открыто назовет их «жидами» и «дегенератами»…» «Ретроградное» здесь, конечно же, синоним «черносотенного», хотя П. А. Флоренский, как явствует из текста, называл марбургских неокантианцев «жидами» и «дегенератами» как-то скрытно — в отличие от Геббельса, который делал это «открыто». Но что скажет тов. Никитин о поэте, писавшем 19 июля 1912 года из самого Марбурга об этих самых неокантианцах: «Ах, они не существуют… Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма». Ведь так написал именно тот Б. Л. Пастернак (см. его книгу: «Воздушные пути». М., 1982, с. 7), который для тов. Никитина является своего рода высшим критерием ценности марбургской школы (ведь она «та самая, которую прошел Пастернак»). Тов. Никитин может возразить, что позднее, в «Охранной грамоте», Б. Л. Пастернак употреблял по отношению к главе сей школы слово «гениальный». Но тов. Никитин все же не сумел понять пастернаковский текст, насквозь проникнутый иронией; в этом тексте вместо подлинной творческой гениальности вдруг предстает как бы «реальный дух математической физики», — то есть, если угодно, интеллектуальное животное (употребляя юношеское пастернаковское слово — «скот»). И, вопреки тов. Никитину, Пастернак, в сущности, отказался «проходить» школу Марбурга: всего через несколько недель после начала соприкосновения с ней (прерываемого к тому же бурным романом и поездкой в Италию) он с явным отталкиванием от нее и даже, пожалуй, отвращением бежал из Марбурга в Москву… Это отнюдь не значит, что Пастернак недооценивал марбургскую философскую школу; ее методологические, «инструментальные» достижения очевидны и в известном смысле уникальны (их очень высоко ценил, в частности, М. М. Бахтин). Но, если выразиться попросту, в этой философии не было почти ничего «для души». Поэтому Пастернак и сказал о марбургских философах, что они «не существуют», а этот «приговор» вполне можно выразить по-другому: они дегенерировали, утратили основное в человеке («скоты»). Словом, если тов. Никитину угодно видеть в суждениях Флоренского «скрытый» смысл, подобный смыслу суждений Геббельса, то он должен, обязан охарактеризовать точно так же и суждения Пастернака… Впрочем, все здесь обстоит гораздо проще: тов. Никитин, в силу или отсутствия способностей, или недостаточной подготовленности, по сути дела, не понимает ни Флоренского, ни Пастернака, ни марбургскую школу; он только наклеивает не им придуманные ярлыки оценок (и негативных, и позитивных). Но пора бы ему все же понять самую малость: до предела постыдно ставить в один ряд с Геббельсом человека, который был загублен в результате аналогичного лживого обвинения… Это, кстати сказать, неизмеримо хуже, чем быть «интеллектуальным скотом»… * * *Вернемся еще раз к вопросу о непосредственном участии людей с «черносотенной» идеологией в соответствующих «организациях». Прославленный живописец В. М. Васнецов, получив предложение стать одним из членов-учредителей «черносотенного» Русского собрания, писал в своем ответном послании: «По существу я не имел бы ничего против; но дело в том, что на моей ответственности на долгие годы лежит столь серьезная художественная задача, что я все свои духовные и физические силы обязан сосредоточить на выполнении ее… Кроме того, работы эти, мне кажется, вполне соответствуют (выделено мною. — В.К.) тем задачам, выполнение которых поставило себе целью «Русское собрание»…»{19} В. М. Васнецов исключительно высоко ценил деятельность В. А. Грингмута, Л. А. Тихомирова, В. Л. Кигна (Дедлова) и других виднейших «черносотенцев». По его превосходному рисунку была изготовлена торжественная хоругвь (род знамени) Русской монархической партии. Близкий Васнецову великий живописец М. В. Нестеров преклонялся перед сочинениями «черносотенного» епископа Антония (Храповицкого). Он, в частности, сравнивал его и так же чрезвычайно высоко ценимого им В. В. Розанова, который, по его выражению, «кладет камень за камнем в подготовке больших и смелых решений в религиозных вопросах. Теперь по Руси немало таких, как он, и наисильнейший и наиболее обаятельный… епископ Уфимский и Мензелинский Антоний (Храповицкий)»{20}. Впоследствии, 19 октября 1917 года, Нестеров сообщал: «Сейчас пишу архиепископа Антония (Храповицкого), возможного патриарха Всероссийского» (там же, с. 277). Этот превосходный портрет хранится ныне в Третьяковской галерее. Поскольку Антоний — один из «проклятых», искусствоведы, пишущие о Нестерове, пытаются утверждать, что художник-де в этом портрете «разоблачал» архиепископа. Так, в одной из книг о творчестве Нестерова читаем: «Уже в 1909 году В. И. Ленин называл Антония Волынского «владыкой черносотенных изуверов»…» Поэтому на нестеровском портрете предстает, мол, «властное и неприятное лицо человека… полного жажды власти и гордыни… Холеные, породистые, почти сжатые в кулак и вместе с тем как бы покоящиеся на архиерейском жезле руки» и т. д.{21}. Это, конечно же, всецело тенденциозное «толкование» портрета. Тут уместно вспомнить зарисовку Антония, сделанную в мемуарах знаменитого лидера «партии националистов» В. В. Шульгина. Он не знал полотна Нестерова, но зато в 1909 году присутствовал на встрече епископа Антония с Николаем II: «Этот архиерей имел удивительно представительную внешность. Некоторые говорили, что он похож на Бога Саваофа, как его представляют себе в простоте души своей народные богомазы. В величественной лиловой мантии он стоял перед Царем, опираясь обеими руками на свой пастырский посох. Он говорил об отношениях монарха и Государственной думы…»{22} Этот «словесный портрет» близок к нестеровскому только в последнем, — оконченном уже после большевистского переворота, — есть черты глубочайшего страдания и скорби, но очевидна и непреклонность. И то, что советский искусствовед обозначает словами «жажда власти» и «гордыня», в действительности есть вера в конечную победу и презрение к насильникам. В связи с портретом архиепископа Антония необходимо напомнить, что в том же 1917 году (летом) Нестеров написал двойной портрет «Мыслители», на котором запечатлены С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский, а также собирался создать еще портрет В. В. Розанова, но вынужден был отказаться от намерения, ибо гениальный мыслитель и писатель был уже тяжко болен и, как вспоминал М. В. Нестеров позднее в своем ярком очерке «В. В. Розанов», «разрушался, и мало было надежд воскресить в нем былое. Время для такого портрета прошло, прошло безвозвратно…»{23} «Выбор» героев своих полотен, сделанный в 1917 году крупнейшим русским живописцем начала XX века (я вовсе не хочу умалять достоинства М. А. Врубеля, В. А. Серова или более молодого Б. М. Кустодиева, но первенство М. В. Нестерова все же неоспоримо), сам по себе очень много значит. Проникновенное чутье художника избрало этих четырех наиболее глубоких духовных вождей русской культуры эпохи Революции… Рядом с ними неизбежно отходят на второй план все остальные (включая даже и других участников сборника «Вехи» — не говоря уже о либеральных и революционных идеологах). Никто из них — сейчас это уже более или менее ясно каждому беспристрастному наблюдателю — не может быть поставлен в один ряд с Розановым, Флоренским, С. Н. Булгаковым и митрополитом Антонием (Храповицким). Либеральные идеологи — будь то П. Н. Милюков или М. М. Ковалевский, Д. С. Мережковский или Л. Шестов, и даже философ Е. Н. Трубецкой — не поднимались и не могли подняться до этого уровня (о революционных идеологах и говорить не приходится — их мышление было попросту примитивным). Одна из важнейших причин «первенства» консервативных идеологов кроется в проблеме культурного «наследства». Вопрос о наследстве был остро поставлен, в частности, в сборнике «Вехи» и полемике вокруг него. Тот же С. Н. Булгаков (как и прямые «черносотенцы») считал необходимым продолжать дело Киреевского, Гоголя, Хомякова, Тютчева, братьев Аксаковых, Самарина, Достоевского, Страхова, Леонтьева, которые основывались на «триаде» православия, самодержавия и народности. «Учителями» же его противников были поздний Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Лавров, Шелгунов и т. п. Ныне любой мыслящий человек понимает, что с точки зрения культуры первые представляют собой не просто «более выдающихся», но явления совершенно иного, высшего порядка. Однако в начале XX века либералы (не говоря уже о революционерах) вообще не изучали (да и не имели достаточной подготовки, чтобы изучить и понять) этих крупнейших мыслителей России; в их глазах они являли собой чуждых и враждебных «реакционеров». Впрочем, это была уже давно, еще в XIX веке, сложившаяся и безусловно господствующая тенденция, о которой резко, но совершенно точно писал, например, веховец С. Л. Франк в книге «Крушение кумиров»: «…сколько жертв вообще было принесено на алтарь революционного или «прогрессивного» общественного мнения!.. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые приходящие в голову самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — нет числа!»{24} Все это привело к поистине диким результатам, рельефно отразившимся, например, в следующем факте. В начале XX века не раз издавался «Опыт библиографического пособия» — «Русские писатели XIX–XX ст.», составленный влиятельным «прогрессивным» книговедом И. В. Владиславлевым. Это «пособие» (которое по охвату имен значительно шире названия, так как в нем представлены не только писатели в узком смысле — то есть художники слова, — но и многие важнейшие с точки зрения составителя «идеологи») было, так сказать, «вратами культуры» для всей «прогрессивной» интеллигенции. И вот что прямо-таки замечательно: в дореволюционных изданиях этого «пособия» (1909 и 1913 годы) имя Константина Леонтьева (хотя он, между прочим, опубликовал ряд романов и повестей) вообще отсутствует! А между тем в «пособии» множество имен заурядных и просто ничтожных — но зато «прогрессивных»! — идеологов — современников гениального мыслителя (М. Антонович, К. Арсеньев, В. Берви-Флеровский, В. Зайцев, А. Скабичевский, С. Шашков, Н. Шелгунов и т. д.), чьи сочинения ныне и читать-то невозможно. Точно так же отсутствует в «пособии» и имя Розанова, хотя есть целый ряд имен его менее, гораздо менее или прямо-таки несоизмеримо менее значительных современников, — таких, как А. Айхенвальд, А. Богданович, С. Венгеров, А. Волынский, А. Горнфельд, Р. Иванов-Разумник, П. Коган, В. Кранихфельд, А. Луначарский, В. Львов-Рогачевский, А. Ляцкий, Е. Соловьев-Андреевич, В. Фриче, Л. Шестов и т. п. Эти авторы, в отличие от Розанова, были так или иначе связаны с кадетами, или эсерами, или социал-демократами. Любопытно, что в послереволюционное издание своего «пособия» (1918) Владиславлев, — видимо, слегка «поумнев», — включил и Леонтьева, и Розанова. Но, конечно, для начала XX века характерно не только прискорбное «замалчивание» ценнейшего наследства русской культуры, а и жестокая борьба против него. Вот весьма впечатляющий рассказ В. В. Розанова: «— Нужно преодолеть Достоевского, — это взял темою себе в памятной речи, посвященной Достоевскому, в Религиозно-Философском собрании (должно быть, в 1913 или 1914 году) Столпнер{25}. — Диалектика, философия и психология всего Достоевского… такова, что пока она не опрокинута, пока не показана ее ложность, дотоле русский человек, русское общество, вообще Россия — не может двинуться вперед… Шестов, тоже еврей, сидя у меня, спросил: — К какой бы из теперешних партий примкнул Достоевский, если бы был жив? Я молчал. Он продолжал: — Разумеется, к самой черносотенной партии, к Союзу русского народа и «истинно русских людей». Догадавшись, я сказал: — Конечно. Не забудем, что… Достоевский стал на сторону мясников, поколотивших студентов в Охотном ряду (Москва). На бешенство печати он сказал, обращаясь, собственно, к студентам: «Мясником был и Кузьма Минин-Сухорукий». Достоевский еще не пережил 1-го марта (то есть убийства Александра II. — В.К.). Можно представить себе ярость, какую бы он после этого почувствовал… Но достаточно и мясников: он очевидно бы примкнул к тем, кто после 17 октября и «великой забастовки» (1905 года. — В.К.) начал громить интеллигенцию в Твери, в Томске, в Одессе»{26}. Стоит добавить к этому, что вдова Достоевского, благороднейшая Анна Григорьевна, стремившаяся так или иначе продолжать его деятельность, сочла своим долгом стать действительным членом «черносотенного» Русского собрания… Нельзя умолчать о характерной и по-своему забавной ситуации, в которой оказались сегодня, сейчас «прогрессистские» идеологи: с одной стороны, они яростно борются против «консерваторов», но в то же время они не могут теперь не сознавать, что почти все наиболее выдающиеся идеологи России XIX века были отнюдь не «прогрессистами»; последние за редким исключением являли собой нечто заведомо «второсортное». Ныне просто невозможно всерьез изучать сочинения Добролюбова, Чернышевского, Писарева и т. п., чего никак не скажешь о Леонтьеве, Данилевском, Ап. Григорьеве. И возникает диковатый парадокс: многие теперешние «прогрессисты» выше всего ценят в прошлом мыслителей именно того «направления», которое сегодня они с пеной у рта отрицают… >Глава 2 Что такое Революция? Выдвижение столь «глобального» вопроса может показаться чем-то странным: ведь речь шла об одном определенном явлении эпохи Революции — «черносотенстве» — и вдруг ставится задача осмыслить сущность этой эпохи вообще, в целом. Но, — о чем уже сказано, — взгляд на Революцию, при котором в качестве своего рода точки отсчета избирается «черносотенство» — непримиримый враг Революции, — имеет немалые и, быть может, даже особенные, исключительные преимущества. Выше говорилось о том, что именно и только «черносотенцы» ясно предвидели чудовищные результаты революционных потрясений. Не менее существенно и их понимание действительного, реального состояния России в конце XIX — начале XX века. Либералы и тем более революционеры на все лады твердили о безнадежной застойности или даже безысходном умирании страны, — что они объясняли, понятно, ее «никуда не годным» экономическим, социальным и — прежде всего — политическим строем. Без самого радикального изменения этого строя Россия, мол, не только не будет развиваться, но и в ближайшее время перестанет существовать. Именно такое «понимание» чаще всего и толкало людей к революционной деятельности. Один из виднейших «черносотенных» идеологов, Л. А. Тихомиров (в 1992 году вышло новое издание его содержательного трактата «Монархическая государственность»), который в молодые годы был не просто революционером, но одним из вожаков народовольцев, с точным знанием дела писал в своей исповедальной книге «Почему я перестал быть революционером?» (М., 1895), что на путь кровавого террора его бывших сподвижников вело внедренное в них убеждение, согласно которому в России-де «ничего нельзя делать» (с. 45), и вообще «Россия находится на краю гибели, и погибнет чуть не завтра, если не будет спасена чрезвычайными революционными мерами» (с. 56). Это убеждение — пусть и не всегда в столь заостренной форме — владело сознанием большинства идеологов в эпоху Революции. А после 1917 года пропаганда вдалбливала в души безоговорочный тезис о том, что-де только революционный переворот спас Россию от неотвратимой и близкой смерти. Между тем реальное бытие России конца XIX — начала XX века совершенно не соответствовало сему диагнозу. В 1913 году В. В. Розанов опубликовал свои воспоминания о знаменитом «черносотенце» А. С. Суворине (1834–1911), где передал, в частности, такое его размышление: «Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удается, во всем мы отстали». На деле же «за мою жизнь… Россия до такой степени страшно выросла… во всем, что едва веришь. Россия — страшно растет, а мы только этого не замечаем…»{1} Розанов добавил, что именно этим пониманием порождены были замечательные суворинские ежегодные издания «Вся Россия», «Весь Петербург», «Вся Москва» и т. п., где «указана, исчислена и переименована вся торговая, промышленная, деятельная, вся хозяйственная Россия» (с. 19). Любопытно, что уже после 1917 года прекрасный поэт Михаил Кузмин (в свое время — член Союза русского народа) воспел эти суворинские издания в своем свободном стихе, говоря о наслаждении просто «перечислить» Все губернии, города, Возьмем всего только двадцатилетие, с 1893 по 1913 год; без особо сложных разысканий можно убедиться, что Россия за этот краткий период выросла поистине «страшно» (по суворинскому слову). Население увеличилось почти на 50 миллионов человек (со 122 до 171 млн.) — то есть на 40 процентов; среднегодовой урожай зерновых — с 39 млн. тонн до 72 млн. тонн, следовательно, почти вдвое (на 85 процентов), добыча угля — в 5 раз (от 7,2 млн. тонн до 35,4 млн. тонн), выплавка железа и стали — более чем в 4 раза (от 0,9 млн. тонн до 4,3 млн. тонн) и т. д. и т. п. Правда, по основным показателям промышленного производства Россия была все же позади наиболее развитых в этом отношении стран, — о чем не переставали и не перестают до сих пор кричать ее хулители. Но от кого Россия «отставала»? Всего только от трех специфических стран «протестантского капитализма», где непрерывный промышленный рост являл собой как бы важнейшую добродетель и цель существования, — Великобритании, Германии и США. «Отставание» от еще одной промышленно развитой страны, Франции, в 1913 году было, в сущности, небольшим (добыча угля в России и Франции — 35,4 млн. тонн и 43,8 млн. тонн, выплавка железа и стали — 4,3 млн. тонн и 6,9 млн. тонн и т. п.). А других промышленных «соперников» у России в тогдашнем мире просто не имелось… Могут возразить, что Россия намного превосходила Францию по количеству населения и, значит, резко отставала от нее с точки зрения «душевого» производства; однако в 1913 году Французская (как и Британская, и Германская) империя владела огромными территориями на других континентах и потому была сопоставима с Российской и в этом плане (общее население Французской империи в 1913-м — более 100 млн.). Французский экономист Эдмон Тэри по заданию своего правительства приехал в 1913 году в Россию, тщательно изучил состояние ее хозяйства и издал свой отчет-обзор под названием «Экономическое преобразование России». В 1986 году этот отчет был переиздан в Париже, и в предисловии к нему совершенно справедливо сказано: «Тот, кто внимательно прочтет этот беспристрастный анализ, поймет, что Россия перед революцией экономически была здоровой, богатой страной, стремительно идущей вперед»{2}. Впрочем, дело не только в этом. Едва ли уместно (хотя многие поступают именно так) судить о состоянии и развитии страны в начале XX века исключительно — или даже хотя бы главным образом — на основе ее собственно экономических, хозяйственных показателей. Ведь тогда придется прийти к выводу, что в 1913 году такие, скажем, страны, как Италия и тем более Испания, находились по сравнению с Великобританией и Германией — да и даже с самой Россией! — в глубочайшем упадке, в состоянии полнейшего ничтожества. Нельзя, например, отрицать, что очень существенным показателем состояния страны являлось тогда положение в ее книгоиздательском деле. Ведь книги — в их многообразии — это своего рода «инобытие» всего бытия страны, запечатлевающее так или иначе любые его стороны и грани; книжное богатство, без сомнения, порождается богатством самой жизни. В 1893 году в России было издано 7783 различных книги (общим тиражом 27,2 млн. экз.), а в 1913-м — уже 34 006 (тиражом 133 млн. экз.), то есть в 4,5 раза больше и по названиям, и по тиражу (кстати сказать, предшествующий, 1912 год был еще более «урожайным» — 34 630 книг). Дабы правильно оценить эту информацию, следует знать, что в 1913 году в России вышло книг почти столько же, сколько в том же году в Англии (12 379), США (12 230) и Франции (10 758) вместе взятых (35 367)! С Россией в этом отношении соперничала одна только Германия (35 078 книг в 1913 году), но, имея самую развитую полиграфическую базу, немецкие издатели исполняли многочисленные заказы других стран и, в частности, самой России, хотя книги эти (более 10 000) учитывались все же в качестве германской продукции{3}. Можно бы привести еще множество самых различных фактов, подтверждающих мощный и стремительный рост, всестороннее развитие России в конце XIX — начале XX века — от экономики и быта до искусства и философии, но здесь, конечно, для этого нет места. К тому же (что уже отмечено) одно только книжное богатство так или иначе свидетельствует о богатстве породившего его многообразного бытия страны. Сам тот факт, что Россия в 1913 году была первой книжной державой мира, невозможно переоценить. Тем не менее тогдашние либералы и прогрессисты, стараясь не замечать очевидности, на все голоса кричали о том, что-де Россия, в сравнении с Западом, пустыня и царство тьмы. Правда, после 1917 года некоторые из них как бы опомнились. Среди них — и известный, по-своему блестящий публицист и историк культуры Г. П. Федотов (1886–1951), который в 1904 году вступил в РСДРП и достаточно результативно действовал в ней, но позднее начал «праветь». А в послереволюционном сочинении открыто «каялся»: «Мы не хотели поклониться России — царице, венчанной царской короной… Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее… Еще недавно мы верили (не обладая способностью понять и даже просто увидеть. — В.К.), что Россия страшно бедна культурой, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна — предстала взорам… не обещание, а зрелый плод. Попробуйте ее отмыслить — и насколько беднее станет без нее культурное человечество… Мир, может быть, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры». Далее Федотов высказал даже и понимание того, что русская культура выросла не на пустом месте: «Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское… Мы помогли разбить его своею ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины»{4}. Казалось бы, следует только порадоваться этому прозрению и этому покаянию Федотова. Но, во-первых, очень уж чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией — смотрите, мол, какой я хороший… Помог разбить русское государство, а теперь, поняв наконец, что оно значило, готов искупать свою вину. Впрочем, даже и в определении этой вины присутствует явная ложь: активный член РСДРП, оказывается, всего лишь «помогал» разбить русское государство «своею ненавистью или равнодушием» — то есть некими своими внутренними состояниями. Однако это еще далеко не самое главное. Федотов заявляет здесь же: «Мы знаем, мы помним. Она была. Великая Россия. И она будет. Но народ, в ужасных и непонятных ему страданиях, потерял память о России — о самом себе. Сейчас она живет в нас… В нас должно совершиться рождение великой России… Мы требовали от России самоотречения… И Россия мертва. Искупая грех… мы должны отбросить брезгливость к телу, к материально государственному процессу. Мы будем заново строить это тело» (с. 136). Итак, вырисовывается по меньшей мере удивительная картина. Эти самые «мы» только после «умерщвления» с их «помощью» России и подсказок с Запада «огляделись вокруг», и их «взорам» впервые предстала великая страна. Но далее выясняется, что лишь эти «мы» и обладают-де таким знанием, и именно и только эти «мы» способны воскресить Россию… Естественно возникает вопрос о том, как же относятся эти самые «мы» к «черносотенцам» и их предшественникам, которые никогда не сомневались в величии России и постоянно сопротивлялись ее «умерщвлению»? Федотов в одном из позднейших своих сочинений дал недвусмысленный ответ. Увы, объявил он, «Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия… Пушкин примирился с монархией Николая… В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе»{5}. А о «черносотенстве» XX века сказано здесь же так: «В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России… с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский». И более того, оказывается, «его («черносотенства». — В.К.) идеи победили в ходе русской революции…»!!!{6} Каково? Тот факт, что большинство «черносотенных» деятелей, не уехавших из России, были без следствия и суда расстреляны еще в 1918–1919 годах, Федотова никак не смущает. Остается заключить, что настоящими «черносотенцами» (которые победили) были, по мнению Федотова, Ленин и Свердлов, Троцкий и Зиновьев, Каменев и Бухарин… Невольно вспоминается, что хорошо знавшая Федотова Зинаида Гиппиус едко, но метко прозвала его «подколодным теленком». Я отнюдь не намерен отрицать даровитости и публицистического блеска сочинений Федотова, но как идеолог он в определенном смысле «вреднее» откровенных русофобов… В русской культуре XIX века Федотов, как мы видели, указал единственного своего сотоварища — Герцена. И, кстати сказать, не вполне обоснованно, ибо в свои зрелые годы, после долгого искуса эмиграцией, Герцен многое понял иначе. Вроде бы это должно было произойти за четверть века эмигрантской жизни и с вовсе не глупым Федотовым. А поскольку не произошло, приходится сделать вывод, что Федотов, несмотря на свои гимны «Великой России», постоянно вонзал жало в действительную, реальную великую Россию с ее могучей государственностью, за служение которой он, как мы видели, готов был отринуть убеждения Пушкина, Гоголя и Достоевского — не говоря уже об их продолжателях. Сознательно или бессознательно Федотов выполнял заказ тех мировых сил, для которых реальная великая Россия всегда являлась нестерпимым соперником… Да и что Федотов противопоставлял этой реальной великой России? Свое очень абстрактное, в сущности, даже бессодержательное понятие «Свобода». Настоящим «философом свободы» был, как известно, Бердяев, и его никак нельзя упрекнуть в недооценке этого — не раз конкретно определяемого им — феномена человеческого бытия. И, если Федотов постоянно кричал об отсутствии или хотя бы фатальном дефиците свободы в России, Бердяев писал, например, в 1916 году: «Россия — страна безграничной свободы духа…» И эту «органическую, религиозную свободу» русский народ «никогда не уступит ни за какие блага мира», не предпочтет «внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства». И далее: «Россия — страна бытовой свободы, неведомой… народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей… Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле… Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей»{7}. Таков был вердикт виднейшего «философа свободы»; Федотов же постоянно твердил, что свобода наличествует только на Западе, и России прямо-таки необходимо импортировать ее оттуда и внедрить — чего бы это ни стоило. Между прочим, я полагаю, что некоторые приведенные суждения Бердяева не вполне точны. Когда он говорит, например, что характерный для России тип странника «так прекрасен», это можно понять в духе утверждения заведомого «превосходства» России над Западом, где, мол, царит над всем «жажда прибыли». У Запада есть своя безусловная красота, и речь должна идти не о том, что русское «странничество» прекраснее всего, а только о том, что и в России также есть своя красота — и своя свобода! Но в конечном счете Бердяев и говорит именно об этом, видя в России свободу духа и быта, — а не свободу в сфере политики и экономики, которая столь характерна для Запада. Те же, кто требовал объединить в России и то и другое, по сути дела, впадали в «методологию» гоголевской невесты Агафьи Тихоновны, которая мечтала: «Если бы… взять сколько-нибудь развязности, которая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…» И еще одно. Внимательные читатели Бердяева могут напомнить мне, что в этом же своем сочинении 1916 года он утверждал: «Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю… Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории… Никакая философия истории… не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность… почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?» (с. 8). Вполне возможно, что в отвлеченных философских категориях разгадать это противоречие нелегко, но если перейти на простой язык жизни, оно не столь уж загадочно. На этом языке на свой вопрос достаточно убедительно ответил сам Бердяев, утверждая (см. выше), что русский народ, русские люди не поглощены «земным благоустройством», что они по натуре своей «странники». И если бы не было могучей государственности, эта «странническая» Россия, в сущности, неизбежно и давно бы растворилась и исчезла. Должна же была все-таки безграничная свобода духа и быта русских людей, о которой говорит Бердяев, иметь прочные скрепы? Их и обеспечивала внеположная по отношению к духовной и бытовой свободе ограда могущественного государства… * * *Экскурс в «федотовскую» идеологию (имевшую и имеющую немало горячих почитателей) выявил, надо думать, некоторые существенные черты «революционного сознания». Возвратимся теперь к проблеме мощного и стремительного развития России в конце XIX — начале XX века. Либеральная, революционная и, позднее, советская пропаганда вбивала в головы людей представление, согласно которому Россия переживала тогда застой и чуть ли не упадок, из которого ее, мол, и вырвала Революция. И мало кто задумывался над тем, что великие революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности, а от избытка. Английская революция 1640-х годов разразилась вскоре после того, как страна стала «владычицей морей», закрепилась в мире от Индии до Америки; этой революции непосредственно предшествовало славнейшее время Шекспира (как в России — время Достоевского и Толстого). Франция к концу XVIII века была общепризнанным центром всей европейской цивилизации, а победоносное шествие наполеоновской армии ясно свидетельствовало о тогдашней исключительной мощи страны. И в том, и в другом случае перед нами, в сущности, пик, апогей истории этих стран — и именно он породил революции… Было бы абсурдно, если бы в России дело обстояло противоположным образом. И если вспомнить хотя бы несколько самых различных, но, без сомнения, подлинно «изобильных» воплощений русского бытия 1890–1910-х годов — таких, как Транссибирская магистраль, свободное хождение золотых монет, столыпинское освоение целины на востоке, всемирный триумф Художественного театра, титаническая деятельность Менделеева, тысячи превосходных зданий в пышном стиле русского модерна, празднование Трехсотлетия Дома Романовых, наивысший расцвет русской живописи в творчестве Нестерова, Врубеля, Кустодиева и других, — станет ясно, что говорить о каком-либо «упадке» просто нелепо. В трактате французского политика и историософа Алексиса Токвиля «Старый порядок и Революция» — одном из наиболее проницательных размышлений на эту тему — показано, в частности, следующее: «Порядок вещей, уничтожаемый Революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал». Франция 1780-х годов ни в коей мере не находилась, продолжает свою мысль Токвиль, — «в упадке; скорее можно было сказать в это время, что нет границ ее преуспеянию… Лет за двадцать пред тем на будущее не возлагали никаких надежд; теперь от будущего ждут всего. Предвкушение этого неслыханного блаженства, ожидаемого в близком будущем, делало людей равнодушными к тем благам, которыми они уже обладали, и увлекало их к неизведанному»{8}. (Здесь нельзя не напомнить мифа о «прогрессе», о котором шла речь в первой главе моего сочинения и который выступал в качестве своего рода подмены религии.) Преуспевающие российские предприниматели и купцы полагали, что кардинальное изменение социально-политического строя приведет их к совсем уж безграничным достижениям, и бросали миллионы антиправительственным партиям (включая большевиков!). Интеллигенция тем более была убеждена в своем и всеобщем процветании при грядущем новом строе; нынешнее же положение образованного сословия в России представлялось ей ничтожным и ужасающим, и она, скажем, не обращала никакого внимания на тот факт, что в России к 1914 году было 127 тысяч студентов — больше, чем в тогдашних Германии (79,6 тыс.) и Франции (42 тыс.) вместе взятых (то есть дело обстояло примерно так же, как и в книгоиздании){9}. Стоит еще сообщить, что расхожее утверждение о «неграмотной» России, которая после 1917 года вдруг стала быстро превращаться в грамотную, — это заведомая дезинформация. Действительно большая доля неграмотных приходилась в 1917 году, во-первых, на старшие возрасты и, во-вторых, на женщин, которые тогда были всецело погружены в семейный быт, где грамотность не была чем-то существенно нужным. Что же касается, например, мужчин, вступавших в жизнь в 1890–1900-х годах, — то есть мужчин, которым к 1917 году было от 20 до 30 лет, — то даже в российской деревне 70 процентов из них были грамотными, а в городах грамотные составляли в этом возрасте 87,4 процента{10}. Это означало, что в молодой части рабочего класса неграмотных было всего лишь немногим более 10 процентов. О рабочих следует сказать особо, ибо многие убеждены, что революционные акции в России совершала некая полунищая пролетарская «голытьба». Как раз напротив, решающую роль играли здесь квалифицированные и вполне прилично оплачиваемые люди — те, кого называют «рабочей аристократией». Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на любую фотографию 1900–1910-х годов, запечатлевшую революционных рабочих: по их одежде, прическе, ухоженности усов и бороды, осанке и выражению лиц их легко можно принять за представителей привилегированных сословий. Это были люди, которые, подобно предпринимателям и интеллигенции, стремились не просто к более обеспеченной жизни (она у них вовсе и не была скудной), но хотели получить свою долю власти, высоко поднять свое общественное положение. Вот хотя бы одно весомое свидетельство. Н. С. Хрущев вспоминал впоследствии: «Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40–50 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии» (то есть в 1935–1937 гг.; партаппаратные «привилегии» утвердились с 1938 г.){11}. Для правильного понимания хрущевских слов следует знать, что даже в Петербурге (в провинции цены были еще ниже) килограмм хлеба стоил тогда 5 коп., мяса — 30 коп. (стоит сказать и о «деликатесных» продуктах: 100 граммов шоколада — 15 коп., осетрины — 8 коп.); метр сукна — 3 руб., а добротная кожаная обувь — 7 руб. и т. д. Кроме того, к 1917 году Хрущеву было лишь 23 года, и он, конечно, не являлся по-настоящему квалифицированным рабочим, который мог получать в 1910-х годах и по 100 руб. в месяц. Короче говоря, рабочий класс России к 1917 году вовсе не был тем скопищем полуголодных и полуодетых людей, каковым его пытались представить советские историки. Правда, накануне Февраля в Петербурге уже началась разруха (в частности, впервые за двухвековую историю города в нем образовались очереди за хлебом — их тогда называли «хвосты», а слово «очередь» в данном значении появилось лишь в советское время), но это было только последним толчком, поводом; Революция самым интенсивным образом назревала и готовилась по меньшей мере с начала 1890-х годов. Уже в 1901 году Горький изобразил впечатляющую фигуру рабочего Нила (пьеса «Мещане»), — мощного, независимого, достаточно много зарабатывающего и по-своему образованного человека, безоговорочно претендующего на роль хозяина России. Итак, в России были три основные силы — предприниматели, интеллигенты и наиболее развитой слой рабочих, — которые активнейше стремились сокрушить существующий в стране порядок — и стремились вовсе не из-за скудости своего бытия, но скорее напротив — от «избыточности»; их возможности, их энергия и воля, как им представлялось, не умещались в рамках этого порядка… Естественно встает вопрос о преобладающей части населения России — крестьянстве. Казалось бы, именно оно должно было решать судьбу страны и, разумеется, судьбу Революции. Однако десятки миллионов крестьян, рассеянные на громадном пространстве России, в разных частях которой сложились существенно различные условия, не представляли собой сколько-нибудь единой, способной к решающему действию силы. Так, в 1905–1906 годах русское крестьянство приняло весьма активное участие в выборах в 1-ю Государственную думу; достаточно сказать, что почти половина ее депутатов (231 человек) были крестьянами. Но, как показано в обстоятельном исследовании историка С. М. Сидельникова «Образование и деятельность Первой Государственной думы» (М., 1962), политические «пристрастия» крестьянства тех или иных губерний, уездов и даже волостей резко отличались друг от друга; это ясно выразилось в крестьянском отборе «уполномоченных» (которые, в свою очередь, избирали депутатов Думы): «В одних волостях избирали лишь крестьян… демократически настроенных, в других… по взглядам своим преимущественно правых и черносотенцев» (с. 138). Вообще-то сотни тысяч крестьян в то время всецело поддерживали «черносотенцев», но это не могло привести к весомым результатам, ибо дело Революции решалось в «столицах», в «центре», который — поскольку Россия издавна была принципиально «централизованной» в политическом отношении страной — мог более или менее легко навязать свое решение провинциям. И еще один пример. В 1917 году крестьянство в своем большинстве проголосовало на выборах в Учредительное собрание за эсеровских кандидатов, выступавших с программой национализации земли (а это целиком соответствовало заветной крестьянской мысли, согласно которой земля — Божья), и в результате эсеры получили в Собрании преобладающее большинство. Но когда поутру 6 января 1918 года большевики «разогнали» неугодное им Собрание, крестьянство, в сущности, ничего не сделало для защиты своих избранников (да и как оно могло это сделать — организовать всеобщий крестьянский поход на Петроград?). Наконец, нельзя не остановиться на одной связанной с крестьянством проблеме — вернее, целом узле проблем, которые чаще всего толкуются тенденциозно или просто ошибочно. Крестьянство, количественно составлявшее основу населения России, не могло быть самостоятельной, активной и весомой политической (и, в частности, революционной) силой в силу бедности, весьма низкого жизненного уровня его преобладающего большинства. Совершенно ложно представление, согласно которому революции устраивают нищие и голодные: они борются за выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени готовить революции. Правда, они способны на отчаянные бунты, которые в условиях уже подготовленной другими силами революции могут сыграть огромную разрушительную роль, но именно и только в уже созданной критической ситуации (так, множество крестьянских бунтов происходило в России и в XIX веке, но они не вели ни к каким существенным последствиям). Ныне многие авторы склонны всячески идеализировать положение крестьянства до 1917 — или, точнее, 1914 года. Ссылаются, в частности, на то, что Россия тогда «кормила Европу». Однако Европу кормили вовсе не крестьяне, а крупные и технически оснащенные хозяйства сумевших приспособиться к новым условиям помещиков или разбогатевших выходцев из крестьян, использующие массу наемных работников. Когда же после 1917 года эти хозяйства были уничтожены, оказалось, что хлеба на продажу (и не только для внешнего, но и для внутреннего рынка), товарного хлеба в России весьма немного (вопрос этот был исследован виднейшим экономистом В. С. Немчиновым, и его выводы послужили главным и решающим доводом в пользу немедленного создания колхозов и совхозов). Крестьяне же — и до 1917 года, и после него — сами потребляли основное количество выращиваемого ими хлеба, притом многим из них не хватало этого хлеба до нового урожая… Все это, казалось бы, противоречит сказанному выше о бурном росте России. Какой же рост, если составляющие преобладающее большинство населения крестьяне в массе своей бедны? Но, во-первых, и в жизни крестьянства в начале века были несомненные сдвиги. А с другой стороны, самое мощное развитие не могло за краткий срок преобразовать бытие огромного и разбросанного по стране сословия. Средние урожаи хлебов пока еще оставались весьма низкими — от 6,7 центнера с гектара пшеницы до 12,1 — кукурузы… И крестьян легко было поднять на бунты, «подкреплявшие» революционные акции в столицах. А кроме того, для главных революционных сил — предпринимателей, интеллигенции и квалифицированных рабочих — бедность большинства крестьян (а также определенной массы «деклассированных элементов» — «босяков», воспетых Горьким и другими) являлась необходимым и безотказно действующим аргументом в их борьбе против строя. Есть все основания полагать, что в конечном счете всестороннее развитие России подняло бы уровень жизни крестьян. Но поборники «прогресса» были уверены, что, изменив политический строй, они могут без всяких помех повести всех к полному благоденствию… * * *Возвратимся еще раз к трем основным силам, которые «делали» Революцию. Их несло на гребне той могучей волны стремительного роста, который переживала Россия. Выше цитировались справедливые слова из предисловия к изданному в 1914 году отчету французского экономиста Э. Тэри, — слова о «здоровой, богатой стране, стремительно идущей вперед». Но вслед за этой фразой сказано: «Революция — не естественный итог предшествующего развития, а несчастье, постигшее Россию». И вот это уже весьма неточное суждение. Нет, именно невиданно бурный и чрезвычайно — в сущности, чрезмерно — быстрый рост «естественно» вылился, претворился в Революцию. Об этом еще в 1912 году с острейшей тревогой говорил на заседании Русского собрания известный в то время писатель (Лев Толстой сказал в 1909 году, что у него «прекрасный язык, народный») и «черносотенный» деятель И. А. Родионов: «…русская душа с тысячами смутных хотений, с тысячами неосознанных возможностей, подобно безбрежному океану, разливается — через край… Великий народ… создавший мировую державу, не мог не быть обладателем такой воли, которая двигает горами… И народ доспел теперь до революции… Я не верю в Россию… не верю в ее будущность, если она немедленно не свернет на другую дорогу с того расточительного и гибельного пути жизни, по которому она с некоторого времени (с 1890-х гг. — В.К.) пошла. Потенциальная сила народа тогда только внушает веру в себя, когда она расходуется в меру… У нас же этот Божеский закон нарушен»{12}. Напомню еще раз переданные Розановым слова Суворина о том, что на его глазах «Россия страшно выросла во всем». Ведь не случайно же — хотя и, наверное, неосознанно — сорвался с его губ такой вроде бы неуместный эпитет! Часто говорят, что слабость России накануне 1917 года доказывается ее «поражением» в тогдашней мировой войне. Но это, в сущности, беспочвенная клевета. За три года войны немцы не смогли занять ни одного клочка собственно русской земли (они захватили только часть входившей в состав империи территории Польши, а русские войска в то же время заняли не меньшую часть земель, принадлежавших Австро-Венгерской империи). Достаточно сравнить 1914 год с 1941-м, когда немцы, в сущности, всего за три месяца (если не считать их собственных «остановок» для подтягивания тылов) дошли аж до Москвы, чтобы понять: ни о каком «поражении» в 1914-м — начале 1917 года говорить не приходится. Очень осведомленный и весьма умный Уинстон Черчилль, наслушавшись речей о «поражении России», написал в 1927 году: «Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна… Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо… пожираемая червями»{13}. Впрочем, Черчилль не усматривает причину гибели Российской империи именно в том, что она, как он утверждает, развила неисчерпаемые силы, развила чрезмерно. Грозную опасность, таящуюся в «страшном» росте России, видели, пожалуй, одни только «черносотенцы». Прогрессистским и либеральным идеологам всех мастей, напротив, мнилось, что Россия развивается-де недостаточно быстро и широко (или даже вообще будто бы стоит на месте), они постоянно стремились сокрушить преграды, мешающие «движению вперед». И это была поистине безнадежная слепота людей, мчащихся в могучем потоке и не замечающих этого. Большинство из них в какой-то момент ужаснулось, но было уже поздно… И тогда они — опять-таки большинство — начали доказывать, что их прекрасная устремленность была чем-то или кем-то искажена, испорчена, превращена в свою противоположность. Это был заведомо неверный диагноз; все, что делалось в России с 1890-х годов, и не могло завершиться иначе! Действительно мудрые люди — хотя их и теперь со злобой называют «черносотенцами» — ясно предвидели этот итог задолго до 1917 года. Выше приводилось честное признание одного из кадетских лидеров В. А. Маклакова, согласно которому «правые» в своих предвидениях оказались всецело правыми. И сам факт, что все происшедшее было совершенно точно предвидено (хотя бы в цитированной записке П. Н. Дурново), свидетельствует о неотвратимой закономерности происшедшего, — хотя либералы и тем более революционеры вплоть до 1917 года с полным пренебрежением отвергали «черносотенные» пророчества. А после 1917 года многие либералы и революционеры взялись «исправлять» якобы кем-то искаженную историю. Ради этого была начата тяжелейшая Гражданская война. В течение многих лет официальная пропаганда стремилась доказать, что Белая армия вела войну для восстановления «самодержавия, православия, народности». И в конце концов это было принято на веру чуть ли не всеми. Не буду скрывать, что и сам я в свое время — в 1960-х годах — полагал, что Белая армия имела целью воскрешение той исторической России, перед которой преклонялись Гоголь и Достоевский, Леонтьев и Розанов. Помню, как, пролетая четверть с лишним века назад в самолете над Екатеринодаром (я не называл его Краснодаром), несколько человек торжественно встали, чтобы почтить память павшего здесь «Лавра Георгиевича» (Корнилова), как мы благоговейно взирали на возлюбленную «Александра Васильевича» (Колчака) А. В. Тимиреву, которая дожила до 1975 года… Сейчас такие жесты стали общей модой, и многие видят во всех генералах и офицерах Белой армии жертвенных (пусть и тщетных) спасителей русской монархии… Однако перед нами глубочайшее заблуждение. Один из виднейших деятелей Белой армии, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский поведал в своих предельно искренних воспоминаниях, что по политическим убеждениям эта армия представала как «мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов… «Боже Царя храни» провозглашали только отдельные тупицы (то есть люди, не понимавшие основную направленность белых. — В.К.), а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку», избранную по «четыреххвостке», так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал»{14}. Впрочем, обратимся к главным вождям Белой армии. Все они — «выдвиженцы» кадетско-эсеровского Временного правительства. Не буду останавливаться на беззастенчиво предавшем своего Государя и занявшем его пост Верховного главнокомандующего М. В. Алексееве, поскольку он не так уж знаменит. Но вот широко популярные Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин. К Февралю они были всего только командирами корпусов, то есть стояли в ряду многих десятков тогдашних военачальников. В 1917 году за нелепо краткий срок в несколько месяцев они перепрыгивают через ряд ступенек должностной иерархии. Корнилов становится сначала Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа и первым делом — уже 7 марта — лично арестовывает царскую семью… Затем он командует армией, фронтом и, наконец, назначается Верховным главнокомандующим. Деникин в марте же из комкора превращается в начальника штаба Ставки Верховного главнокомандования, а затем получает в руки Западный фронт… Необходимо иметь в виду при этом, что Временное правительство провело очень большую «чистку» в армии. Лучший современный знаток военной истории А. Г. Кавтарадзе сообщает: «Временное правительство уволило из армии сотни генералов, занимавших при самодержавии высшие строевые и административные посты… Многие генералы, отрицательно относившиеся к проводимым в армии реформам… уходили из армии сами»{15}. Совершенно иной была судьба Корнилова и Деникина. Всем известно, что оба эти генерала вступили позднее в острый конфликт с Керенским; однако это был скорее результат борьбы за власть, нежели последствие каких-либо глубоких расхождений. Вице-адмирал А. В. Колчак к Февралю был на более высокой ступени, чем эти два генерала: он командовал Черноморским флотом. Вскоре после переворота его призывают в Петроград, чтобы отдать в его руки важнейший Балтийский флот. Чуть ли не первое, что он делает, приехав в столицу, — идет на поклон к патриарху РСДРП Г. В. Плеханову… Назначение Колчака, который тут же был произведен в «полные» адмиралы, на Балтику в силу разных обстоятельств отложили, и Временное правительство отправляет его с некой до сих пор не вполне ясной миссией в США (официально речь шла всего-навсего об «обмене опытом» в минном деле, но по меньшей мере странно, что подобная роль предоставляется одному из ведущих адмиралов…). Из США Колчак через Японию и Китай прибывает в сопровождении представителей Антанты в Омск, чтобы стать военным министром, а позднее главой созданного здесь ранее эсеровско-кадетского правительства. Едва ли не главным «иностранным» советником Колчака оказывается в Омске капитан французской армии (в которую он поступил в 1914 году), родной брат-погодок Я. М. Свердлова и приемный сын А. М. Горького (Пешкова) Зиновий Пешков, еще в июле 1917 года назначенный представителем французского правительства при Керенском, а позднее явившийся (как и Колчак, через Японию и Китай) в Сибирь… Перед нами поистине поразительная ситуация: в красной Москве тогда исключительно важную — вторую после Ленина — роль играет Яков Свердлов, а в белом Омске в качестве влиятельнейшего советника пребывает его родной брат Зиновий! Невольно вспоминаешь широко известное стихотворение Юрия Кузнецова «Маркитанты»… При этом нельзя еще не напомнить, что именно Колчак был объявлен тогда Верховным правителем России, которому — пусть хотя бы формально — подчинялись все без исключения белые. Все эти и другие подобные факты, раскрывающие характер белого движения, отнюдь не являются в настоящее время некими тайнами за семью печатями (хотя кое-что в них остается сугубо таинственным); они изложены по документальным данным в целом ряде общедоступных исследований. Но в общем сознании эти факты не присутствуют. Так, например, в новейших кинофильмах, изображающих белых (а таких фильмов было немало), последние обычно представлены в качестве истовых монархистов. Разумеется, в составе Белой армии были и монархисты, но они, если и действовали, то сугубо тайно и к тому же подвергались слежке, а подчас и репрессиям. А. И. Деникин рассказывает, например, в своем основательном труде «Очерки русской смуты» о подпольной деятельности монархистов в его войсках во время его «похода на Москву»: «Вероятно, усилия их не были бесплодны, потому что в августе (1919 года. — В.К.) информационная часть «ОСВАГА» («Осведомительное агентство». — В.К.) отмечала: «Что касается монархических партий и групп, то… главным их орудием является отдел военной пропаганды. Они сумели посадить туда многих своих единомышленников, через которых распространяют свою литературу. Правда, делается это весьма осторожно и без ведома лиц, стоящих во главе отдела, через низших служащих…» Крайние правые партии, — свидетельствует далее Деникин уже от себя лично, — не захватывали… численно широких кругов населения и армии… Я знаю очень многих добровольцев, которые не слыхали никогда названий этих организаций. О существовании некоторых из них я сам узнал только теперь при изучении материалов. Точно так же они не имели своей легальной прессы… Но их подпольная агитация оказывала несомненное влияние, в особенности среди неуравновешенной (! — В.К.) и мало разбиравшейся в политическом отношении части офицерства… У них был, однако, общий лозунг — «Самодержавие, православие и народность»… Что касается отношения этого сектора к власти (имеется в виду власть белых. — В.К.), оно было вполне отрицательным»{16}. Подобных свидетельств можно привести сколько угодно. Иногда пытаются объяснить категорическое неприятие белыми вождями монархии и вообще «дофевральской» России их социальным происхождением: ведь, скажем, основатель Белой армии генерал Алексеев был сыном простого солдата, Корнилов — казачьего хорунжего (чин, соответствующий низшему, уже даже «полуофицерскому» званию прапорщика), Деникин — вообще сыном крепостного крестьянина, правда, сумевшего выслужиться из рядовых в офицеры, и т. п. Кстати сказать, из 70 с лишним генералов и офицеров — «отцов-основателей» Белой армии, участников 1-го Кубанского похода, — как выяснил уже упомянутый превосходный современный историк А. Г. Кавтарадзе, — всего только четверо обладали какой-нибудь наследственной или приобретенной собственностью; остальные жили и до 1917 года только на служебное жалованье (по-нынешнему — на зарплату). В связи с этим А. Г. Кавтарадзе иронически цитирует суждение историка Л. М. Спирина, утверждающего, что белые-де «не могли смириться с тем, что рабочие и крестьяне отняли у них и их отцов земли, имения, фабрики, заводы» (с. 36), и именно поэтому воевали. Никаких земель и заводов ни у белых генералов, ни тем более у их отцов не было и в помине. Что ж, поэтому они и шли против прежней России? Дело, по-видимому, обстоит сложнее. Алексеев, Корнилов, Деникин совершили в конце XIX — начале XX Века воистину головокружительную карьеру (подумайте только: родившийся в тверской деревне в семье рядового солдата Алексеев, выпущенный в свои 19 лет прапорщиком из юнкерского училища, к 57 годам стал генералом от инфантерии!). И это значит, что они оказались на самом гребне мощного и стремительного роста России — роста, который побуждал их верить в безграничный «прогресс». Вполне уместно сказать, что эти генералы были настроены, в сущности, «революционно», и, конечно, совершенно не случайно тот же Алексеев вместе с «левеющим» октябристом Гучковым начиная с 1915 года готовил военный заговор, предусматривающий насильственное свержение Николая II. Исходя из всего этого естественно заключить, что само название «Белая армия» (или «гвардия») возникло как противоположение не только (а может быть, и не столько) «Красной армии», но и «Черной сотне»… Весной 1993 года я участвовал в телевизионной программе, посвященной памяти Николая II. Большинство выступавших, как это сегодня принято, весьма положительно отзывались о последнем русском самодержце (кстати, «самодержец» означает вовсе не абсолютный, а суверенный монарх). Но один историк, не преодолевший ненависти, обвинил Николая II в том, что его сторонники развязали Гражданскую войну, повлекшую неисчислимые жертвы. Я возражал историку, но по краткости отпущенного мне времени не мог произнести то, что изложено выше. Невозможно оспорить, что Гражданской войной руководили отнюдь не монархисты, а либералы (прежде всего — кадеты) и революционеры, не согласные с большевиками (главным образом эсеры). В конце концов Белая армия никак не могла — если бы даже и хотела — идти на бой ради восстановления монархии, поскольку Запад (Антанта), обеспечивавший ее материально (без его помощи она была бы бессильна) и поддерживавший морально, ни в коем случае не согласился бы с «монархической» линией (ибо это означало бы воскрешение той реальной великой России, которую Запад рассматривал как опаснейшую соперницу). Сравнительно недавно (хотя еще до пресловутой «гласности») было издано тщательное исследование историка Н. Г. Думовой «Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.)» (М., 1982), в котором неопровержимо доказано, что ни о какой существенной деятельности монархистов в ходе Гражданской войны не может быть и речи, что решающую роль играли кадеты и эсеры (последние — особенно в стане Колчака). Любопытно, что Н. Г. Думова, — по-видимому, для того, чтобы, как говорится, не дразнить гусей, — уважительно пишет о тех историках, которые пытались (конечно, совершенно тщетно) доказать, что вина за Гражданскую войну лежит на монархистах. Так, она пишет (с. 12), что-де «большой вклад… внесла монография Г. З. Иоффе «Крах российской монархической контрреволюции» (1977)». Между тем труд самой Н. Г. Думовой, по существу, начисто опровергает основные положения сей монографии… Впрочем, при более или менее вдумчивом чтении становится ясно, что и книга Г. З. Иоффе сама опровергает свое собственное название (и, разумеется, основной свой тезис) — «Крах российской монархической контрреволюции». Нельзя не заметить, что определение «монархическая» — это только смягченный вариант определения «черносотенная», ибо последнее слово присутствует в книге Г. З. Иоффе едва ли не на большинстве страниц — и присутствует в конечном счете для того, чтобы «свалить» на «черносотенцев» трагедию Гражданской войны. Но поскольку книга Иоффе — это все же не пропагандистская брошюра, а обширное исследование, в котором приводится множество разнообразных фактов, заявленная автором версия, согласно которой главной силой, развязавшей Гражданскую войну, были монархисты (читай — «черносотенцы»), буквально рушится на глазах любого внимательного читателя. Судите сами. Г. З. Иоффе сообщает, например (отрицать это невозможно), что в стане Колчака «политически первую скрипку… играли правые эсеры» (при этом не надо удивляться слову «правые»: если говорить о левых эсерах, то они до лета 1918 года делили власть с большевиками, входили в Совнарком и ВЦИК Советов). Однако затем Г. З. Иоффе начинает уверять нас, что на деле-то колчаковская армия была-де во власти «махровых черносотенцев» (с. 169). Из чего же это следует? Оказывается, при Колчаке, пишет Иоффе, «в Омске и других городах действовала тайная (выделено мною. — В.К.) организация офицеров-монархистов» (с. 176), ибо «черносотенно настроенная омская военщина предпочитала действовать негласно» (с. 177); более того, Иоффе утверждает (без каких-либо аргументов), что, мол, даже и сам Колчак всегда оставался «скрытым монархистом…» (с. 181). Между прочим, ничего себе обстановочка, при которой Верховный правитель вынужден тщательно скрывать свои истинные убеждения! При этом Иоффе, как ни странно, утверждает еще, что, несмотря на монархизм Верховного правителя, «в монархических кругах… вынашивались планы переворота, направленного… против режима Колчака» (с. 193), что «наиболее реакционно настроенные (то есть «махрово черносотенные». — В.К.) генералы и офицеры не оставляли своих надежд «убрать» Колчака» (с. 196). Вот уж в самом деле курьез: казалось бы, Колчаку следовало только шепнуть этим генералам и офицерам, что в действительности он монархист, и все было бы в порядке. Но суть дела даже и не в этом. Вполне можно допустить, что какая-то часть генералов и офицеров в стане Колчака тайно исповедовала монархические и даже «махрово черносотенные» взгляды. Однако пытаться на этом основании объявить колчаковцев вообще «монархистами» и «черносотенцами» — в сущности, то же самое, что объявить их «большевиками», поскольку ведь в армии Колчака очень активно действовала и большевистская агентура (гораздо более активно, чем «черносотенная»). Член тогдашнего Омского (подпольного) комитета РКП(б) С. Г. Черемных вспоминал: «Основную работу среди солдат (колчаковских. — В.К.) вели рабочие из нелегальных партийных ячеек и боевых групп (десяток)… Они доводили до сознания мобилизованных в колчаковскую армию, что война против Советской республики только на пользу русской и международной буржуазии. Каждое утро на постовых будках, дверях, оконных рамах и стеклах складов появляются надписи: «Долой эту сволочь — сибирское правительство и его ставленников!»{17} — то есть эсеров и Колчака с его генералами и т. д. и т. п. «Тайная» деятельность «черносотенцев» в стане Колчака совершенно меркнет перед этой не столь уж тайной деятельностью большевиков! Монархисты, согласно утверждениям самого Г. З. Иоффе, лишь еле заметно нечто затевали… Более решительно пытались действовать затаившиеся монархисты позднее, при Врангеле, — то есть уже перед концом Белой армии. Иоффе сообщает о том, что готовился «монархический заговор, созревший (даже! — В.К.) в мае — июне 1920 г. среди части морских офицеров Севастополя. План заговорщиков состоял в том, чтобы арестовать Врангеля и нескольких близких ему лиц (из числа, понятно, либеральных деятелей. — В.К.), после чего провозгласить главой белого движения великого князя Николая Николаевича». Однако «заговор очень быстро был раскрыт и ликвидирован» (с. 261). Сообщая о подобных фактах, Иоффе, повторяю, начисто опровергает декларируемое в названии его книги и в многочисленных общих фразах представление о Белой армии как монархической и «черносотенной». Да, в этой армии, конечно, были и «черносотенцы». Но они ни в коей мере не определяли ее политическое лицо. Нельзя не сказать еще о том, что Иоффе не раз на протяжении своей книги говорит о деятельности во время Гражданской войны реальных «черносотенных» лидеров — главным образом Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича. Но деятельность эта, как выясняется из книги, целиком сводилась к вынашиванию планов (именно и только вынашиванию) освобождения арестованного Николая II, к изданию немногих и малотиражных монархических брошюр и прокламаций и, наконец, к различным не имевшим каких-либо серьезных последствий совещаниям «черносотенцев» и их посланиям друг другу. Никакого результативного участия в Гражданской войне эти доподлинные «черносотенцы» не принимали. Многое раскрывает следующее сопоставление: выше упоминалось, как адмирал Колчак пошел на поклон к лидеру РСДРП Плеханову, а Иоффе, в свою очередь, рассказывает, что произошло после того, как лидер «черносотенцев» Пуришкевич сумел однажды пробиться на прием к генералу Корнилову: «Сведения об этом попали в печать, и корниловскому окружению пришлось разъяснить, что встреча эта была чисто официальной и продолжалась несколько минут» (с. 82). Все это недвусмысленно свидетельствует, что, во-первых, Белая армия, по существу, не имела ничего общего с «черносотенцами» (и, выражаясь мягче, монархистами) и, во-вторых, «черносотенцы» не играли сколько-нибудь значительной роли в Гражданской войне. А значит, нелепо вменять им в вину эту кровавую мясорубку, — как, впрочем, и вообще какие-либо кровавые дела (о чем еще будет сказано подробно). * * *Итак, в Гражданской войне столкнулись две по сути своей «революционные» силы. Отсюда и крайняя жестокость борьбы. Для консерваторов (а монархисты, без сомнения, консервативны по определению) вовсе не характерна агрессивность, они видят свою цель в том, чтобы сохранить, а не завоевать. В высшей степени характерно, что Николай II без борьбы отрекся от престола, ибо, как сказано в его Манифесте от 2 марта 1917 года, «почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение…». Но об этом мы будем говорить в следующей главе. Отмечу еще, что многое из того, о чем было сказано выше, имеет прямое отношение к сегодняшним проблемам, но для выявления сей «переклички» необходимо охарактеризовать еще ряд сторон эпохи Революции. >Глава 3 Неправедный суд Речь пойдет о суде над «черносотенцами», который длится уже почти девять десятилетий — если не считать начавшегося намного ранее заведомо неправедного суда над предшественниками «черносотенства» — славянофильством и Гоголем, «почвенничеством» и Достоевским и т. п. (С. Н. Булгаков с горечью говорил о том, как господствовавшие идеологи неукоснительно «отлучали» всех «правых», «причем среди этих отлученных оказались носители русского гения, творцы нашей культуры»{1}.) Прежде всего необходимо осознать одну — способную при должном внимании прямо-таки поразить — особенность сего суда: едва ли не все его приговоры основываются в конечном счете не на каких-либо реальных действиях «черносотенцев», но на действиях, которые они — по мнению обвинителей — могли бы (если бы сложились благоприятные обстоятельства) совершить или же — опять-таки по мнению обвинителей — намеревались совершить. Именно так ставится (и решается) вопрос, скажем, в охарактеризованной выше книге Г. З. Иоффе о «монархической контрреволюции» во время Гражданской войны («монархическое» предстает в книге как синоним «черносотенного»). Этот историк, в отличие от многих других, не выдумывает нужные ему факты, и потому в его книге нет и речи о каких-либо «злодействах» монархистов-«черносотенцев» в ходе войны 1918–1920 годов; они, согласно рассказу Г. З. Иоффе, только намеревались получить в свои руки власть и уж тогда, мол, позлодействовать вволю. Главный смысл книги сводится, в сущности, к следующему эмоциональному тезису: «Ах, сколь ужасно было бы, если бы «черносотенцы» оказались во главе Белой армии! Мороз по коже идет, как представишь себе, что бы они тогда натворили!» И в любом «античерносотенном» сочинении, исходящем из реальных, действительных фактов, постановка вопроса именно такова. Конечно, в других сочинениях (уже в ироническом значении этого слова: о некоторых из них еще будет речь) «черносотенные злодеяния» попросту выдумываются. Впрочем, в последнее время, когда фактическая история нашего столетия постепенно становится известной все более широкому кругу людей, чаще говорят уже не о будто бы совершившихся неслыханных злодействах «черносотенцев» (ибо ложь таких обвинений начинает обнаруживаться со всей очевидностью), но именно о «потенциальном», о «готовившемся» — в случае их прихода к власти — беспрецедентном терроре и деспотизме. Очень характерен в этом отношении рассказ того же Г. З. Иоффе об Общероссийском монархическом съезде, созванном «черносотенцами» в мае 1921 года в немецком городе Рейхенгалле (то есть по сути дела уже в эмиграции). От речи на этом съезде бывшего «черносотенного» депутата Н. Е. Маркова, объясняет нам Иоффе, «веяло угрозой кровавого разгула мрачной реакции. «Царь и плаха сделают дело, — писала «Правда» (30 августа 1921 г. — В.К.) о Рейхенгалльском съезде. — Царь и плаха на Лобном месте ожидают русские трудящиеся массы в случае победы контрреволюции…»{2} Этот «прогноз» особенно любопытен потому, что Иоффе не раз говорит в своей книге о принципиальном отказе Н. Е. Маркова и его единомышленников от участия в братоубийственной Гражданской войне. Так, редактируемый Н. Е. Марковым журнал «Двуглавый орел» провозглашал в марте 1921 года: «Государь не решился начать междоусобную войну, не решился сам и не приказал того нам». Эти слова приведены Г. З. Иоффе (с. 59), и как-то еще можно его понять, когда он цитирует — в качестве «документа эпохи» — газету «Правда», которая пугала читателей «черносотенной» плахой на Лобном месте (на Красной площади), по своему невежеству полагая, что на этом «месте», с которого в XVI–XVII веках объявляли народу правительственные указы (в том числе, естественно, и указы о казнях), будто бы устанавливалась когда-либо плаха… Да, «Правду» 1921 года все же можно понять и, как говорится, простить. Но ведь Г. З. Иоффе говорит об «угрозе кровавого разгула мрачной реакции» — то есть разгула «черносотенцев» и лично от себя самого, хотя он как трудолюбивый историк не может не знать, что ничего подобного соответствующие партии никогда не предпринимали. В другом месте книги Г. З. Иоффе без обиняков утверждает, что «черносотенцы», мол, «в случае своей победы готовили России кровавую баню» (с. 284). Все подобные рассуждения о злодействах «черносотенцев» (если, конечно, историк не склонен выдумывать, фантазировать) строятся именно по этой модели: «угроза», «готовили», «могли бы». Тут опять-таки загадка: ведь вовсе не «черные», а красные и — в меньшей мере (хотя бы потому, что у них было меньше сил) — белые обрушили на Россию кровавые «разгулы» и «бани», и тем не менее самую опасную, самую пугающую «угрозу» и «готовность» усматривают почему-то именно в «черносотенцах», хотя они никак не отличились в подобного рода делах в ходе Гражданской войны, которая и велась-то, как мы видели, между большевиками и, с другой стороны, — кадетами (красные нередко называли своих противников не «белыми», а именно «кадетами») и эсерами. Но — скажут, конечно, мне, — а как же я забываю о страшных событиях, совершавшихся еще до 1917 года — о «черном терроре», погромах, да и обо всей кошмарной деятельности этих ужаснейших лидеров «черносотенных» партий — Маркова, Пуришкевича, Дубровина и т. п.? Прежде всего следует еще раз повторить, что все связанное с понятием «черносотенство» подверглось поистине ни с чем не сравнимому «очернению». Выше уже шла речь об опубликованной сравнительно недавно, в 1975 году, статье А. Латыниной о Розанове, где этот «черносотенец» (сие слово постоянно возникает в статье) характеризовался как (цитирую статью) «прожженный циник», «лжец», «изувер», «ханжа», «прислужник», «шовинист», «доносчик», «беспринципный предатель», «субъект», сводивший воспитание людей к «скотоводству» (!) и т. д. и т. п. Ныне, без сомнения, едва ли бы кто решился писать так о Розанове, ибо теперь всем ясно, что автор подобной статьи унижает самого себя, а не гениального мыслителя и писателя. Но, с другой стороны, теперь-то стараются как раз умолчать о «черносотенстве» Розанова, хотя его политические убеждения невозможно определить иначе. Впрочем, тех, кто избегает слова «черносотенец», можно понять: ведь слово это по-прежнему несет в себе совершенно одиозный смысл. Поистине замечательна в этом отношении обширная публикация в 14-м выпуске исторического альманаха «Минувшее» (1993), озаглавленная «Правые в 1915 — феврале 1917. По перлюстрированным Департаментом полиции письмам». Архивист Ю. И. Кирьянов тщательно подготовил к печати 60 сохранившихся в полицейском архиве копий «черносотенных» писем, среди авторов и адресатов которых такие главенствовавшие лица, как А. И. Соболевский, К. Н. Пасхалов, В. М. Пуришкевич, Ю. А. Кулаковский (выдающийся историк античности и Византии), А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, Д. И. Иловайский, Н. А. Маклаков, архиепископ Антоний (Храповицкий), П. Ф. Булацель, Г. Г. Замысловский, А. С. Вязигин (один из крупнейших русских историков католицизма) и др. Ю. И. Кирьянов, называя их «правыми», в самом начале своей вводной статьи ставит вопрос: «Все ли правые периода войны были черносотенцами?» И далее говорит о «нежелании по крайней мере части самих правых прикосновения к черносотенству» (с. 151). Эти суждения по меньшей мере странны. Ведь даже в рамках публикуемой переписки далеко не самый «радикальный» деятель Русского собрания К. Н. Пасхалов недвусмысленно называет своих сторонников «представителями черносотенных групп» (с. 171). И, кстати, именно Пасхалову принадлежат использованные Ю. И. Кирьяновым слова о неких робких единомышленниках, «боящихся прикосновения к «черносотенцам»…» (с. 187) и потому не явившихся на Нижегородский съезд, где Пасхалов председательствовал. Трусливых участников можно обнаружить в любом движении, но те лица, чьи письма опубликованы Ю. И. Кирьяновым, к таковым явно не относятся. И дело здесь в том, что сам Ю. И. Кирьянов, стремясь объективно представить публикуемую им переписку, вместе с тем опасается, — и, конечно же, не без оснований, — как бы его не атаковали за «сочувствие» к «черносотенцам», и поэтому предпринимает попытки отделить от них хотя бы часть героев своей публикации, которые, мол, всего только «правые». А между тем среди этих героев — самые что ни есть «махровые»… Но беспристрастный читатель не найдет в их переписке ровно ничего злодейского или хотя бы злонамеренного, основной тон писем — боль, мучительная боль, порожденная зрелищем неотвратимо катящейся в революционную бездну России… Тем не менее с момента возникновения «черносотенных» организаций и до сего дня о них говорят как об опаснейшей, чуть ли не апокалиптической силе, которая «готовилась», «могла бы» все и вся беспощадно уничтожить. Поддавшись этой мощной пропагандистской волне, даже С. Н. Булгаков (тогда еще, впрочем, весьма либеральный) писал в 1905 году о видном «черносотенце» В. А. Грингмуте, что он-де «хотел бы утопить в крови всю Россию»{3}. По всей вероятности, впоследствии, когда Булгаков тесно сблизился с задушевным другом В. А. Грингмута священником И. И. Фуделем, ему было попросту стыдно за эту свою нелепую фразу. Владимир Андреевич Грингмут с 1870 года преподавал древнегреческий язык и эстетику в одном из культурнейших учебных заведений — Катковском лицее, в 1894–1896 годах был директором этого лицея, а с 1896 года — редактором влиятельной газеты «Московские ведомости». В апреле 1905 года В. А. Грингмут создал первую «черносотенную» организацию, которая получила название «Русская монархическая партия» (Союз русского народа возник лишь в ноябре, а Русское собрание, сложившееся еще в 1900–1901 годах, было не партией, а своего рода кружком, «клубом»; тот же характер носил и созданный в марте 1905 года Союз русских людей). Впрочем, В. А. Грингмут, хотя он и основоположник «черносотенства» как собственно политического (а не только идеологического) явления, известен мало, и стоит сказать лишь о том, что он не имел никакого отношения к чему-либо «кровавому». Гораздо более популярны имена Пуришкевича, Маркова (нередко его именуют «Марков-второй», поскольку был другой депутат Думы с этой же фамилией) и Дубровина. Все они предстают в массовом сознании в качестве своего рода уникальных воплощений зла, лжи и безобразия. Но мы уже видели, как еще в 1975 году «принято» было «характеризовать» личность «черносотенца» В. В. Розанова. Разумеется, троица «черносотенных» лидеров никак не может быть поставлена рядом с гениальным мыслителем. Однако и превращение их в неких чудовищ не имеет под собой никаких реальных оснований. Пуришкевич, Марков и даже более «сомнительный» Дубровин по своим человеческим и политическим качествам ничем не хуже — хотя, быть может, и не лучше — лидеров других партий своего времени. Это становится очевидным при обращении к свидетельствам любого современника, способного хоть в какой-то мере быть объективным. Вот, скажем, мемуары французского посла Мориса Палеолога. Он внимательнейшим образом изучал политическую жизнь России накануне Февраля и при этом всецело сочувствовал, разумеется, либеральным, «западническим» деятелям. Но, поскольку сам он не вел той непримиримой борьбы с «черносотенцами», которая определяла сознание российских либералов, Палеолог смог оценить В. М. Пуришкевича в следующих словах: «Пуришкевич человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он с силой и талантом поддерживает тезис: «Царь — самодержец, посланный Богом»… пылкое сердце и скорая воля…»{4} И даже прямой противник Пуришкевича член ЦК кадетской партии В. А. Маклаков через много лет так определил его «основную черту: ею была не ненависть к конституции или Думе, а пламенный патриотизм»{5}. Ясно, что эти характеристики несовместимы с той зловещей и отвратной личиной, которую надевают до сих пор на Владимира Митрофановича Пуришкевича. С точки зрения политической культуры и Пуришкевич, и Марков — кстати сказать, сын по-настоящему значительного, но замалчиваемого из-за его последовательного консерватизма писателя и публициста Евгения Маркова (1835–1903), — в сущности, ничем не уступали ни Милюкову, ни тем более таким лицам, как Керенский или лидер эсеров Чернов. Ниже уровнем был третий лидер «черносотенцев» — врач А. И. Дубровин. «Говорил он некрасиво, — свидетельствовал современник, — но с огромным подъемом, что действовало на простых людей, из которых и состояло большинство членов Союза русского народа»{6}. Этот «демократизм» и выдвинул Дубровина в председатели Союза русского народа. Один из главных способов конструирования крайне негативного «образа» Дубровина и других «черносотенных» лидеров основан на беспардонном приеме двойного счета: то, что «прощается» левым (или даже вообще не замечается в них), вменяют в тяжелейшую вину правым. Вот весьма яркий образчик применения такого счета. Существует версия, согласно которой Дубровин был «вдохновителем» или даже прямым инициатором пяти совершенных в 1906–1908 годах террористических актов (против С. Ю. Витте, М. Я. Герценштейна, П. Н. Милюкова, Г. Б. Иоллоса и А. Л. Караваева). Его руководящая роль в этих актах не была неоспоримо доказана, но допустим даже, что Дубровин в самом деле направлял действия политических убийц. Исходя из этого (повторяю, не имеющего стопроцентной достоверности) факта известный специалист по истории Революции Л. М. Спирин писал в 1977 году: «Нравственные качества Дубровина были ниже всякой критики. Да можно ли вообще говорить о нравственных качествах человека, который организовывал политические убийства? Дубровин был темной и весьма зловещей фигурой на политической арене, порожденной «гнусной российской действительностью»…»{7} В этих риторических фразах историк продемонстрировал абсолютно неправдоподобную наивность: ведь не может же он, в самом деле, не знать, что левые, революционные партии осуществляли в те же годы поистине беспрецедентный по масштабам политический террор; специально изучавший этот «сюжет» историк С. А. Степанов сообщал в 1992 году, что, согласно всецело достоверным сведениям, «в ходе первой русской революции только эсеры, эсдеки (социал-демократы) и анархисты убили более 5 тысяч (!) правительственных служащих»{8}, а убивали тогда вовсе не только правительственных служащих. Для иных тогдашних партий — например, эсеров-максималистов — политические убийства вообще являлись главным или даже единственным «делом». Притом в данном случае факты совершенно бесспорны; чаще всего сами террористы горделиво сообщали о своих «достижениях» по части политических убийств. Между тем Л. М. Спирин, как и множество его коллег, делает вид, что политические убийства были именно и только «черносотенной» затеей… Стоит добавить еще, что все вообще действия «черносотенцев» представляли собой «ответ» на совершенные ранее акции левых партий — притом ответ гораздо, даже несоизмеримо менее сильный (скажем, всего несколько террористических актов, в то время как левые совершали их тысячами). И уж, конечно, в среде «черносотенцев» не только не имелись, но и были просто немыслимы такие фигуры беспощадных профессиональных убийц, как эсер Савинков (которого до сих пор представляют в романтическом ореоле!), не говоря уже о его многолетнем друге, патологическом убийце-провокаторе Азефе (Азеве). В 1909 году, когда первая революционная волна уже улеглась, видный левый кадет (и не менее видный деятель российского масонства) В. П. Обнинский подвел итог предшествующим событиям в обширном сочинении «Новый строй». Он не мог не признать здесь, что «черносотенные» партии образовались исключительно ради сопротивления красносотенным и предстали как (по его определению) «заимствовавшие у последних большую часть тактических приемов»{9}. Кадет этот в своем рассказе вынужден был так или иначе отмежеваться от левых партий, погрязших в своем безудержном терроре и постоянном провоцировании всяческих бунтов и беспорядков. В. П. Обнинский осмелился даже сказать о «легендарном» предводителе восстания на Черноморском флоте в 1905 году лейтенанте Шмидте следующее: «…это был человек с весьма поколебленной психикой, если не душевнобольной… В любой момент он готов был выступить в качестве главаря военного бунта» (с. 83). Тем не менее из Шмидта все же сделали чуть ли ни «спасителя» России, и сбитый с толку Борис Пастернак сочинил о нем восторженную поэму… Впрочем, здесь перед нами встает еще один вопрос: что ж, левые партии в самом деле вели себя гораздо хуже «черносотенных», но зато этого не скажешь о центристских партиях — о кадетах и октябристах (вот ведь даже и Шмидтом кадет — к тому же левый — отнюдь не восхищается)? Кадеты и октябристы в самом деле не причастны прямо и непосредственно к тому жесточайшему кровавому террору, который обрушили на Россию «леваки». Но, как мы увидим, они в 1905–1908 годах всячески поддерживали левых террористов, и не случайно возник тогда афоризм, согласно которому эсеры — это те же кадеты, но с бомбой… Сейчас у нас не принято восхвалять эсеров, но зато начал создаваться своего рода культ кадетов. Между тем политическое поведение последних в известном смысле было даже более безнравственным, нежели левых… В высшей степени показателен в этом отношении эпизод из написанных много лет спустя «Воспоминаний» лидера кадетов П. Н. Милюкова. Он рассказывает о том, как в марте 1907 года Председатель Совета министров П. А. Столыпин предложил Государственной думе: «Выразите глубокое порицание и негодование всем революционным убийствам и насилиям. Тогда вы снимете с Государственной Думы обвинение в том, что она покровительствует революционному террору, поощряет бомбометателей и старается им предоставить возможно большую безнаказанность». «Черносотенные» депутаты (коих пытались объявить пособниками террора) тут же, по словам Милюкова, «внесли предложение об осуждении политических убийств», заметив при этом: «Ведь очевидно же, что к.-д. (кадеты. — В.К.) не могут одобрять убийств». Столыпин в «доверительной беседе» сказал Милюкову то же самое. Но… «я стал объяснять, — вспоминает далее Милюков, — что не могу распоряжаться партией… Столыпин тогда поставил вопрос иначе, обратившись ко мне уже не как к предполагаемому руководителю Думы, а как к автору политических статей в органе партии — «Речи». «Напишите статью, осуждающую убийства; я удовлетворюсь этим». Должен признать, что тут я поколебался… Я сказал тогда, что должен поделиться с руководящими членами партии… Прямо от Столыпина я поехал к Петрункевичу. Выслушав мой рассказ, старый наш вождь… страшно взволновался: «Никоим образом! Как вы могли пойти на эту уступку хотя бы условно?… Нет, никогда! Лучше жертва партией, чем ее моральная гибель…» (Под жертвой имеется в виду возможный запрет кадетской партии за ее фактическую поддержку терроризма; кстати, запрет этот, без сомнения, Столыпин вовсе не планировал.) И Милюков наотрез отказался осудить бесчисленные убийства и насилия красносотенцев, хотя в то же самое время он не жалел проклятий в адрес «черносотенных» террористов (которым приписывали тогда всего лишь два убийства). Как мы видим, в этих позднейших «Воспоминаниях» Милюков в известной мере пытается снять с себя сей «грех», перенося его на непримиримого кадетского старейшину И. И. Петрункевича, который усматривал в предложенном Столыпиным осуждении повседневного кровавого террора красносотенцев ни много ни мало «моральную гибель» для партии кадетов… Поистине замечательно выразившееся здесь представление о «морали»! Кадеты впоследствии проклинали за аморальность большевиков, но, как выясняется, они были едины с ними в своей уверенности, что все совершаемое против существующей власти в конечном счете всецело «морально» (выше приводились могущие показаться парадоксальными слова С. Н. Булгакова о внутреннем «единстве» кадетов и большевиков). Но напрасно Милюков тщился задним числом свалить «вину» на Петрункевича; мы еще убедимся в полнейшей безнравственности важнейших политических акций самого Милюкова. Теперь же следует вдуматься в дальнейший ход рассказа из мемуаров Милюкова. Вспоминая серию своих тогдашних статей, Милюков несколько неуклюже писал: «Читатель может прочесть, с какой настойчивостью я продолжал аргументировать точку зрения на невозможность для партии сделать необходимый для Столыпина жест (то есть осудить левый террор; дело шло, конечно же, не о некоем личном желании Столыпина, а о судьбах России… — В.К.)… И я с особым усердием принялся обличать «заговорщиков справа», то есть «черносотенцев». И далее Милюков вспоминает, что тогда же, весной 1907 года, возмущенные таким — надо прямо сказать, наглым — двойным счетом «правые террористы обратили на меня свое специальное внимание… нагнал меня на Литейном проспекте молодой парень и нанес мне сзади два сильных удара по шее, сбив с меня котелок и разбив пенсне. Я спокойно наклонился, чтобы поднять то и другое… к вечеру того же дня мне сообщили, что покусившийся был нанят доктором Дубровиным с поручением нанести удар, после которого я не встану». Затем Милюков сообщает еще следующее: «…ко мне явились несколько агентов, посланных правительством для охраны моей личности»{10}. Все это в высшей степени многозначительно. Во-первых, оказывается, что правительство, несмотря на возмутительное поведение Милюкова, не желающего хотя бы на словах осудить массовый террор левых, самым благородным образом дает ему охрану от правого террора. С другой стороны, сам этот террор («два удара по шее») предстает как в общем-то не очень уж жестокое наказание за двойную милюковскую мораль (проклятия по поводу трех-четырех акций правых и полное молчание о массовом терроре левых); предположение Милюкова, согласно которому «парень», подосланный, по слухам, Дубровиным, плохо выполнил поставленную перед ним задачу, — это всего лишь предположение, и, кстати сказать, левые-то террористы всегда располагали превосходным оружием и мощными взрывными устройствами. Впрочем, к судьбе и роли Милюкова и его сотоварищей в Революции мы еще вернемся. Пока же продолжим разговор о соотношении обликов либеральных и «черносотенных» лидеров. Последние изображаются как прямо-таки непристойные типы, беспардонные хамы и хулиганы, решительно отличающиеся от сугубо «добропорядочных» либеральных вожаков. Особенно это касается наиболее известных «черносотенных» депутатов Государственной думы — Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича. Оба они явно были очень, даже слишком экспансивными людьми, но что касается «хамства» в собственном смысле слова, оно характерно для большинства тогдашних активных депутатов Думы, принадлежавших к самым разным фракциям. Это объяснялось, в частности, тем, что парламентаризм представлял тогда явление совершенно для России новое и его «цивилизованные» формы далеко еще не отшлифовались. Приведу характерный пример из исследования уже упоминавшегося современного историка А. Я. Авреха «Царизм и IV Дума» (М., 1981). Историк этот крайне непримиримо относился к «черносотенцам», но тем не менее не стал в данном случае игнорировать факты. Он рассказывает, в частности, как 13 мая 1914 года один из депутатов «октябрист (а не «черносотенец». — В.К.) Н. П. Шубинский совершенно сознательно и хладнокровно спровоцировал крупный скандал. В свое время газета «Земщина» («черносотенная». — В.К.) выступила со статьей, в которой доказывала, что «Речь» (кадетская, под редакцией П. Н. Милюкова. — В.К.) получает огромные суммы из Финляндии, которые идут на содержание кадетской партии (ибо она поддерживала стремление Финляндии получить независимость. — В.К.)… За несколько дней до выступления Шубинского состоялся судебный процесс, который… окончился полным оправданием «Земщины» (то есть было установлено, что финны действительно финансируют кадетов, а это являло собой заведомо безобразный факт. — В.К.). Этим фактом и воспользовался Шубинский. Взяв под защиту одну из самых гнусных черносотенных организаций — киевский «Двуглавый Орел», — продолжает свой (весьма, как видим, эмоциональный) рассказ А. Я. Аврех, — он (Шубинский. — В.К.) выразил притворное удивление по поводу якобы совершенно несправедливой критики в его адрес: «Вот если бы обнаружили, что у «Двуглавого Орла» есть своя контора, что в этой конторе есть конторщик… на имя которого пачками переводятся откуда-нибудь громадные суммы…» Намек был достаточно прозрачен (правые встретили его аплодисментами и криками «браво!»); оратора прервал Милюков, закричавший: «Мерзавец!» В ответ Пуришкевич завопил (а не «закричал», как Милюков; это уже тенденциозность Авреха. — В.К.), что Милюков — «…скотина, сволочь, битая по морде» (речь шла об описанных выше «ударах по шее» на Литейном проспекте, которые, следовательно, предстают не как попытка убийства, а именно как наказание Милюкова за двурушническую политику. — В.К.). Шубинский, в свою очередь, отпарировал: «Плюю на мерзавца». Дальше последовала реплика Керенского в адрес того же Шубинского: «Наглый лгун», возглас Милюкова: «Негодяй!», реплика Пуришкевича: «Шубинский, браво!» Председательствовавший А. И. Коновалов предложил всех четырех за употребление непарламентских выражений исключить на одно заседание… Милюков, Керенский и Пуришкевич были исключены, а исключение Шубинского отклонено… Против предложения председательствующего демонстративно проголосовала часть октябристов» (с. 136). Ведь вначале Шубинский только сообщил факты, за что был обруган и уж тогда ответил тем же… Итак, и кадет (к тому же именно он начал «непарламентский» обмен любезностями), и «черносотенец», и октябрист, и трудовик (Керенский) вполне стоят друг друга. Когда говорят о «хулиганстве» думских «черносотенцев», очередной раз применяют прием двойного счета: что позволено Милюковым, то, мол, не позволено Пуришкевичам. Между прочим, точно такая же фальсификация была присуща в 1992–1993 годах «освещению» работы Верховного Совета и Съезда депутатов в проправительственных средствах массовой информации. Так, например, постоянно воспроизводилась на телеэкране сцена драки перед столом президиума на одном из съездов — сцена, призванная показать «уровень» депутатского корпуса. И только немногие внимательные телезрители отдавали себе отчет в том, что драчун-то был один (другие депутаты только отгораживались ладонями от его натиска) — и был это самый что ни на есть «радикальный демократ» тов. Шабад. А между тем сию сцену сумели интерпретировать как разоблачение прискорбных качеств «консервативного» большинства депутатского корпуса (впрочем, о соотношении парламента и правительства до Революции и сегодня мы еще будем говорить). Милюков и либералы вообще трактуются как лица, свысока презиравшие «черносотенцев», прямо-таки страдавшие от необходимости находиться с ними в одном зале заседаний и т. п. В действительности это «презрение» было только политической позой, которая свободно заменялась иной, когда такая замена оказывалась выгодной. Так, в другом исследовании того же А. Я. Авреха, «Распад третьеиюньской системы» (М., 1985), показано, что всего лишь через десяток недель после только что описанного громкого скандала, 26 июля 1914 года, — в условиях начала войны — Милюков и Пуришкевич, эти (цитирую Авреха) «недавние непримиримые враги церемонно представились друг другу и обменялись рукопожатиями. «Знакомство» состоялось. Оно оказалось весьма символичным: вся последующая деятельность кадетов прошла под знаком этого рукопожатия» (с. 11). В отличие от А. Я. Авреха, я считаю правильным «перевернуть» последнюю формулировку и сказать: вся последующая деятельность Пуришкевича «прошла под знаком» этого рукопожатия, и в конечном счете Пуришкевич оказался пособником Милюкова (смысл этого утверждения прояснится ниже). Стоит коснуться еще одного сюжета. Обосновывая резко негативную оценку «черносотенных» лидеров, весьма часто напоминают о том, что они и сами были склонны крайне критически отзываться друг о друге; это преподносится как своего рода неопровержимое доказательство их несостоятельности. Однако в сфере политики — во всяком случае, российской политики — подобное «взаимопоедание» близких, казалось бы, друг другу людей выступает как типичнейшее явление. Лидер будто бы вполне благопристойных октябристов А. И. Гучков считал, например, допустимым заявлять, что «в Союзе 17 октября (то есть в возглавляемой им партии. — В.К.) девять десятых — сволочь, ничего общего с целью Союза не имеющая»{11}. * * *Но обратимся непосредственно к проблеме «черносотенного» террора. Совсем недавно вышло в свет, по сути дела, первое по времени исследование о «черносотенцах»; публиковавшиеся ранее книги и статьи были только пропагандистскими «разоблачениями», а не плодами действительного изучения предмета. Речь идет об уже упоминавшейся книге С. А. Степанова «Черная сотня в России (1905–1914)», изданной в Москве в 1992 году (ранее, в 1981 году, в Якутске вышла его книга «Банкротство аграрной программы черносотенных союзов»). Сочинение С. А. Степанова отнюдь не свободно от заведомой тенденциозности, от набивших оскомину штампов и заклинаний; начав работу над своей темой еще в 1970-х годах, историк и позднее не смог преодолеть давно сложившиеся стереотипы. Но так или иначе С. А. Степанов все же изучает факты и стремится сделать выводы именно из фактов, а не из предвзятых — нередко чисто клеветнических — «мнений». С. А. Степанов, в частности, самым тщательным образом исследовал печатные и особенно архивные материалы, касающиеся террористической деятельности «черносотенцев»; этому посвящен целый раздел его книги, который так и озаглавлен — «Черный террор». И выясняется, что, во-первых, террористические акты начались только летом 1906 года, когда на счету красносотенных террористов имелось уже великое множество политических убийств; далее, «черносотенцам» вменяли в вину всего лишь три убийства и одно неудавшееся покушение на убийство; что, наконец, даже эти четыре террористических акта не вполне ясны и оставляют по меньшей мере странное впечатление. Нелишне будет отметить, что повторяемые в различных изданиях утверждения, согласно которым большевики Ф. А. Афанасьев и Н. Э. Бауман были будто бы убиты «черносотенцами», имеют, так сказать, метафорическое значение, ведь оба эти убийства произошли во время стихийных массовых беспорядков в октябре 1905 года, а первая имевшая отношение к террору «черносотенная» организация — Союз русского народа — только начала формироваться в ноябре. И поэтому говорить о действительном «черносотенном» терроре уместно лишь применительно к 1906-му и последующим годам. Характерно, что стремящийся к объективности С. А. Степанов упоминает о гибели Баумана и Афанасьева не в главе «Черный террор», а в рассказе о «неорганизованных» столкновениях взбудораженных царским Манифестом 17 октября 1905 года человеческих толп. Когда же начался реальный «черный террор»? 18 июля 1906 года в Териоках под Петербургом был двумя выстрелами из револьвера убит кадетский депутат Думы М. Я. Герценштейн. Весьма осведомленный лидер партии националистов (которая, будучи близка к «черносотенцам», все же не разделяла ряд важнейших их устремлений) В. В. Шульгин убедительно объяснил впоследствии причину особой ненависти правых к Герценштейну: «Говоря об аграрном вопросе в 1-й Государственной Думе… Герценштейн произнес неосторожное слово, которое ему стоило жизни… В то время «освободителям» удалось поднять в некоторых губерниях волну так называемых аграрных беспорядков, то есть попросту волну погромов (выделено мною. — В.К.) помещичьих усадеб. Погромы эти иногда сопровождались насилиями и убийствами, но еще чаще заканчивались поджогами… пылали эти «дворянские гнезда», из которых вылупилась вся культура России. «Освободители» 1905 года очень хорошо понимали, что… поместное землевладение… составляет один из оплотов Исторической России… Вот такие сцены Герценштейн назвал в своей речи «иллюминациями». Слово это болезненно прокатилось по всей России… многие прекрасно поняли: то, что для одних тяжкая трагедия… то другим (то есть «освободителям») доставляет явную или плохо скрываемую радость. В результате Герценштейн был убит кем-то из-за угла. Кем — не удалось установить (выделено мною. — В.К.), но в причине, толкнувшей убийцу на месть, не приходится сомневаться»{12}. С. А. Степанов в своей книге подтверждает, что (цитирую) «осталось неизвестным, кто конкретно дал приказ убрать депутата, который был главным экспертом кадетской партии по аграрному вопросу» (с. 153) хорош, кстати сказать, этот эксперт, по существу «одобривший» варварское уничтожение культурных хозяйств России!). Начальник Петербургского охранного отделения в 1906–1908 годах полковник А. В. Герасимов в своих написанных в эмиграции воспоминаниях{13} утверждал, что убийство М. Я. Герценштейна было организовано не Союзом русского народа — хотя его члены, возможно, и принимали какое-то участие в этой акции, — но ни много ни мало тогдашним петербургским градоначальником В. М. фон дер Лауницем, который ранее, до начала 1906 года, был тамбовским губернатором и прямо и непосредственно столкнулся с крайне разрушительными «аграрными беспорядками» — этими самыми герценштейновскими «иллюминациями». И не исключено, что именно он «мстил» депутату. Революционеры, в свою очередь, вскоре отомстили Лауницу: 3 января 1907 года он был убит террористической группой Зильберберга. Словом, история убийства Герценштейна не очень уж ясна. Более четко и подробно известны две другие террористические акции, связанные с «черносотенцами». Через полгода после убийства Герценштейна, 29 января 1907 года, принадлежавший к Союзу русского народа рабочий-кузнец А. Е. Казанцев организует закладку двух бомб (которые, впрочем, были тут же обнаружены истопником) в дымоход квартиры бывшего премьера С. Ю. Витте, считавшегося либералом. А 14 марта Казанцев руководит убийством (четырьмя выстрелами из револьвера) недавнего кадетского депутата Думы, редактора либеральной газеты «Русские ведомости» Г. Б. Иоллоса. Но вот что поистине удивительно: осуществляют обе эти акции под руководством «черносотенца» Казанцева трое рабочих-революционеров, один из которых, С. С. Петров, ранее побывал даже членом Петербургского Совета рабочих депутатов! Выдав себя за эсера-максималиста, Казанцев убедил этих людей, что Витте — опасный враг революции, а Иоллос — презренный изменник. Революционные рабочие поверили ему и выполнили его «заказы», но вскоре, в мае 1907 года, узнав об обмане, закололи кинжалом уже самого Казанцева… Но почему же Казанцев воспользовался — заведомо рискуя жизнью! — услугами революционных, а не «черносотенных» террористов? С. А. Степанов в своей книге высказывает предположение, что это было-де реализацией «хитроумного плана», что «черносотенцы», мол, «пытались одним выстрелом убить двух зайцев», то есть уничтожить своих врагов и вместе с тем «спровоцировать полицейские репрессии» против революционеров (с. 155). Однако это явно и абсолютно несостоятельное предположение, ибо, конечно же, никто не поверил бы, что убийство того же Иоллоса предпринято революционерами… Действительную разгадку этой истории дает, между прочим, сам С. А. Степанов, но в другом месте своей книги, где он сообщает, что «черносотенец» А. Александров «вербовал боевиков среди бывших эсеров и социал-демократов», так как «по личному опыту убедился, что из них выходят лучшие работники» (с. 144; приведены слова самого Александрова). И в самом деле: Казанцеву крайне трудно было бы подобрать «надежных» убийц из своей среды, ибо «черносотенцы» — особенно принадлежавшие к «простому народу» — в большинстве своем были люди прежде всего богобоязненные, сохранившие традиционные нравственные устои, и могли в любой момент отказаться от совершения убийства безоружного человека. Конечно, как говорится, в семье не без урода, но тем не менее тот «революционный» культ убийств, который определял сознание эсеров, анархистов и т. п., был совершенно не характерен для «черносотенцев». Вот многозначительная сцена столкновения «черносотенцев» с красносотенцем: «…в Иваново-Вознесенске черносотенцы потребовали у большевика В. Е. Морозова снять шапку перед царским портретом (что было общепринятым тогда обычаем. — В.К.). В ответ В. Е. Морозов назвал царя сволочью, прострелил портрет и убил двух портретоносцев и сам был избит до полусмерти (вот именно «полу»! — В.К.). Феноменальная физическая сила позволила В. Е. Морозову выжить, но с больничной койки он отправился прямо на десятилетнюю каторгу» (с. 58). Это свидетельство товарища Морозова по партии, И. Косарева, прямо-таки бесподобно: нам предлагают всей душой возмутиться столь жестоким и несправедливым приговором — за всего только двух убитых людей целых десять лет каторги!.. А ведь «черносотенцы», оказывается, даже не смогли убить наглейшего убийцу, который стал стрелять в ответ на предложение снять шапку… Но завершим тему «черного террора». Кроме убийства Герценштейна (в 1906 году) и Иоллоса (в 1907 году), «черносотенцы», как полагают, убили еще бывшего депутата Думы трудовика А. Л. Караваева (в 1908 году), но, заключает в своей книге С. А. Степанов, «от длинного списка (что это был за «список», он не объясняет. — В.К.) намеченных террористических актов пришлось отказаться» (с. 158). Итак, красносотенцы и не думали отказываться от тысяч «намеченных» убийств, а «черносотенцам» пришлось остановиться на третьем по счету… Это можно понять только в том смысле, что «черносотенцы» ни в коей мере не были «готовы» к «кровавой бане», никак не «могли бы» (см. выше) «утопить в крови всю Россию» — в отличие или, вернее, в противоположность красносотенцам. Однако совершенно мизерный в сравнении с красносотенным, являющийся лишь ничтожным ответом на него, «черный террор» 1906–1907 годов был раздут либеральными и левыми кругами до гигантских масштабов, о чем писал, в частности, В. В. Шульгин, констатируя, что о двух убитых евреях — Герценштейне и Иоллосе — «российская печать кричала куда больше, чем о сотнях и тысячах в эту же эпоху убитых русских»{14}. Выразительна сцена на заседании Государственной думы в 1907 году: «Взошедший на трибуну Пуришкевич взволнованно сообщил: «Я получил телеграмму из Златоуста о том, что там убит председатель Союза русского народа… (Смех слева.) К каким бы партиям мы ни принадлежали, Государственная Дума, как высшее законодательное учреждение, не смеет откладывать рассмотрение подобного рода вопросов». (Шум.) Председатель (кадет Ф. А. Головин. — В.К.): «Я призываю вас к порядку». Пуришкевич: «Я призываю к порядку Думу»{15}. Сцена говорит сама за себя; особенно характерно, что даже и обязанный соблюдать объективность председатель Думы призывает к порядку не смеющихся по поводу очередного убийства, а депутата, поднявшего голос против непрерывных революционных убийств. Совсем по-иному вела себя Дума, когда речь заходила о двух-трех убийствах либеральных деятелей… Под редакцией В. М. Пуришкевича издавалась задуманная в виде целого ряда томов «Книга русской скорби» — собрание некрологов об убитых левыми террористами людях. Но и эту книгу либеральное большинство встретило смехом или в «лучшем» случае — равнодушием… Впрочем, наверняка найдутся читатели, спешащие напомнить мне о погромах тех лет, которые — хотя они не были террором в прямом, собственном смысле слова — приводили к многочисленным жертвам. А погромы, как это «общеизвестно», организовывали «черносотенные» партии… Вопрос о погромах достаточно сложен, запутан и требует подробного обсуждения, к которому мы еще специально обратимся. Теперь же следует подвести итоги разговора об «облике» главных партий эпохи Революции. Уже не раз шла речь о необоснованном, хотя и общепринятом, противопоставлении «черносотенных» лидеров, превращенных в неких чудовищ, и благопристойных кадетских и октябристских лидеров. Так, в последнее время в ряде сочинений нарисован очень симпатичный образ лидера октябристов А. И. Гучкова (1862–1936); по этому пути пошел даже серьезнейший историк Революции — В. И. Старцев. В предисловии к книге «Александр Иванович Гучков рассказывает…» (М., 1993) он, в частности, не без восхищения очерчивает вехи романтически-авантюрной биографии Гучкова: «Еще совсем молодым человеком он совершил рискованное путешествие в Тибет, посетил далай-ламу. Служил в Забайкалье, в пограничной страже, дрался на дуэли. Во время англо-бурской войны мы видим Гучкова на юге Африки, где он сражается на стороне буров, побывал в плену у англичан. В 1903 году — Гучков в Македонии, где вспыхнуло восстание против турок. Во время русско-японской войны он снаряжает санитарный поезд и отправляется на Дальний Восток в качестве уполномоченного Красного Креста, попадает в плен к японцам…» (с. 4). Далее говорится о Гучкове как о «пламенном патриоте» (впрочем, кадет В. А. Маклаков, как мы видели, определил этими словами не Гучкова, а Пуришкевича). Безусловно, все это не могло не вызывать у русских людей глубокой симпатии к личности Александра Ивановича. И, опираясь на сию симпатию, Гучков завоевал себе роль одного из ведущих политических деятелей страны и, в частности, репутацию высшего авторитета в военных делах; после Февраля он вполне закономерно стал военным министром. Впрочем, борьбу за этот пост он начал намного раньше и не нашел лучшего способа свержения военного министра (с 1909 по 1915 год) В. А. Сухомлинова как объявить его германским шпионом (или хотя бы прямым пособником шпионов). После долгих усилий Гучкову и его сподвижникам удалось это сделать, и Сухомлинов в марте 1916 года оказался в заключении. После шести месяцев безуспешного следствия его отправили под домашний арест, но при Временном правительстве он был осужден на пожизненную каторгу. Только в 1960-х годах историки доказали полнейшую безосновательность гучковских обвинений в адрес Сухомлинова. Важно осознать, что позднейшие события как бы затмили неслыханную дикость разыгранного Гучковым «шпионского» фарса. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Эдвард Грей, узнав об аресте Сухомлинова, с возмущенной иронией заявил посетившим Лондон либеральным депутатам Думы: «Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра…»{16} В действительности правительство было вынуждено подчиниться мощному давлению со стороны Гучкова и его сторонников. А «храбрость» на самом деле представляла собой вопиющую политическую безответственность. Не исключено, что сам Гучков был уверен в измене министра; однако объявлять об этом (не имея неоспоримых доказательств) во время войны мог именно и только совершенно безответственный политик. Но обвинение Сухомлинова в измене было, увы, только началом. 1 ноября 1916 года Милюков, идя по стопам Гучкова, произнес в Думе знаменитую речь, обвиняющую в измене уже и председателя Совета министров, и даже саму императрицу… Опираясь на заведомо негодные «свидетельства» (прежде всего германскую прессу, которая, конечно же, не стала бы разоблачать своих столь высокопоставленных шпионов, если бы они действительно имелись), Милюков рассуждал о различных «действиях правительства» и, как он сам позднее вспоминал (цитирую), «в каждом случае предоставлял слушателям решить, «глупость» это «или измена». Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование — даже там, где сам я не был в нем вполне уверен. Эти места моей речи особенно запомнились и широко распространялись… Осторожно, но достаточно ясно поддержал меня В. А. Маклаков. Наши речи были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены… и разлетелись по всей стране. За моей речью утвердилась репутация штурмового сигнала революции. Я этого не хотел…» (выделено мною. — В.К.)»{17}. Это, в сущности, всецело подлое рассуждение, ибо ведь не настолько же глуп был Милюков, дабы не понимать, что речь его совершенно неизбежно будет воспринята в тогдашних условиях именно и только как обвинение высшей власти в тягчайшем из всех возможных преступлений… И с нераскаянностью подлеца он спокойно, как бы между прочим, сообщает, что совершенно сознательно «предоставлял» слушателям (и, далее, читателям) решать, не «измена» ли это, — даже по поводу таких «действий», в изменнической сущности сам он, видите ли, «не был вполне уверен». Совершенно ясно, что в глазах Милюкова любые средства были хороши для осуществления его заветной цели: уничтожить в России историческую власть и сесть самому на ее место. Для окончательного подтверждения истинности приговора, выносимого Милюкову, следует сказать еще о том, что всего через полтора года после своей речи об измене, о сговоре власти с Германией сам Милюков призвал германскую армию оккупировать Россию!.. В мае 1918 года, находясь в занятом германской армией Киеве, Милюков (это показала, в частности, современный историк Н. Г. Думова) принял решение «убедить немцев занять Москву и Петербург», ибо для них «выгоднее иметь в тылу не большевиков… а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию». К чести большинства членов ЦК кадетской партии, они категорически отвергли сей милюковский план возвращения кадетов к власти. Член кадетского ЦК князь В. А. Оболенский заявил Милюкову: «Неужели вы думаете, что можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков? Народ вам этого не простит…» Лидер кадетов холодно пожал плечами. «Народ? — переспросил он. — Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться». Другой — весьма, кстати, левый — кадетский лидер, юрист М. Л. Мандельштам, совершенно точно сформулировал правовую оценку поведения Милюкова: «Призыв врагов на территорию отечества есть преступление, которое карается смертной казнью». Итак, Милюков, нагло приписывавший измену родине высшим носителям российской исторической власти, сам, как оказывается, осуществлял реальную, действительную измену. В июне 1918 года он вступил в прямой контакт с начальником немецкой контрразведки Гаазе; своего рода жестокая ирония судьбы состояла в том, что под именем Гаазе фигурировал великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский и Рейнский — старший брат российской императрицы Александры Федоровны, — той самой, которую Милюков всего полтора года назад обвинял в изменнической деятельности в пользу Германии…{18} Преступные махинации Милюкова, слава Богу, в конце концов вызвали решительный протест кадетской партии, и он вынужден был уйти (фактически был изгнан) с поста председателя ее ЦК, который занимал в течение более десяти лет. Нельзя не сказать еще и о том, что гучковско-милюковское обвинение высшей власти в измене и шпионаже не только явилось пусковым механизмом Февральской революции, но и имело далеко идущие тяжкие последствия. Это обвинение было вполне доступно сознанию любого солдата, рабочего и крестьянина и, овладевая этим сознанием, обретало поистине страшную разрушительную силу. «Оружие», сконструированное Гучковым и Милюковым, было затем, в октябре 1917 года, успешно использовано большевиками, обвинившими Керенского в намерении сдать Петроград германской армии. Обвинение опять-таки являлось абсолютно безосновательным, — и даже не потому, что Керенский не был способен на предательство, а потому, что он (как это давно выяснено) был фатально связан политической — в частности, масонской — клятвой с врагами Германии и, даже ясно сознавая гибельность продолжения войны для своей собственной власти, все же никак не мог прекратить войну. Тем не менее именно обвинение в «измене» сыграло решающую роль в том, что, по сути дела, никто не стал защищать Временное правительство в момент большевистского переворота. В. И. Ленин с середины сентября 1917 года начал постоянно пропагандировать это обвинение и с особенной радостью сообщал 7 октября (то есть за две с половиной недели до большевистского переворота) делегатам Петроградской городской конференции большевиков, что «среди солдат зреет убеждение в заговоре Керенского»{19}. К 25 октября это «убеждение» вполне «созрело» (конечно, под воздействием неослабевавшей пропаганды), и у Временного правительства не оказалось никаких защитников. То есть целиком повторилась ситуация Февраля — когда также не было сколько-нибудь серьезного сопротивления силам, свергавшим историческую власть, объявленную Милюковым и компанией пособницей Германии… Много позднее А. Ф. Керенский с вполне оправданной обидой писал в своей книге «Россия на историческом повороте» об атмосфере накануне 25 октября 1917 года: «Играя на подлинно патриотических чувствах народа, Ленин, Троцкий и им подобные цинично утверждали, что «прокапиталистическое» (в действительности почти все окружение Керенского к октябрю составляли социалисты. — В.К.) Временное правительство во главе с Керенским готово продать родину…»{20} Необходимо добавить к этому, что «атмосфера», созданная в стране в 1915–1917 годах широкомасштабной кампанией по разоблачению изменников и шпионов в высших эшелонах власти, не могла рассеяться сколько-нибудь быстро (во всяком случае, при жизни тогдашних поколений людей). И когда нынешние крикуны обвиняют «народ» в том, что он в 1937–1938 годах со странной легкостью верил любым судебным процессам над высокопоставленными «изменниками» и «шпионами», необходимо вспомнить о первосоздателях такой общественной атмосферы — Гучкове и Милюкове со товарищи. Ясно, что судьба того же генерала от кавалерии Сухомлинова через двадцать лет повторилась в судьбах маршалов Блюхера, Егорова, Тухачевского… Наконец, еще одна очень — или, пожалуй, самая — существенная сторона дела. Гучков и Милюков, добиваясь своих целей, проявили крайнюю, в сущности смехотворную, недальновидность. Им казалось, что, полностью дискредитировав верховную власть, они наконец займут ее место и станут более или менее «спокойно» управлять Россией, ведя ее к победам и благоденствию. Между тем предпринятая ими кампания привела к дискредитации власти вообще (и из их собственных рук власть выпала через всего лишь два месяца). Россия погрузилась в хаос полнейшего безвластия до тех пор, пока большевики посредством жесточайшей диктатуры не восстановили государство, — и это был, без сомнения, единственно возможный выход из создавшегося положения… Милюковская речь 1 ноября 1916 года, казалось бы, явилась настоящим его торжеством: уже 10 ноября был отправлен в отставку председатель Совета министров. И на следующем заседании Думы, 19 ноября, Милюков потребовал полного устранения существующей власти, уверяя своих единомышленников: «Гг., после 1 ноября (то есть после его великой речи! — В.К.) страна вас вновь нашла и готова признать в вас своих вождей, за которыми она пойдет…» Если бы пришло к власти «то правительство, которого мы желаем, мы совершили бы чудеса»{21}. Какие «чудеса» совершили после Февраля Милюков со товарищи, хорошо известно… Стоит привести здесь по-своему замечательное позднейшее высказывание генерала Сухомлинова. Временное правительство за отпущенный ему срок не успело загнать его в «каторжные норы»; после некоторых мытарств он в октябре 1918 года эмигрировал и в 1924 году издал в Берлине книгу «Воспоминания», которая заканчивалась так: «Залог для будущей России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом (то есть идеалом коммунистическим. — В.К.) правительство… Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский, Добровольский, свои силы отдали новому правительству в Москве»{22}. Сухомлинов здесь был совершенно искренен и исходил из вполне понятного чувства, которое можно было бы выразить так: «Слава Богу, что во главе России эти самые большевики, а не Гучков с Милюковым и Керенским!» Но, говоря о роковой разрушительной роли Милюкова, Гучкова и им подобных, нельзя умолчать и о том, что часть «черносотенцев» и близких к ним «националистов» приняла прямое участие в разоблачении мнимого предательства российской власти. То «рукопожатие», которым Пуришкевич обменялся с Милюковым в 1914 году, воистину оказалось символическим; вскоре после подрывной милюковской речи на заседании Думы прозвучало, в сущности, мощно подкрепившее ее выступление Пуришкевича (19 ноября, перед только что цитированным выступлением Милюкова о «чудесах»). Объявив «я самый правый!», Пуришкевич определил смысл своей разоблачительной речи так: «Бывают, однако, моменты, гг., когда должно быть приносимо в жертву всё». Именно так: «всё». И он нанес прямо-таки сокрушительный удар по верховной власти, утверждая (с опорой на различные мнимые «факты»), что «дезорганизация», охватившая Россию, «составляет несомненную систему… Эта система создана Вильгельмом и изумительно проводится при помощи немецкого правительства, работающего в тылу у нас…» Современный историк констатирует, что эта «самая знаменитая речь Пуришкевича была построена на непроверенных слухах и подтасованных фактах. Он не мог привести никаких доказательств связи высших правительственных лиц с Германией. Выступивший через три дня Н. Е. Марков документально опроверг обвинения… Однако в разгаре политической борьбы никто не хотел устанавливать истины. Марков был лишен слова…» Само же упомянутое выступление Пуришкевича 19 ноября «вызвало шквал аплодисментов, впервые ему рукоплескали либералы и левые. Крики «браво!» не смолкали несколько минут. Подобного выражения энтузиазма IV Государственная дума еще не знала»{23}. Один из наиболее почитаемых либеральных деятелей философ Е. Н. Трубецкой писал тогда о пуришкевичской речи: «Впечатление было очень сильное… За это Пуришкевичу можно простить очень многое. Я подошел пожать ему руку»{24}. Пуришкевича за его роль в подрыве власти простили не только либералы, но даже и — позднее — большевики. Сразу после Октябрьского переворота он попытался создать антибольшевистскую подпольную организацию, был арестован ВЧК, судим ревтрибуналом и приговорен… к «общественнополезным работам». А всего через несколько месяцев, 1 мая 1918 года, Пуришкевич был амнистирован и без помех уехал в Киев, а затем в Добровольческую армию (где, впрочем, не играл сколько-нибудь существенной роли). Между тем почти все другие главные деятели «черносотенных» партий были в 1918–1919 годах расстреляны без суда. Как же все это понять? Речь Пуришкевича показала, что он (подобно большинству его противников) в ответственнейший момент выступил, в сущности, не как политик, а как политикан: характернейшая черта политиканства (в отличие от реальной политической деятельности) состоит в сосредоточении на сегодняшних, даже сиюминутных целях и интересах, без ответственного понимания и предвидения последствий того или иного действия. Фактически присоединившись к либералу Милюкову, Пуришкевич окончательно дискредитировал российскую власть, которую он вроде бы всеми силами стремился отстаивать… Естественно, его речь вызвала настоящий восторг в антиправительственных кругах. И едва ли будет ошибкой утверждение, что именно политиканство во многом и отвращало выдающихся деятелей культуры от «черносотенных» лидеров и возглавляемых ими организаций (хотя, конечно, немалую роль играла здесь и клеветническая кампания против них в либеральной печати, лжеинформации которой подчас невозможно было не поддаться). С. Н. Булгаков вспоминал: «Чем дальше, тем напряженнее становились отношения с Гос. Думой, которая от Пуришкевича до Милюкова принимала революционный характер»{25}. Вместе с тем можно все же как-то понять политический «курбет» Пуришкевича. Как и многие другие «черносотенцы», он ясно видел неотвратимость революционного катаклизма. К 1916 году он — опять-таки как и другие его единомышленники — испытывал острейшее чувство безнадежности, полного отчаяния. Через пять лет В. В. Шульгин процитировал в своей известной книге «Дни» слова Пуришкевича: «… я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия»{26}. Многие «черносотенцы» воспринимали эту гибель как Божью кару за грехи России и их собственные, кару, которую следует претерпеть (об этом мы еще будем говорить). Но предельно экспансивный и деятельный Пуришкевич не мог прекратить борьбу и готов был, как говорится, ухватиться за соломинку. Ему казалось, что вкупе с кадетами можно хоть в какой-то мере спасти положение. Уже после Февраля, когда началась подготовка к выборам Учредительного собрания, Пуришкевич заявил, что «Партия народной свободы (то есть кадетская. — В.К.) получит и свои голоса и всех тех, кто идет правее: ведь я человек правых убеждений, монархист, подаю свой голос за членов Партии народной свободы…»{27}. Но это действие было не более чем безнадежный жест утопающего… И «политика» Пуришкевича только с особенной наглядностью демонстрировала полное поражение «черносотенцев» — правда, поражение практическое, а не духовное: так, ореол поклонения, который окружает сегодня «ретроградные» лики Розанова или Флоренского, свидетельствует об их духовной победе. Нет сомнения, что еще будут очищены от налепленной на них беспросветной грязи и фигуры «черносотенных» политиков, пусть они даже и не «лучше» других политиков… А как же, — воскликнут, конечно же, многие, — оценивать те кровавые погромы, которые эти политики организовывали?! Тут перед нами предстает, без всякого преувеличения, всемирная проблема; русское — даже древнерусское — слово «погром» вошло во все основные языки мира. Но об этом — в следующей главе. >Глава 4 Правда о погромах Главное и наиболее тяжкое обвинение, висящее на «черносотенцах», прежде всего на Союзе русского народа, — это, конечно, обвинение в организации погромов, выразившихся не только в разрушении и грабеже имущества евреев, но и в многочисленных убийствах… Русское слово «погром», известное уже по письменным памятникам XVI века и означающее «разорение», «опустошение» (см., например, в словаре В. И. Даля), в XX веке было превращено в своего рода кошмарный символ Российской империи. «Pogrom» внедрили во все основные языки мира, как бы «доказывая» тем самым, что дело идет об именно и только русском явлении (за это, мол, «ручается» русское происхождение самого термина!). Проклятия в адрес России как «страны погромов», даже «родины погромов», звучат уже более ста лет. Разобраться в существе дела невозможно без обращения к истории — в том числе и к истории уже далеких времен. А чтобы не возникло подозрений в тенденциозности освещения истории, я буду основываться главным образом на созданной вскоре после погромов наиболее значительными еврейскими учеными России, Европы и США и изданной в 1908–1913 годах в Петербурге шестнадцатитомной «Еврейской энциклопедии» (в дальнейшем обозначается буквами ЕЭ; курсив в цитируемых текстах везде мой. — В.К.). Оставим в стороне древнюю историю, поскольку она не имеет прямого отношения к русской истории, и начнем со Средневековья. Как сообщается в ЕЭ, издавна, с первых веков нашей эры жившие в западноевропейских странах евреи лишь изредка вступали в конфликты с основным населением этих стран, и к тому же гонения на них не имели сколько-нибудь тяжелых последствий. Однако начиная с XII века ситуация резко изменилась, и в конечном счете евреи Западной Европы пережили настоящую «катастрофу», — вернее, целый ряд (цитирую ЕЭ) «катастроф, разразившихся над ними в эпоху крестовых походов. При первом походе цветущие общины на Рейне и Дунае подверглись полному разгрому, во втором походе (1147) особенно потерпели евреи Франции… в… третий поход (1188)… разыгрался страшный мартиролог английских евреев… С тех пор и началось время преследований и стеснений для мирно развивавшегося — до конца XII века — английского еврейства. Завершением этого тяжелого периода было изгнание евреев из Англии в 1290 году, прошло 365 лет, пока им вновь было разрешено поселиться в этой стране… Везде на христианском Западе мы видим одну и ту же мрачную картину. Евреи, изгнанные из Англии (1290), Франции (1394), из многих областей Германии, Италии и с Балканского полуострова в период 1350–1450 гг…бежали преимущественно в славянские владения… Здесь евреи нашли верное убежище… и достигли известного благосостояния». И еще о судьбе евреев в Испании: «В 1391 г. в одной лишь Севилье чернь убила 30 000 евреев… Тысячи людей были брошены в тюрьмы, подвергнуты пыткам и преданы костру». А в 1492 году «несколько сот тысяч евреев (то есть все жившие тогда в Испании. — В.К.) должны были оставить страну» (ЕЭ, т. 7, с. 453–454). Весьма характерно, что в 1987 году английский историк С. Хейлайзер опубликовал работу под названием «Первый Холокост: Инквизиция и новообращенные евреи Испании и Португалии», в которой основательно утверждает, что события XV–XVI веков вполне сопоставимы с тотальным уничтожением евреев германским нацизмом (слово «холокост» — буквально «всесожжение» — обычно употребляется на Западе по отношению к трагедии еврейства во время Второй мировой войны){1}. Под «славянскими владениями», где нашли «верное убежище» и достигли «известного благосостояния» пережившие катастрофу западноевропейские евреи, ЕЭ имеет в виду прежде всего Польшу; там в XV–XVI веках «евреи, — как сказано в ЕЭ, — являлись необходимым звеном между дворянством и крепостными крестьянами; торговля и промышленность (точнее, доходные ремесла. — В.К.) были сосредоточены в их руках». Но в «середине XVII века наступил кризис также для евреев Польши» (там же). Здесь необходимо вдуматься в ход дела, который освещен во многих различных статьях ЕЭ. Евреи повсюду, где они жили, «сосредоточивали» в своих руках торгово-финансовую деятельность, и до определенного исторического момента это было, так сказать, в порядке вещей. Но по мере экономического «прогресса» все более значительная часть основного населения любой из стран, где имелись евреи, — часть, которая ранее всецело жила в рамках натурального хозяйства, — начинала все более интенсивно вовлекаться в торгово-финансовую сферу и тем самым в конце концов неизбежно вступала в конфликт с евреями. Так, если в XV–XVI веках польские евреи пребывали в ненарушаемом «благосостоянии», то в XVII веке, «когда шляхта (то есть польское дворянство. — В.К.) окрепла (точнее — развилась. — В.К.) экономически, она стала вести антиеврейскую политику» (т. 12, с. 706), что привело к самым тяжелым последствиям для евреев Польши. В западноевропейских странах это произошло значительно раньше; там уже «до 1500 года погибло около 380 000 (!) евреев; надо полагать, что всего их числилось в это время 1 000 000 на всем земном шаре» (т. 11, с. 527); следовательно, в Западной Европе было уничтожено тогда около 40 процентов евреев всего мира… Можно ли, зная обо всем этом, считать Россию «родиной погромов»?! Здесь, впрочем, вполне вероятно такое возражение: чудовищные противоеврейские акции в странах Западной Европы происходили в далекие — еще «варварские» — времена, а в Российской империи погромы имели место уже в конце XIX — начале XX века. Но, во-первых, наибольший размах «катастрофа» западноевропейских евреев приобрела отнюдь не в действительно «варварские» столетия, а как раз в заведомо «прогрессивную» эпоху Возрождения. А во-вторых, сегодня, в сущности, замалчивается тот факт, что погромы и в новейшее время происходили не только в России, но и в таких западных странах, как Германия и Австрия. Правда, погромов в это время не было во Франции или Англии, но это имеет свое четкое объяснение. В XIII–XV веках евреи, как мы видели, изгоняются из почти всех западноевропейских стран; в ЕЭ показано, что вопрос там стоял самым жестким образом — либо изгнание, либо полное уничтожение… И евреи «бежали» с Запада в Восточную Европу, главным образом в Польшу. Только со времени буржуазных революций XVII–XVIII веков они начали понемногу возвращаться на Запад — и прежде всего, естественно, в наиболее близкие к Польше Германию и Австрию. А во Франции и Англии их в XIX веке было слишком немного для того, чтобы «сосредоточить» в своих руках финансово-торговую деятельность. ЕЭ сообщала, что даже в начале XX века во Франции было всего 86 тысяч евреев (то есть 0,2 процента — два человека на тысячу основного населения), в Италии 47 тысяч, а в Испании 2,5 тысячи (т. 11, с. 531, 528). Другое дело — Германия, где в это время жили уже около 600 тысяч евреев, и тем более Австрия, где их количество превышало 2 миллиона человек. Как сказано в ЕЭ, «замечается перемещение еврейского населения вплоть до 60–70-х гг. XIX века из восточной части Европы…». И «с конца 70-х годов и начала 80-х годов в разных местах Европы — в Германии, Австрии и (даже! — В.К.) Франции вспыхивает злобная антисемитская агитация» (т. 7, с. 457). Впрочем, еще ранее это «перемещение» евреев «приводит к ряду погромов в Германии» (там же, с. 456), где «старые средневековые предрассудки вспыхнули снова… К этому присоединились недоброжелательные чувства, возникшие на почве торговой конкуренции… Во многих немецких городах ненависть горожан к евреям вскоре привела к насилиям. Правительства должны были защищать евреев вооруженной силой» (как позднее и в Российской империи…). Впоследствии снова «в Германии вспыхнуло (1878) антисемитское движение… Результатом антисемитской травли был процесс о поджоге синагоги в Нейштеттине (1884), процесс о ритуальном убийстве (1892) в Ксантене и Коницкое дело 1899 г.» (т. 6, с.363–367). И в Австрии также «нарастает… антисемитизм, который проявляется в экономическом бойкоте, в погромах (особенно в конце 1890-х годов), в фактическом лишении евреев прав» (т. 7, с. 459). Короче говоря, постоянно пропагандируемое мнение, что-де в новейшее время погромы характерны именно для России, является очевидной фальсификацией. Необходимо еще сказать и о том, что острые конфликты между основным населением и евреями возникали, как правило, на экономической почве. И потому едва ли верна приведенная только что формулировка ЕЭ, согласно которой в Германии XIX века «старые средневековые предрассудки вспыхнули снова», а уж к этой — будто бы главной — причине погромов «присоединились чувства», вызванные конкуренцией в торговле. Поскольку иудаизм издавна воспринимался как явление, враждебное христианству, «предрассудки», без сомнения, имелись с самого начала истории средневековой Европы. Но, как показано выше, «катастрофа» разразилась только в конце Средневековья, а не тогда, когда «средневековые предрассудки» были действительно прочными и всеобщими. Тем более это относится к событиям XIX века. И, безусловно, правильней будет сказать, что «старые» предрассудки «присоединялись» к конфликту, порожденному «торговой конкуренцией», а не наоборот. Вообще, едва ли можно оспорить тот факт, что религиозные и иные идеологические «доводы» выступали всегда как средство «оправдания» погромов, а не как их причина. Это недвусмысленно показал видный еврейский ученый Д. С. Пасманик в статье «Погромы в России» (ЕЭ, т. 12, с. 620), утверждая, что у погромщиков не было «явно выраженной расовой вражды… Не раз те же крестьяне, которые грабили еврейское добро, укрывали у себя спасающихся евреев». Кстати сказать, тогда, во времена российских погромов, констатирует ЕЭ, «только немногие говорили о племенной и расовой ненависти: остальные считали, что погромное движение возникло на экономической почве» (там же, с. 614). Это уже позднее была выдумана или же, в крайнем случае, непомерно раздута некая якобы характерная для населения России ненависть к евреям как таковым. Впрочем, обратимся непосредственно к истории погромов в Российской империи. * * *Часто можно прочитать или услышать о том, что первый противоеврейский погром в России, вернее, на Руси имел место еще давным-давно — в 1113 году, когда, согласно Ипатьевской летописи, «кияне же разъграбиша двор Путятин тысячьского, идоша на жиды и разъграбиша и» (то есть «киевляне разграбили двор тысяцкого Путяты, затем пошли на евреев и разграбили их»). Однако киевляне выступили тогда, собственно говоря, не против евреев, а против власти. Князь Святополк Изяславич, теснейшим образом связанный (как и его двоюродный дед и тезка Святополк Окаянный) с Польшей (его матерью была сестра польского короля, а сам он обручил своих сына и дочь с членами польской королевской семьи), по-видимому, «импортировал» из Польши группу еврейских торговцев и ростовщиков, которые играли существенную роль в его экономической политике, вызывавшей резкое недовольство киевлян. И сразу после смерти Святополка (16 апреля 1113 года) киевляне «погромили» его «правительство», в том числе тысяцкого — то есть своего рода военного министра — и евреев, как бы входивших в состав министерства финансов и торговли. В ЕЭ справедливо говорится о Святополке, что «после его смерти толпа возмутилась против приверженцев великого князя и напала на евреев» (т. 9, с. 516). То есть евреи пострадали именно и только как приверженцы князя, и, следовательно, «погром» этот нет никаких оснований считать «противоеврейским» в собственном смысле слова. Существенно здесь другое: то, что оказавшиеся в Киеве в XII веке евреи связаны с Польшей; ведь вся позднейшая история евреев Российской империи берет свое начало именно в Польше. Обращаясь к этой теме, нельзя не сказать, что — хотя это и выглядит даже странно — большинство русских людей не имеют ясного представления об истории взаимоотношений России с Польшей, а также тесно связанной последней с Литвой, которая в XV–XVI веках вошла в состав Польши. В XIV веке Литва, воспользовавшись резким ослаблением и особенно раздробленностью Руси после монгольского нашествия, отторгла у нее громадную территорию. Если до монгольского нашествия западная граница Руси проходила по реке Буг (и даже западнее ее), то есть за тысячу километров от Москвы, то в XIV веке она оказалась немногим западнее города Ржева, то есть всего лишь в двухстах (!) километрах от Москвы. Только к последней трети XVII века граница с Польшей передвинулась на запад до Днепра и лишь в конце XVIII века вернулась на Буг. За четыре с лишним столетия (XIV–XVIII) на отторгнутых Литвой и Польшей землях даже сформировались самостоятельные украинский и белорусский народы, что едва ли произошло бы, если бы эти земли пребывали в границах единой Руси. Но так или иначе возвращение этих земель в состав России, завершившееся к концу XVIII века, было, надо думать, более «естественным» для них историческим уделом, нежели существование их под польской властью (любопытно, что Украина — то есть «окраина» — получила это свое название еще при польской власти, и обозначало оно тогда восточный «край» Польши, а позднее, напротив, западный «край» России…). Тем не менее, как ни удивительно, многие русские люди повторяют заведомо несостоятельную версию об участии России в «разделах Польши» (в 1772–1795 годах). Действительно польские земли «разделили» тогда между собой Австрия и Германия (точнее, Пруссия), а Россия только возвратила в свои границы исконно русские или, скажем так, исконно восточнославянские земли (они и сегодня входят в состав Украины и Белоруссии). Правда, после Отечественной войны 1812 года, в ходе которой польские войска чрезвычайно активно выступили на стороне Наполеона, России — в порядке своего рода «наказания» поляков — были отданы по решению общеевропейского конгресса 1815 года в Вене уже в самом деле польские земли с центром в Варшаве, которым присвоили статус относительно автономного Царства Польского, просуществовавшего до 1917 года. И вот это действительно было со стороны России узурпацией, «разделом» Польши, хотя его и «оправдывали» агрессивными действиями поляков в 1812 году. В Польше евреи жили издавна, по меньшей мере с IX века, но подавляющее большинство польских евреев принадлежали к потомкам тех, кто вынужден был начиная с XII–XIII веков «бежать» из западных стран. Постепенно евреи заселили и отторгнутые Литвой и Польшей от Руси земли. Но здесь они вступили в острый конфликт с коренным населением (украинским и белорусским), которое по мере течения времени все более тяготилось польским владычеством над ним. Как справедливо сказано в ЕЭ, «служа интересам землевладельцев (польских. — В.К.) и правительства (сплошь да рядом магнат-землевладелец состоял королевским старостой), евреи навлекли на себя ненависть населения, стонавшего под политическим и экономическим гнетом… Крестьянская масса усматривала в евреях исполнителей воли польской шляхты. Сбрасывая с себя политическое и экономическое иго, она обрушилась с одинаковой яростью на помещиков и евреев» (т. 15, с. 645). Да, с 1630-х до 1770-х годов евреи на принадлежавших тогда Польше восточнославянских землях испытывали тяжелейшие погромы, а подчас даже просто массовые убийства. После же возвращения этих земель в состав России (во время «разделов Польши» в 1772–1795 годах) погромы полностью прекратились и начались здесь снова — уже по другим причинам — только в 1880-х годах, то есть более чем через столетие. Написанная видным еврейским историком Ю. И. Гессеном (1871–1939) первая часть статьи ЕЭ «Погромы в России» начинается так: «Первые по времени три случая погрома евреев произошли в Одессе в 1821, 1859 и 1871 годах. Это были случайные явления (вернее, как мы увидим, не «случайные», а не имевшие непосредственного отношения к России. — В.К.), вызвавшиеся, главным образом, недружелюбием к евреям со стороны местного греческого населения» (т. 12, с. 611); «греческая колония играла в то время главную роль в Одессе как в управлении, так и в торговле». Следовательно, «это был в сущности «греческий» погром, так как зачинщиками и почти единственными участниками были греки — матросы с прибывших кораблей (то есть даже не российские граждане. — В.К.) и присоединившиеся к ним одесские греки» (там же, с. 55). Действительная история погромов в Российской империи берет свое начало в 1881 году. 15–17 апреля состоялся первый погром в Елисаветграде, и целая волна более или менее значительных инцидентов продолжалась затем до 1884 года; она затронула более 150 (!) городов, местечек, селений… Именно тогда русское слово «погром» постепенно становится обозначением прежде всего и главным образом противоеврейской акции. Для понимания существа дела важна статья, опубликованная в XX томе «Энциклопедического словаря» Брокгауза — Ефрона, изданном в 1891 году (с. 530): «Нападение одной части населения на другую (так озаглавлена статья. — В.К.) — преступление, предусмотренное законом… образующим 269 статью Уложения о наказаниях. До издания этого закона наше Уложение о наказаниях не содержало… правил относительно таких проявлений злой воли… Этот пробел закона оказался особенно ощутительным в начале 1880-х годов, когда судебной власти пришлось иметь дело с так называемыми «еврейскими погромами» (то есть слово «погром» еще только приобретало значение противоеврейской акции. — В.К.). Подобные нападения требовали уголовной кары, но единственно подходящим законом была статья 38 Устава о наказаниях, предусматривающая «буйство в публичных местах» под страхом одного лишь ареста или денежного взыскания. Явное несоответствие таких кар характеру и размерам антиеврейских беспорядков вызвало уже в 1882 году циркулярное разъяснение Министерства юстиции» и т. д. Российское правительство обвиняли и продолжают обвинять чуть ли не в организации погромов; ниже об этом поистине нелепейшем обвинении еще пойдет речь, но нельзя не обратить здесь внимания на тот факт, что ради борьбы с погромами правительство немедля создает специальную законодательную норму. Что же касается самого преступления, то виновный в нем был определен тогда в Уложении о наказаниях так: «…Всякий участник «публичного скопища»… соединенными силами совершивший похищение или повреждение чужого имущества, или вторжение в чужое жилище, или покушение на эти преступления…» (там же). По всей вероятности, может возникнуть недоумение по поводу самого характера описанных здесь действий погромщиков, ибо ведь известно, что погромы выразились не только в повреждении и похищении имущества евреев, но и во множестве убийств. Однако человеческие жертвы присущи позднейшим погромам (1903–1906 гг.), а в 1880-х годах, согласно разысканиям Ю. И. Гессена, «в большинстве случаев беспорядки ограничились разгромом шинков», значительно реже бывало так, что «имущество евреев подвергалось разграблению, а в единичных случаях произошло и избиение»{2}. Ю. И. Гессен учитывает все случаи нанесения ущерба евреям (вплоть до разбития стекол в каком-либо шинке), и таких случаев в 1881–1884 годах было, как уже сказано, более 150; историк также выяснил, что только в двух случаях дело дошло до гибели одного еврея (то есть всего погибло двое); это произошло, очевидно, непреднамеренно (то есть не было «установки» на убийства). А вместе с тем Ю. И. Гессен сообщил, что усмирявшие погромщиков «солдаты стреляли и убили несколько крестьян»; согласно опубликованным позднее документальным данным, было убито даже не «несколько» в общепринятом смысле этого слова, а 19 крестьян (это ясно показывает отношение власти к погромщикам){3}. Словом, в 1880-х годах происходили именно погромы — то есть разрушения и грабежи. Нельзя не сказать здесь еще и о следующем. Сам тот факт, что первые погромы в Российской империи произошли только более чем через сто лет после возвращения отторгнутых некогда Польшей и затем заселенных, в частности и евреями, земель, ясно свидетельствует: острый конфликт между евреями и основным населением этих земель (конфликт, который ранее вызывался здесь теснейшей связью евреев с ненавистной польской властью) возник лишь с определенного исторического момента. Он возник спустя два десятилетия после крестьянской реформы, когда основное население было — на пути «прогресса» — вовлечено в торгово-финансовые отношения. Именно об этом говорит и Ю. И. Гессен. Он сначала ссылается на мнение «официальных» экспертов, полагавших, что «важнейшую роль в погромах сыграла торгово-промышленная деятельность евреев — сосредоточив в своих руках значительную часть торгово-промышленных предприятий, существовавших в крае, а также большие денежные средства, евреи стали вызывать в окружающем населении против себя вражду». Изложив это, так сказать, общее мнение, Ю. И. Гессен заключал далее уже лично от себя: «Действительно, еврейское население южных губерний находилось в удовлетворительных экономических условиях… между тем местное крестьянство переживало чрезвычайно тяжелые времена, не имея в своем распоряжении достаточно земли, чему отчасти (это слово явно «смягчает» реальное положение вещей. — В.К.) содействовали богатые евреи, арендуя помещичьи земли и тем возвышая арендную плату, непосильную для крестьян» (с. 219, 220). Нетрудно понять, что система новых экономических отношений (в том числе арендных) сложилась именно после реформы 1861 года и через два десятилетия, в 1880-х годах, привела к погромам. Ю. И. Гессен — не лишенный объективности историк — показал ту жизненную почву, на которой произросли погромные настроения. Таким образом, в 1880-х годах в России повторилось то, что происходило в странах Западной Европы (гораздо раньше вступивших на путь «прогресса») накануне эпохи Возрождения и непосредственно в эту эпоху. Но повторилось, надо прямо сказать, в несоизмеримо менее жестоком и широкомасштабном виде. Вспомним также, что в XIX веке погромы (ранее, чем в России) произошли в Австрии и Германии. Обо всем этом необходимо знать потому, что иначе не будет ясна несомненная искусственность и, более того, злонамеренность «превращения» России в некую «страну погромов» (или даже их «родину»), — почему, мол, и само это всемирно известное слово пришло именно из русского языка… * * *Но пойдем далее. Первый действительно страшный кровавый погром разразился на территории Российской империи с 6 (точнее, начиная с 7-го) по 8 апреля 1903 года в Кишиневе. Здесь погибли тогда 43 человека, из которых 39 были евреи. Подробную картину этого погрома дает объемистый 1-й том «Материалов для истории антиеврейских погромов в России», изданный в Петрограде в 1919 году известными еврейскими историками С. М. Дубновым и Г. Я. Красным-Адмони. В томе представлены материалы, и враждебные евреям, и вполне им сочувственные (как, например, официальные записки прокурора А. И. Поллана), но основной ход событий во всех материалах одинаков: во второй половине дня 6 апреля в Кишиневе началось, пользуясь юридическим языком, «повреждение» и «похищение» имущества евреев, и лишь поздно вечером полиция и войска разогнали погромщиков; утром же 7-го евреи, вооружась чем попало, а также револьверами, решили расправиться с погромщиками, и после убийства (выстрелами из револьверов) одного или, по другим сведениям, двух и ранения нескольких «христиан» начался уже не погром в прежнем смысле, а жестокое побоище, в результате которого 39 евреев было убиты и множество ранены. Проведя расследование, прокурор А. И. Поллан (отнюдь не враждебный евреям человек) писал 11 апреля 1903 года о ходе событий в Кишиневе начиная с 6 апреля: «Молодежь, состоящая преимущественно из подростков, начала бить стекла в еврейских домах, выбрасывать их имущество и уничтожать его… Угрожающего характера беспорядки не принимали… К вечеру, когда пригласили войска, были арестованы 62 человека. На другой день, 7 апреля, беспорядки возобновились… Некоторые евреи, защищая свое имущество, начали стрелять из револьверов, и один из них, который застрелил одного из буянов, был немедленно убит. Затем были убиты и ранены многие евреи… В настоящее время убитых уже насчитывают более 40… Из христиан убиты 3 человека… Убитых евреев из огнестрельного оружия нет»{4}. В позднейшей записке А. И. Поллан сообщал о выяснившемся к тому времени факте, который вызвал наибольшее ожесточение погромщиков: «Следствием установлено, что убит был один христианский мальчик» (там же, с. 203). В дальнейшем были убиты и несколько еврейских детей… При этом следует учитывать, что в Кишиневе, согласно переписи 1897 года, на 108 403 человека населения приходилось 50 257 человек иудейского вероисповедания (то есть 46,3 %); это объясняет особую напряженность столкновения. Наконец, необходимо иметь в виду, что Кишинев и Бессарабская губерния (позднее Молдавия) вообще представляли собой — с точки зрения отношений основного населения и евреев — настоящий пороховой погреб, для взрыва которого вполне достаточно было и одного револьверного выстрела. В. В. Розанов, который позднее провел лето в Бессарабии, так изложил представления местных жителей о ситуации, создавшейся в Бессарабской губернии (текст этот, затерявшийся в подшивках газеты «Новое время», разыскал и опубликовал в культурнейшем современном журнале «Литературная учеба» В. Г. Сукач): «Сила его (речь идет об экономической силе еврейства. — В.К.) всегда больше силы окружающего населения, хотя бы евреев была горсточка и даже всего пять-шесть семей, ибо эти пять-шесть семей имеют родственные, общественные, торговые, денежные связи с Бердичевом и Варшавой, да и с Венгрией, с Австрией; в сущности со всем светом. И этот «весь еврейский свет» поддерживает каждого Шмуля из Сахарны (бессарабская местность, где жил Розанов. — В.К.), и «Шмуль в Сахарне» забирает всю Сахарну в свои руки, уже для пользы не своей, а всего совокупного еврейства, ибо, укрепившись здесь, он немедленно призывает сюда родственников, родичей, единоверцев в помощь себе (стоит сообщить, что в 1847 году в Бессарабской губернии проживали 20 232 еврея, а всего через 50 лет, в 1897 году, в 11 раз больше — 228 528 (!); см. ЕЭ, т. 4, с. 373, 377. — В.К.), в компанию с собою, в сущности за один обеденный стол с собою, где они кушают темную молдавскую Сахарну, кушают ее посевы, ее птицу, ее скот, все это скупая за бесценок через моментально образуемые синдикаты и не подпуская никакого чужого покупателя ни к какому продукту, сырью, свежине. Сахарна пашет, работает, потеет, а евреи ее пот обращают в золото и кладут в карман. Они имеют «у своих» бесконечный кредит под свои способности, под свою живость, под свою оборотливость. Какая же с ними конкуренция, когда в каждой точке они — «все», а всякий русский, хохол, валах — «один»…» Изложив это, В. В. Розанов отметил: «Передаю все в том «сыром материале», как взял с земли, не прибавляя ни размышления, ни даже «да» или «нет»…»{5} Впрочем, Розанов с самого начала представил свой рассказ как обобщение того, что он слышал от бессарабцев: они воспринимали деятельность евреев как своего рода высасывание соков из их земли и из них самих. И в разрушении и грабеже имущества евреев они усматривали некое «восстановление справедливости». Однако беспристрастный наблюдатель с полным правом возразит, что никакого насилия или хотя бы беззакония евреи по отношению к бессарабцам не совершали: они только умело и сплоченно занимались финансово-торговой деятельностью. И никто не мешал «туземцам» сплотиться и потеснить евреев в честном экономическом соревновании. И тот факт, что они вместо этого устроили погром, свидетельствует только об их деловой несостоятельности, заставлявшей их прибегать к грубой силе. Наконец, это особенно безнравственно потому, что в целом евреи составляли меньшинство населения Бессарабии (всего около 12 %); естественно предположить, что при количественном равенстве «туземцы» и не решились бы на погром… Все это, в сущности, неоспоримо; но, если возвратиться к сделанному по материалам ЕЭ обзору истории конфликта евреев с основным населением, нетрудно убедиться, что дело, как правило, доходило в какой-то момент до погромов, будь то в Англии, Франции, Германии или Австрии. То есть все «туземцы» оказывались несостоятельными… Это, надо думать, означает, что экономический конфликт был неразрешим на экономической же почве. И в самом деле: евреи в начале XX века составляли 4 с небольшим процента населения Российской империи, но если говорить о людях, занятых в торговле, то согласно переписи 1897 года в городах империи их насчитывалось 618 926, и 450 427 из них были евреи (ЕЭ, т. 13, с. 649), то есть торговцев всех других национальностей имелось 168 499 человек — почти в три раза (точно — в 2,7) меньше! При таких условиях собственно экономическое соревнование, конечно, было невозможно; конкурентам евреев недоставало для соревнования на равных более 280 000 торговых людей… Эти цифры характеризуют положение в Российской империи в целом; но тут же в ЕЭ отмечено, что «одни евреи сообщают Бессарабии торговое движение» (там же, с. 647). Словом, конфликт предстает как поистине неразрешимый. При этом необходимо еще иметь в виду, что конфликт тогда был совершенно очевидным, наглядным: любой житель Бессарабской губернии, будучи вовлечен «прогрессом» в торгово-финансовые отношения, неизбежно самым непосредственным образом сталкивался в своем повседневном быту с евреями, почти целиком держащими в своих руках торговую сферу. Это важно учитывать потому, что для позднейшего, еще более «прогрессивного» устройства общества такое прямое и постоянное столкновение уже вовсе не характерно: люди, в чьих руках находится финансово-торговое владычество, в сущности, «невидимы», они не соприкасаются на бытовом уровне с большинством населения. В Бессарабской же губернии 1903 года все было, так сказать, обнажено, и жители усматривали в забравших в свои руки торговлю евреях безнаказанных грабителей (см. приведенный выше текст В. В. Розанова). И дело обстояло, очевидно, примерно так же во всех странах, где конфликт обострялся в конечном счете до погромов… Констатация этого факта отнюдь не означает, конечно же, перекладывания вины за кишиневский погром (как и другие погромы) на евреев. Речь идет только об уяснении тяжести, даже — что уже было отмечено — неразрешимости конфликта. Ведь погромы обычно изображаются как порождение некой иррациональной злодейской воли, чуть ли не садизма, что, конечно же, абсолютно неверно. А тот факт, что в Кишиневе совершались в прямом смысле слова зверские убийства евреев, был обусловлен, без сомнения, использованием огнестрельного оружия, которое опять-таки нарушило принцип борьбы на равных, — поскольку у погромщиков оружия не было, а евреи составляли почти половину (46 с лишним процентов) населения города. Разумеется, и это отнюдь не снимает вину с погромщиков; дело идет только об объективном понимании ситуации. Ведь вообще-то безусловно господствует точка зрения, согласно которой евреи в конфликтах с остальным населением Земли всегда и везде, в любой стране и в любое время являли собой абсолютно ни в чем не повинные жертвы корыстных, тупых и жестоких палачей. Это, конечно, не значит, что уместно и достойно выдвигать — пусть даже со всяческими оговорками — противоположную точку зрения (что во всем виноваты-де только евреи). Поскольку погромщики обычно первыми начинали насилие, никакие последующие события не могли их «оправдать», снять с них исходную вину. Именно так оценил ситуацию один из наиболее выдающихся идеологов «черносотенства» епископ Антоний Волынский (о нем уже не раз шла речь), который вскоре после кишиневского погрома произнес «слово» о нем, получившее широкую известность и признание. Стоило бы привести здесь это «слово» целиком, но оно весьма обширно, и я ограничусь цитированием начала. Епископ Антоний сказал, что «доходят до нас печальные позорные вести о том, что в городе Кишиневе… происходило жестокое, бесчеловечное избиение несчастных евреев… О Боже! Как потерпела Твоя Благость такое поругание!..»{6} В связи с кишиневским погромом необходимо коснуться еще одной стороны дела. Об этом погроме говорится особенно много и часто потому, что в отличие от принесших еще большие жертвы погромов 1905 года, разразившихся непосредственно в условиях Революции, кишиневский предстает как особенно прискорбный: в мирное, в общем, время были зверски убиты десятки людей. И этот погром нередко квалифицируется как одно из наиболее тяжких «преступлений русского народа». Так, историк Владлен Сироткин недавно написал послесловие к двум посвященным кишиневскому погрому документальным повестям эмигранта Семена Резника, объединенным под заглавием «Кровавая карусель». Послесловие это начинается многозначительной сентенцией: «Читать «Кровавую карусель»… мне, русскому человеку, тяжело и больно». Далее дано следующее «объяснение» этой тяжести и боли, гнетущих «русского человека» В. Сироткина: «…главную заслугу Семена Резника я вижу в том, что он своей книгой пытается понять, почему в части русского народа… росла и набирала силу неприязнь к «инородцам», прежде всего к евреям»{7}. Однако едва ли Резник в своей книге «пытается понять» именно это, так как в его повестях не раз сообщается о национальной принадлежности кишиневских погромщиков, и речь идет только о молдаванах, некоторые из коих даже не знают ни слова по-русски. Это вполне понятно, ибо Бессарабия (ныне Молдова) вошла в состав Российской империи лишь в 1812 году и не могла менее чем за столетие стать собственно «русской» провинцией (кстати сказать, после 1917 года, когда Бессарабия — до 1940 года — стала провинцией Румынии, погромы там происходили постоянно). И еще одна деталь — вроде бы мелкая, но весьма существенная. В. Сироткин утверждает, что своего рода инициатором кишиневского погрома был, как он его не раз называет, «Павел Александрович Крушеван». Почему так торжественно? Да потому, что преследуется — сознательно или бессознательно — цель скрыть тот факт, что Крушеван принадлежал к знатному молдавскому роду, чем очень гордился, и носил чисто молдавское имя Паволаки (а не Павел). Да, читать о кишиневском погроме и тяжело, и больно, но по меньшей мере неуместно внедрять в разговор об этом «русского человека» и «русский народ». Владлен Сироткин может, конечно, возразить, что погромы имели место в начале века и в других, более «обрусевших» провинциях, но есть все же нечто недостойное и даже зловещее в «приписывании» именно кишиневского погрома русскому народу. Ведь это совершенно то же самое, что обвинить сегодня русский народ в зверствах по отношению к гагаузам, абхазам или туркам-месхетинцам! Столь же недостойный характер имеет и произведенное здесь же В. Сироткиным «сопоставление» России и Франции в свете двух судебных процессов — Дрейфуса, в защиту которого выступал Золя, и Бейлиса, защищаемого Короленко. «По счастью, — объявляет В. Сироткин, — сторонников Э. Золя во Франции оказалось больше, чем в России сторонников В. Короленко, и антисемиты там потерпели сокрушительное поражение… В России, увы, все обстояло по-другому…» и т. д. Это рассуждение рассчитано либо на совершенно неосведомленных, либо на до тупости распропагандированных читателей. Ведь Бейлис был при первом же судебном решении признан полностью невиновным, между тем как Дрейфус сначала был приговорен к пожизненному заключению на Чертовом острове в Южной Америке, получившем прозвание «сухая гильотина», и провел там 5 мучительных лет; затем на новом суде его еще раз приговорили — теперь уж, правда, только (!) к десяти годам; далее он был — под громадным давлением «дрейфусаров» — помилован (но не оправдан!) и, наконец, еще через семь лет (!) признан невиновным. Нельзя не добавить к этому, что и Золя за свою поддержку Дрейфуса был приговорен к году тюрьмы и трем тысячам франков штрафа и спасся только ловким бегством в Англию, где дождался акта помилования; между тем Короленко «пострадал» разве лишь от большого количества устроенных тогда в его честь банкетов. Не приходится уже говорить о том, что в 1917–1918 годах почти все обвинители Бейлиса (начиная с прокурора О. Ю. Виппера — брата знаменитого историка) оказались в тюрьмах и уже не вышли оттуда живыми. Так где же, спрашивается, было «больше сторонников»? И не стыдно ли, тов. Сироткин, публиковать подобную дезинформацию? * * *«Черносотенный» епископ Антоний, говоря о кишиневских событиях, высказал отношение к погромам, присущее не только ему лично, но и русской Церкви в целом, — хотя бессовестные пропагандисты распространяли (и продолжают распространять) абсолютно клеветническое обвинение Церкви в «сочувствии» и даже чуть ли не в содействии погромам. Впрочем, нельзя не коснуться и другой столь же клеветнической версии, согласно которой погромы «организовало»-де Российское государство, то есть конкретно — правительство. В первой действительно исследовательской работе, освещающей этот вопрос, — в уже не раз упомянутой книге В. А. Степанова, — на основе тщательного изучения архивных и других материалов сделан следующий вывод: «Нет сведений о прямой причастности правительства к этим (погромным. — В.К.) делам», и в то же время налицо многочисленные «документы, свидетельствующие только о желании властей немедленно прекратить избиение вверенного их попечению населения»{8}. Правда, В. А. Степанов, на которого давят начавшиеся еще в 1900-х гг. «разоблачения» мнимых правительственных «инициаторов» погромной вакханалии, все же допускает возможность неких — пока, правда, не обнаруженных — сугубо «тайных» действий власти в этом направлении. Слишком велика была обработка умов, чтобы можно было — даже после тщательного исследования — освободиться от много лет вдалбливаемой версии, пусть и воистину нелепейшей. Нелепа она хотя бы уже потому, что для всякой власти опасны и в конечном счете гибельны любые насильственные акции самого населения. В высшей степени характерно, что противоеврейские погромы начала 1880-х годов действительно стремилась подтолкнуть и разжечь отнюдь не власть, а, напротив, главная революционная организация тех лет — партия Народной воли, о чем писал, например, Ю. И. Гессен: «…судя по партийному органу, члены партии считали (и правильно считали! — В.К.) погромы соответствующими видами революционного движения; предполагалось, что погромы приучат народ к революционным выступлениям; некоторые члены Исполнительного Комитета (Народной воли. — В.К.) изготовили 30 августа 1881 года прокламацию, призывавшую к разгрому евреев» (т. 12, с. 617–618). Между тем правительство сразу же после первого погрома 1881 года издало циркуляр, где о погромщиках говорилось как об опасных преступниках, которые «впадают в своеволие и самоуправство… Подобные нарушения порядка не только должны быть строго преследуемы, но и заботливо предупреждаемы: ибо первый долг правительства охранять безопасность от всякого насилия и дикого самоуправства» (там же, с. 615). Как уже сообщалось, во время погромов 1880-х годов вызванными войсками были убиты 19 погромщиков и множество из них ранены. А в Уложение о наказаниях, как уже говорилось, была введена специальная статья о погромщиках. Что же касается кровавых событий 1903 года в Кишиневе, сотни погромщиков были после них осуждены, а представители местных властей во главе с губернатором были с позором отправлены в отставку — прежде всего за то, что не обеспечили своевременных и решительных действий военной силы для пресечения погрома. И вот, несмотря на эти очевидные и бесспорные факты, до сего времени чуть ли не господствует основанная на различных слухах и совершенно сомнительных «документах» (вроде якобы перехваченных кем-то «секретных инструкций») версия, согласно которой погромы организовывало правительство, отдавая-де тайные приказы местным властям. Пропагандистов сей версии не смущает даже то, что за допущенные погромы эти самые местные власти достаточно сурово наказывались (и тем не менее в других местах именно власти якобы продолжали готовить новые погромы!). Нельзя не отметить, что мнение о «правительственной» организации погромов нередко пытаются обосновать, ссылаясь на сочувствие погромам со стороны каких-либо отдельных лиц, причастных власти. Однако полная несостоятельность такого подхода очевидна, ибо в составе тогдашних властей имелось множество отдельных людей, сочувствовавших Революции, что, понятно, не дает оснований считать власть организатором Революции (так, например, революционерам оказывал немалую помощь — что давно уже точно выяснено — директор департамента полиции в 1902–1905 годах А. А. Лопухин; именно он, кстати, «разоблачал» тех отдельных правительственных лиц, которые вроде бы были готовы способствовать погромам). И остается только поражаться доверчивости тех, кто не способен отвергнуть пропагандистские фальшивки о правительственном «руководстве» погромами, сфабрикованные в целях дискредитации российской власти, — что было обязательной и постоянной задачей всех революционных и либеральных идеологов. Уже упомянутый действительно серьезный еврейский историк Ю. И. Гессен писал в 1926 году, что само по себе «возникновение в короткий срок на огромной площади множества погромных дружин (речь шла о погромах 1880-х годов. — В.К.) и само свойство их выступлений устраняют мысль о наличии единого организационного центра». Да, при честном и элементарно разумном подходе «устраняется» даже и сама мысль о правительственной (да и какой-либо иной) организации погромов, но для бесчестных или глупых это, как говорится, не указ. Реальная причина погромов — в описанном выше (на основе, кстати сказать, работ еврейских историков) тяжелом и, в сущности, неразрешимом экономическом конфликте, так отчетливо проявившемся в 1903 году в Бессарабской губернии. Конечно, к экономическому конфликту могли примешиваться — и примешивались — идеологические, религиозные и чисто бытовые моменты, но корень все-таки — в финансово-торговой сфере. Завершая разговор о нелепости версии, согласно которой погромы инспирировались правительством, напомню еще раз, что после того, как Бессарабия оказалась под властью Румынии, погромы там не только не прекратились, но приобретали подчас более ожесточенный характер. В обобщающей статье на эту тему, опубликованной в 1931 году, говорится о противоеврейских погромах в Бессарабии: «Первая волна… прокатилась в 1919–1920, вторая в — 1925. Наконец, уже при правительстве… Маниу (пришло к власти в 1928 году. — В.К.) имел место ряд еврейских погромов»{9}. Это лишний раз показывает, что дело не в характере государства, а в описанном выше конфликте внутри самого населения. * * *Обратимся теперь непосредственно к проблеме соотношения погромов и «черносотенцев». Как мы видели, погромы начались в Российской империи в 1881 году, за четверть века до создания первой «черносотенной» организации. Так что никак нельзя считать погромы «черносотенным» изобретением. Напомню и о безоговорочном, даже можно сказать, яростном осуждении кишиневских погромщиков, прозвучавшем из уст одного из корифеев «черносотенства» — епископа Антония Волынского. Впрочем, с «черносотенцами» связывают главным образом или даже исключительно более поздние погромы 1905–1906 годов, то есть времени первой российской революции. И поскольку евреи (чего никак нельзя опровергнуть) играли огромную роль в этой революции, а, с другой стороны, «черносотенцы» исповедовали непримиримо антиреволюционные убеждения, как-то само собой возникла своего рода аксиома: погромы 1905–1906 годов организовывали «черносотенцы» (или даже, более того, целиком их осуществляли). Погромы, разразившиеся в октябре 1905 года, далеко превзошли все предшествующие (разумеется, если говорить о погромах в Российской империи); жертвы исчислялись сотнями. И вина за них приписывается «черносотенцам» — хотя надо прямо сказать, ровно никаких сколько-нибудь достоверных сведений об этом не существует, их просто нет. Наиболее четкая и достаточно подробная информация о погромах 1905–1906 годов дана в специальной статье о них, принадлежащей Д. С. Пасманику. Статья написана в 1912 году, когда все сведения еще можно было получить от очевидцев, а с другой стороны, уже прошло необходимое для изучения фактов время. Д. С. Пасманик (1869–1930) — один из виднейших еврейских политических и научных деятелей того времени, автор более десятка книг и множества статей, посвященных экономическим и социологическим проблемам. На его статью о погромах 1905–1906 годов опирались позднее все действительно серьезные исследователи, касавшиеся этой темы. «17 октября 1905 года, — писал Д. С. Пасманик, — был опубликован Высочайший манифест, обещавший новое государственное устройство, а с 18 октября начались погромы… Погромы в разных местах произошли почти одновременно: между 18 и 29 октября… Погромы были произведены в 660 городах, местечках и деревнях, и так как в некоторых местах погромы повторялись, то всего погромов было за 12 октябрьских дней 690… Главным образом погромы происходили в южной и юго-западной частях черты еврейской оседлости. В северо-западном крае, где процентное отношение еврейского населения очень высокое, погромы крайне редки, а в некоторых губерниях… совершенно отсутствовали (об этой стороне дела речь пойдет ниже. — В.К.)… После октябрьских дней погромы произошли… в Тальсене, Белостоке и Седлеце (это уже было в следующем, 1906 году — В.К.)»{10}. Д. С. Пасманик дал здесь же анализ причин октябрьских погромов: «Мелкая буржуазия… играла главную роль в эти ужасные дни… Здесь, очевидно, действовал антисемитизм на экономической почве… Она (мелкая буржуазия, то есть прежде всего торговцы. — В.К.) имела в виду одно: уничтожить ненавистного конкурента… В некоторых местах стимулом служило обвинение евреев в революционности, а в большинстве случаев — простое желание воспользоваться чужим добром… Крестьянство участвовало в погромах исключительно в целях обогащения на счет еврейского добра…» (с. 619–620). Здесь следует добавить, что своего рода «оправданием» грабежа еврейского имущества в глазах погромщиков служило, конечно же, мнение о евреях как «грабителях» основного населения (см. выше). Итак, Д. С. Пасманик пришел к выводу, что октябрьские погромы имели «экономические» причины, а роль «пускового механизма» сыграл Манифест 17 октября, который — как показано во множестве свидетельств и исследований — создал в стране всеобщую атмосферу безвластия, вседозволенности, безнаказанности, которые, кстати сказать, гораздо, даже неизмеримо сильнее, нежели в погромах, выразились в различных революционных акциях. Сейчас уже трудно представить себе многообразные разрушительные последствия этого манифеста. С. А. Степанов привел специфический, но очень выразительный пример: кадет В. А. Маклаков вспоминал о собрании, состоявшемся 18 октября 1905 года не где-нибудь, а в Московской консерватории (!): «В вестибюле уже шел денежный сбор под плакатом «На вооруженное восстание». На собрании читался доклад о преимуществах маузера перед браунингом» (!) (с. 50). В такой общественной атмосфере, захватившей даже и консерваторию, неизбежно должны были обнажиться все — в том числе и не очень уж обостренные, подспудные — конфликты, и именно потому разразилось столь громадное количество погромов. Д. С. Пасманик недвусмысленно констатировал: «Нельзя приписать октябрьские погромы исключительно определенной организации». Правда, он счел нужным отметить тут же, что «Ф. Львов в газете «Наша жизнь» доказывал наличность организации, во главе которой стоял один известный генерал». Речь шла о статье либерального деятеля Ф. А. Львова, который пытался приписать широкомасштабную организацию погромов семидесятишестилетнему (!) генералу от инфантерии в отставке Е. В. Богдановичу (1829–1914), принадлежавшему к «правым» кругам. Но в наше время С. А. Степанов провел, по его собственному определению, «расследование» и установил, что созданная этим генералом «дружина хоругвеносцев» имела чисто декоративное назначение, и нет никаких (цитирую С. А. Степанова) «следов черносотенной организации, якобы игравшей роль застрельщицы… Следует признать, что в распоряжении исследователей пока нет достоверных данных о существовании единого центра, руководившего погромами» (с. 70, 71). Поскольку в массе всякого рода сочинений утверждается (совершенно голословно), что «черносотенные» партии организовывали или даже вообще целиком осуществляли октябрьские погромы, С. А. Степанов, как видим, все же не без осторожности оговорил, что, мол, «пока нет достоверных данных». Дело в том, однако, что если подобный «центр» и существовал, то он никак не мог быть «черносотенным», ибо все такие «центры» возникли в то время, когда волна погромов уже прошла! В «Еврейской энциклопедии», подготовленной, как мы не раз имели возможность убедиться, стремившимися к объективности авторами, есть специальная статья «Союз русского народа» (соответствующий том — на «С» — вышел в 1912 году), в которой этой политической организации дана, понятно, весьма негативная оценка, но нет даже намека на то, что Союз русского народа причастен к противоеврейским погромам (см. т. 14, с. 519; статья начинается словами: «Союз возник в конце 1905 года…» — а ведь погромы разразились в октябре). Опубликованные в те времена материалы, посвященные «черносотенцам», вообще, надо сказать, более правдивы, нежели позднейшие, — уже хотя бы потому, что неудобно было преподносить заведомо лживые сведения о совсем недавно совершившихся событиях (позднее, после 1917 года, многие уже не стеснялись врать напропалую). Так, более или менее правдив с этой точки зрения весьма подробный обзор событий 1905-го и последующих трех лет, написанный в 1909 году левым кадетом В. П. Обнинским (о данной его объемистой книге под названием «Новый строй» уже не раз упоминалось). Отметив, что «свобода», дарованная Манифестом 17 октября, «застала большую часть населения не подготовленной к ее восприятию», Обнинский именно этим объяснял «крайние решения… справа и слева» (с. 8) — то есть в том числе и вал погромов. А далее он выразил своего рода глубокое удивление по поводу того, что за «крайними решениями справа» — то есть погромами — не просматривается никакой «организации»: «…если влияние слева, — писал Обнинский, — не отрицается политическими партиями, поставившими на своих знаменах вполне определенные надписи (скажем, «Долой самодержавие!». — В.К.), то вопрос о воздействии справа и доселе (то есть в 1909 году. — В.К.) не потерял своей остроты и таинственности. Дело в том, что в дни 18–30 октября (то есть в «погромный» период. — В.К.) не существовало партий правее конституционно-демократической, и будущие кадры так называемых монархических организаций находились еще в распыленном состоянии»{11}. Недоумение Обнинского вполне понятно. Ко времени его работы над книгой уже давно и постоянно выкрикивались обвинения в адрес Союза русского народа и «черносотенных» партий вообще — голословные обвинения в организации погромов. Но Обнинский стремился объективно осветить движение событий и никаких доказательств правоты этих обвинений не находил. Изучив реальный ход дела, он констатировал, что только «за полгода, отделявшие Думу (она открылась 27 апреля 1906 года. — В.К.) от Манифеста (17 октября 1905 года. — В.К.), успели образоваться так называемые «монархические» партии, не менее радикально, чем крайние левые, настроенные и заимствовавшие у последних большую часть тактических приемов» (с. 18). Из этого следовало, понятно, что «монархические» партии никак не могли организовать октябрьские погромы 1905 года, поскольку сами не были еще «организованы», не существовали как способные к какому-либо действию силы. Правоту В. П. Обнинского подтверждает и вторая солидная работа, затрагивающая интересующую нас тему. Это обширная глава В. Левицкого под названием «Правые партии», вошедшая в изданный в 1909–1914 годах в Петербурге пятитомный коллективный труд «Общественное движение в России в начале XX века». В. Левицкий — псевдоним эсдека В. О. Цедербаума, родного брата лидера меньшевиков Л. Мартова (Ю. О. Цедербаума); понятно, что ни о каком «обелении» изучаемых им «черносотенцев» В. Левицкий и не помышлял. Тем не менее он доказывал, что до 1906 года «практика» всех «черносотенных» сил (цитирую) «ограничивалась устройством замкнутых членских собраний», «сводилась преимущественно к закрытым «беседам», не имея ничего общего с «широкой устной агитацией»{12}. «Черносотенцы» начинают выходить за пределы чисто «кружкового» существования лишь в самом конце 1905 года; В. Левицкий говорит, в частности, о Союзе русского народа: «…вербовка им в члены рабочих началась после декабрьского поражения 1905 года» (декабрьское революционное восстание было подавлено к 20 декабря). И особенно важная информация: Союз русского народа «начинает свою погромную агитацию после взрыва революционерами харчевни «Тверь» за Невской заставой в Санкт-Петербурге 27-го января 1906 года». К этому «взрыву» мы еще вернемся; пока же отметим, что к октябрьским погромам 1905 года Союз русского народа, согласно выводу В. Левицкого, никакого отношения не имел; он не только не организовывал их, но даже и не «агитировал» за них. Конечно, до и во время издания работы В. Левицкого высказывались и совсем иные мнения; но это были только чисто эмоциональные приговоры, не подкрепленные хоть какими-либо фактами. Однако постоянно повторяемые выкрики со временем приобретают мнимую «достоверность». И в 1919 году серьезный, казалось бы, еврейский историк С. М. Дубнов счел возможным написать, что в октябрьских погромах 1905 года «участвуют организующиеся «черные сотни»… Здесь полоса погромов достигает своего крайнего полюса (то есть наиболее мощного проявления. — В.К.), к которому примыкают еще два кровавых погрома 1906 года в Белостоке и Седлеце… Оба они были делом уже организованного Союза русского народа»{13}. (С. М. Дубнов не упоминает еще один, последний, погром в Тальсене, по-видимому, из-за его незначительности.) В результате возникает по меньшей мере странная картина: в октябре 1905 года погромы достигают прямо-таки невероятных масштабов (их, по подсчетам Д. С. Пасманика, было около 700), хотя «черные сотни» только еще «организуются», а после того, как они «уже организованы», происходит всего 2 или, точнее, 3 погрома (начиная с 1907 года погромов уже вообще не было, если не считать позднейшего военного, то есть по самой своей сути погромного, времени, когда громилась вся Россия вообще). Помимо этого, нельзя не отметить, что Белосток и Седлец (Седльце) — это чисто польские города (а Тальсен — ныне Талсы — латышский), которые после 1917 года стали (и сейчас являются), естественно, городами возрожденной Польши, и те части их населения, к которым мог апеллировать Союз русского народа, были весьма небольшими (основное население этих городов относилось к Союзу русского народа заведомо враждебно). Кстати, «в широком масштабе еврейские погромы устраивались лишь в независимой Польше»{14}, то есть после, а не до 1917 года. Словом, суждения С. М. Дубнова ни в коей мере не выдерживают проверку фактами. Но, увы, в позднейшее время все вообще погромы были многократно объявлены «делом Союза русского народа» (С. М. Дубнов-то все же утверждал, что в 1905 году «черные сотни» пока еще только «участвуют», а не всецело управляют погромами) без какого-либо разграничения «организующегося» и «уже организованного» Союза. Это стало, повторяю, как бы совершенно не нуждающейся в доказательствах аксиомой. Наиболее, пожалуй, удивителен тот факт, что в позднейших сочинениях, затрагивающих вопрос о погромах, нередко есть ссылки на работы В. П. Обнинского и В. Левицкого (работы, во-первых, заведомо «античерносотенные», во-вторых, написанные тогда, когда все выводы можно было проверить, и, наконец, работы достаточно основательные), однако действительное содержание этих работ игнорируется. Так, например, в 1977 году историк Л. М. Спирин, похвалив работу В. Левицкого за то, что в ней содержится «большой фактический материал», утверждает тем не менее, что монархисты-де «возглавили погромы»{15} — хотя никакого «фактического материала» об этом не имеется… * * *Впрочем, если быть, как говорится, точным до конца, в работе В. Левицкого «черносотенцы» и погромы все-таки связывались друг с другом, ибо Союз русского народа после 27 января 1906 года начал, по его словам, «свою погромную агитацию». И здесь перед нами открывается существеннейший и по-своему прямо-таки замечательный аспект дела. В. Левицкий сообщает о развитии событий следующее. Сначала он упоминает о том, что (цитирую) «1-й номер «Русского Знамени» (газета Союза русского народа. — В.К.) вышел 27 ноября 1905 года со следующим программным заявлением от редакции: «…Довольно крови и насилий!» (с. 397). Однако ровно через два месяца, сообщает В. Левицкий, «27 января 1906 года взорвана революционерами харчевня (вернее, чайная. — В.К.) «Тверь» за Невской заставой в Санкт-Петербурге, где в то время происходило заседание рабочих-черносотенцев; в результате 2 убиты и 6 тяжело ранены (в их числе видный черносотенный рабочий Лавров), а всего 18 пострадавших… «Русское знамя» начинает свою погромную кампанию сразу после взрыва… Газеты посвящают этому событию несколько статей, в одной из которых говорилось: «Видно, силен Союз русского народа, если революционеры уже начали бросать бомбы в чайные заведения… Народ разыщет убийц!.. Пусть же сами пеняют потом на себя» (статья П. Булацеля). В таком же духе, — продолжает В. Левицкий, — пишется ряд статей и произносятся речи на похоронах убитых… Погромный тон черносотенных писаний слышится все явственнее. 29-го марта Аполлон Майков (сын поэта) угрожает на страницах «Русского знамени»: «Трепещите, когда народ русский станет плечом к плечу…» Нет возможности перечислить все подобные угрозы и погромные призывы на столбцах черносотенных газет… После покушения на Столыпина — на Аптекарском острове (12 августа 1906 года; 27 человек убиты, 32 ранены, в том числе дети. — В.К.) — Союз русского народа снова начинает говорить о народном самосуде» (с. 397, 409, 434). Из подобной риторики и был вылеплен «страшный» образ Союза русского народа («угрожает», «угрозы», «призывы» и т. п. — об этом «способе» запугивания «черносотенцами» уже не раз шла речь выше). В. Левицкий не мог привести ни одного факта, свидетельствующего об «организованных» Союзом русского народа погромах, ибо понимал, что было бы просто несерьезно, даже нелепо напрямую связывать взрывы у Невской заставы и на Аптекарском острове с событиями в далеких польских Белостоке и Седлеце (а других погромов после 1905 года не было) как якобы ответными акциями «черносотенцев». Но суть дела, собственно, не в этом. Казалось бы, любой нормальный человек, прочитав рассуждения В. Левицкого, должен был прийти в состояние полнейшего недоумения: революционеры беспощадно уничтожали множество людей, а главным «обвиняемым» выставляется все же «Русское знамя», осмелившееся над могилами погибших всего только пригрозить убийцам неким грядущим народным возмездием. Но что поделаешь — таков уж удел «черносотенцев»: их слова преподносятся как нечто гораздо более опасное и жестокое, нежели бомбы революционеров. Да и мало кто замечает, что само понятие «погром» было беззастенчиво переадресовано — оно применяется не к действительным разнузданным погромщикам, а к мнимым. В 1905–1907 годах бесчисленные сокрушительные погромы устраивали вовсе не «черносотенцы», а красносотенцы. Тот же В. Обнинский свидетельствовал: «Фабрикация бомб приняла гомерические размеры… Мастерские бомб открываются во всех городах… Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями и памятниками русским генералам и кончая церквами» (с. 156), не говоря уже о погромах тысяч дворянских усадеб. Как констатировалось в предыдущей главе, «зафиксирован» только один случай, когда «черносотенцы» попытались применить бомбы (заложив их в дымоход квартиры Витте), но и тогда им пришлось прибегнуть к помощи обманутых ими революционеров… И в высшей степени показательно, что В. Левицкий, поставивший задачу заклеймить «черносотенцев», смог — так как тогда, вскоре после событий, неловко было попросту фантазировать — обвинить их всего лишь в «угрозах»… Но самое замечательное, пожалуй, состоит в том, что Союз русского народа не только не организовывал, но и никогда не «планировал», не «замышлял» противоеврейских погромов. Мне могут возразить, указав на наличие тех или иных тогдашних листовок, в коих можно усмотреть побуждение к погромам (о некоторых из таких листовок еще пойдет речь). Но отдельные безответственные экстремисты характерны для любого общества, находящегося в состоянии смуты. Что же касается самого Союза русского народа как организации, никаких действительных призывов к погромам от его имени никогда не было. Об этом, кстати сказать, неопровержимо свидетельствует и работа В. Левицкого: если бы прямые «черносотенные» призывы к погромам существовали, автор, вне всякого сомнения, привел бы их; но он процитировал только тексты, выражающие веру в грядущее возмездие, которое ожидает чудовищных революционных убийц. Более того, В. Левицкий, стремясь быть объективным, сообщает, что Союз русского народа не раз выступал с самым резким осуждением противоеврейских погромов — правда, вместе с тем утверждая, что погромы порождены экономической практикой евреев; так, председатель Главного совета Союза русского народа А. И. Дубровин заявил, что евреи «своими преступлениями довели до преступления русский народ» (с. 434), — то есть недвусмысленно определил погромы как преступление. Весьма выразительно и официальное заявление Союза русского народа от 10 ноября 1906 года: «Союзу русского народа в лице его Главного совета и местных отделов до сего времени приходилось прилагать немалые усилия к тому, чтобы предотвратить проявления дикого насилия и самосуда (выделено мною. — В.К.; вот действительная «черносотенная» характеристика погромов!) со стороны угнетенного евреями и крайне негодующего населения, особенно в Юго-Западном крае, и таким образом евреи в некоторых случаях обязаны мирным исходом недоразумений исключительно сдерживающему влиянию Союза русского народа» (с. 434). Кто-нибудь скажет, конечно, что это-де хорошая мина при дурной игре и что, делая такого рода публичные жесты, «черносотенцы» в то же время, мол, тайно организовывали погромы. Однако реальное положение вещей ясно говорит о другом. И Обнинский, и Левицкий доказывали, что Союз русского народа начал свою «агитацию» лишь в 1906 году; но в этом году, как мы видели, состоялись только три погрома в Польше и Латвии, а в Юго-Западном крае, где Союз русского народа действительно пользовался очень большим влиянием, погромов тогда не было вообще (в отличие от октября 1905 года). Так что реальная ситуация подтверждает процитированное заявление Союза русского народа или уж в крайнем случае не опровергает его. * * *В заключение этой главы целесообразно возвратиться к проблеме октябрьских — то есть совершившихся еще до образования «черносотенных» организаций — погромов. Как уже говорилось, В. П. Обнинский усматривал в них «таинственность»: никакие организации за ними не стоят, а размах погромных акций и количество жертв громадны… Современный исследователь С. А. Степанов, тщательно анализируя результаты погромов, столкнулся с еще одной «загадкой»: выяснилось, что в ходе октябрьских погромов погибли 1622 человека, и евреев среди погибших было 711 (то есть 43 %), а ранены были 3544 человека и в их числе 1207 евреев (34 %) (с. 56, 57). Стремясь понять, почему это так, С. А. Степанов пришел к следующему выводу: «Погромы не были направлены против представителей какой-нибудь конкретной нации» (с. 57). Позднее в беседе с корреспондентом он заявил еще более категорически: «…вы допускаете распространенную ошибку, называя погромы еврейскими… Погромы совершались… против революционеров, демократически настроенной интеллигенции и учащейся молодежи»{16}. Но это, без сомнения, неосновательное умозаключение уже хотя бы потому, что в большинстве захолустных селений, где в октябре 1905 года разразились погромы, попросту не имелось тех «категорий» людей, которые перечислены С. А. Степановым, а если и имелись, то в совершенно незначительных количествах. Иную «разгадку» дает в своей уже широко известной книге «Бесконечный тупик» (1988; издана в 1997) Д. Е. Галковский. Он исходит, в частности, из сообщения очевидца октябрьского погрома в Одессе Исаака Бабеля: «Евреев били на Большой Арнаутской… Тогда наши вынули… пулемет и начали сыпать по слободским громилам». Д. Е. Галковский комментирует эту цитату из Бабеля так: «Пулемет. В 1905 году, когда только-только поступил на вооружение (пулеметы вообще были употреблены впервые в англо-бурской войне 1899–1902 годов. — В.К.). Громилы били (кулаками), а по ним сыпали (из пулемета…) Ну что же, не было погромов? Были, конечно, были, — иронизирует Д. Е. Галковский. — Были еврейские погромы. В 80-х годах прошлого века их называли антиеврейские погромы. А потом приставка «анти» куда-то отвалилась. Так что были погромы. Еврейские. Вооруженные до зубов еврейские погромщики, часто в униформе, хладнокровно расстреливали… Или специально учиняли беспорядки, провоцировали русское население… Михаил Мандельштам, — цитирует Д. Е. Галковский, — изгаляется в своих послереволюционных мемуарах: «Кишиневский погром показал евреям, что на государство они рассчитывать не могут… и в следующем по очереди, гомельском, погроме (29 августа 1903 года. — В.К.) мы уже встречаемся с правильно организованной еврейской самообороной… Погром начали вышедшие из железнодорожных мастерских рабочие… на место действия прибежала еврейская самооборона. Ее выстрелами толпа погромщиков была рассеяна». То есть, — резюмирует Д. Е. Галковский, — это не что иное, как «расстрел безоружных рабочих»…» (примечание № 538). Со многим в этих суждениях нельзя согласиться, ибо вопрос о «пределах необходимой самообороны» исключительно сложен. Но представление о погромах — или хотя бы их части — не только как об «односторонних» нападениях, но о нападениях, которые в какой-то момент превращались нередко в «двустороннюю» схватку, в сражение, где к тому же побеждала другая сторона, без сомнения, верно. Этим и объясняется тот факт, что во время октябрьских погромов 1905 года людей других национальностей погибло и было ранено значительно больше, чем евреев. Но здесь же следует искать и разгадку самого этого невиданного размаха и накала октябрьских погромов, так удивлявших В. П. Обнинского, задававшегося вопросом об их «организаторах». Прежде всего следует обратить внимание на опять-таки загадочный факт: Д. С. Пасманик, собравший сведения о 600 октябрьских погромах, указал и все 660 мест, где они происходили. И нетрудно заметить (хотя это до сих пор не было сделано), что 545 из этих мест расположены на сравнительно небольших территориях, прилегающих к Киеву и Одессе. На этих территориях жило менее 20 процентов еврейского населения Российской империи, а между тем именно здесь в октябре 1905 года произошло более 80 (!) процентов всех погромов, и именно на этих территориях совершилось подавляющее большинство убийств. Кстати, и сам Д. С. Пасманик, как было отмечено, обратил внимание на ни с чем не сравнимое обилие погромов в указанных регионах, но не дал этому какого-либо объяснения. В книге С. А. Степанова собраны сведения о том, что как раз в Киеве и Одессе, а также в окрестных городах и селениях имели место особо сильные и решительные действия еврейской «самообороны» (хотя сам автор книги, так же как и Пасманик, не сделал из этого каких-либо выводов). Он сообщает, например, что в Киеве «сыновья Л. И. Бродского (известный сахарозаводчик-миллионер. — В.К.) застрелили из винтовок двух и ранили трех нападающих (в том числе по ошибке убили помощника пристава, охранявшего дом)», причем «власти ограничились легким порицанием» (с. 60). Зная об этом, уже не удивляешься цифрам, представленным в сборнике материалов о погромах, изданном С. М. Дубновым и Г. Я. Красным-Адмони: в октябре 1905 года в Киеве «во время погрома убиты были 47 человек, в том числе 25 % евреев», то есть 12 человек (с. 293; лиц других национальностей, следовательно, 35 человек). В городе Стародубе (между Киевом и Брянском), как сообщает С. А. Степанов, «явилась еврейская организация самообороны, состоящая из 150 человек молодых евреев, и револьверными выстрелами разогнала толпу громил» (с. 65); слово «разогнала» (часто еще говорилось «рассеяла») — это, конечно же, не очень точное «определение», это скорее эвфемизм, ибо пули ведь отнюдь не только «разгоняют»… Были и превентивные меры «самообороны»: «В черносотенные шествия в Одессе были брошены три бомбы. Охранка установила личность одного из покушавшихся… Им оказался анархист Яков Брейтман» (с. 54). Из этого ясно, что в резких суждениях Д. Е. Галковского есть своя правота. Он пишет, в частности: «…с одной стороны винтовки, а с другой — кулаки, с одной стороны сознательно организованная провокация, с другой — стихийная вспышка». А С. А. Степанов сообщает, что «11 мая 1905 года (то есть еще за полгода до погромов. — В.К.) в Нежине, уездном городе Черниговской губернии (в 120 км от Киева. — В.К.), были задержаны Янкель Брук, Израиль Тарнопольский и Пинхус Кругерский, которые разбрасывали воззвания на русском языке: «Народ! Спасайте Россию, себя, бейте жидов, а то они сделают вас своими рабами». Одновременно с этим в Чернигове сионисты-социалисты распространяли воззвания на еврейском языке, призывавшие «израильтян» вооружаться. В октябре 1905 года они шли на демонстрациях под знаменами с надписями «Наша взяла», «Сион»…» (с. 58). Как уже сказано, более 80 процентов октябрьских погромов 1905 года произошло «вокруг» Киева и Одессы, где, очевидно, были сильные центры еврейского сопротивления (а подчас, как выясняется, и превентивного действия). Сопротивление, в свою очередь, порождало ответные вспышки. Отсюда и удивляющее обилие погромных «очагов» в этих регионах. Свою роль, без сомнения, сыграли и те провокации, о коих сообщает С. А. Степанов. Не буду гадать о целях, которые преследовали эти провокации, но уже сами по себе они свидетельствуют, что проблема погромов более сложна и многозначна, нежели обычно полагают: мол, страшные громилы набрасываются на совершенно беспомощные и как бы не ожидавшие ничего подобного жертвы. Все вышеизложенное отнюдь не означает, разумеется, что «виноваты» были одни евреи. А. И. Дубровин справедливо назвал погромы «преступлением русского народа» (пусть оно и несовместимо по своим масштабам и жестокости с теми аналогичными преступлениями народов Западной Европы, о коих говорилось выше). И речь идет не о перекладывании вины на евреев, но лишь о том, чтобы выработать объективное представление о погромах в России и, в частности, показать, как использование евреями современного боевого оружия превращало погромы (в собственном смысле этого слова) в сражения, приводившие к сотням жертв. Вместе с тем совершенно ясно, что урон, понесенный евреями в России, был несоизмеримо меньшим, чем урон, выпавший на их долю в аналогичных ситуациях в странах Запада. Возможно, это объясняется самим национальным характером восточных славян (Д. С. Пасманик упомянул, что те же самые крестьяне, которые грабили евреев, спасали их при угрозе убийства). В связи с этим целесообразно сказать еще о ложности широко пропагандируемого представления, что погромы привели к повальной эмиграции, к бегству евреев из России (как когда-то с Запада), главным образом в США. С первого взгляда может показаться, что это действительно так: ведь в 1880–1890-х годах из России выехали (по подсчетам ЕЭ) примерно 550 тысяч евреев, а в 1900–1913-х — около 860 тысяч (то есть эмиграция возрастала). Естественно возникает соблазн видеть в этом повторение того, что произошло в конце Средневековья с евреями Западной Европы, перед которыми стояла дилемма: либо быть уничтоженными, либо бежать в Восточную Европу. Но едва ли такое сравнение сколько-нибудь уместно. Во-первых, несмотря на громадность эмиграции, еврейское население Российской империи продолжало расти. Как показано в ЕЭ, эмигрировали в 1880–1913 годах в среднем 50 тысяч человек в год (то есть приблизительно 1 процент еврейского населения), и все же (цитирую) «эмиграция, однако, не в силах поглотить весь годичный прирост населения (еврейского. — В.К.), исчисляемый примерно в 1,5–2 %», то есть рождаемость обеспечивала прирост на 75–100 тысяч человек в год (в полтора-два раза больше эмиграционного «убытка»!) (т. 16, с. 265). И если в 1897 году в империи было 5 млн. 60 тыс. евреев, то в 1917-м — 7 млн. 250 тыс. (Народы России. Энциклопедия. М., 1994, с. 25). Во-вторых, — и это наиболее важно — эмиграция в своей основе явно была вызвана не погромами, а совсем иными причинами. Это неоспоримо доказано специалистом в данной области К. Форнбергом (И. X. Розенбергом). Он родился в 1871 году в России, а с 1903 года жил в США, продолжая тесно сотрудничать с еврейскими учеными России. Опираясь на знание ситуации и в США, и в России, он подготовил скрупулезное исследование о еврейской эмиграции, в котором доказал, что нельзя «объяснить эту эмиграцию исключительно или даже главным образом политическими причинами» (ЕЭ, т. 2, с. 239). Правда, если исходить из содержания его исследования в целом, станет ясно, что даже и эта формулировка неточна и вызвана давлением пропагандистской версии о бегстве евреев из «погромной» России; «политическими причинами» нельзя объяснить эмиграцию евреев из России не только «главным образом», но нельзя вообще. Ибо ведь К. Форнберг убедительно доказал (в том числе с помощью наглядных схем-диаграмм), что в конце XIX — начале XX века рост эмиграции евреев из России в США целиком и полностью соответствовал росту их тогдашней эмиграции в США вообще (то есть из любой страны) и, более того, росту всей европейской (а не только европейских евреев) эмиграции в США (так, в 1880–1890-х гг. в США эмигрировали в целом 8,5 млн. человек и в том числе 550 тыс. российских евреев, а в 1900–1913 гг. — 13 млн. человек и в том числе 860 тыс. российских евреев: таким образом, рост эмиграции в целом и еврейской — почти одинаковы: на 53 % и на 56 %). Но дело не только в этом. К. Форнберг показал, что «еврейская эмигрирующая масса почти целиком состоит из бедняков» (т. 2, с. 244). И особенно выразительны такие данные: в Российской империи торговцы составляли 38,6 процента еврейского населения; между тем в числе эмигрантов в США торговцев было всего-навсего 0,9 процента! 88,2 процента эмигрантов составляли мелкие еврейские ремесленники и люди, находившиеся «в личном и домашнем услужении»; а между тем в составе уже «натурализовавшегося» еврейского населения США торговцев было 29,3 процента. Это означает, что многие прибывшие в США ремесленники и прислуга добивались здесь своих целей (т. 2, с. 244). Хорошо известно, что именно торговцы были первыми и главными жертвами погромов; более всего громились магазины, шинки и лавки. Но, оказывается, как раз торговцы-то, в сущности, вообще не эмигрировали из России (менее одного процента эмигрантов…). Все это не значит, что погромы вообще не влияли на тех или иных отдельных эмигрантов; однако К. Форнерг убедительно доказал, что массовая эмиграция евреев из России в США вызывалась все же другими причинами — прежде всего специфическими «возможностями», присущими тогдашней экономической ситуации в США, где «шанс» разбогатеть был намного более вероятным, нежели в России. * * *Итак, погромы, имевшие место в Российской империи, невозможно, немыслимо сопоставлять с «катастрофами», пережитыми в свое время евреями Западной Европы, когда вопрос стоял категорически — либо бегство, либо гибель — и когда, по сведениям ЕЭ, погибли 380 000 человек, 40 процентов тогдашнего мирового еврейства. В России же погибли менее 1000 человек; но и это явно было обусловлено схватками погромщиков с еврейской «самообороной», схватками, в которых погибло больше погромщиков, нежели евреев (кстати, никаких сведений о сопротивлении евреев во время их западноевропейской катастрофы нет; по-видимому, оно было абсолютно невозможно). Достаточно часто погромы в России «сопоставляют» с другой, позднейшей катастрофой, пережитой евреями Европы в период господства германского нацизма. Это, прямо скажем, наглейшее сопоставление несопоставимого; ведь в 1940-х годах погибло — как утверждают — от 4 до 6 миллионов евреев (то есть от 40 до 60 процентов еврейского населения Европы) и «ставилась задача» их полного уничтожения. Между тем в российских погромах, нередко превращавшихся, как мы видели, в сражения, погибло менее одной тысячи евреев (то есть 0,0002 процента евреев России) и примерно столько же людей других национальностей. И все же это сопоставление стало излюбленным занятием многих профессиональных русофобов… Один из наиболее влиятельных из них — живущий в США Уолтер Лакер — считает почему-то нужным присылать мне свои сочинения. В одном из них он пишет, что-де «Kozhinov one of the most eloquent and erudite spokesmen of Russian party»{17}; однако у меня нет никаких оснований вернуть ему комплимент — пусть даже и с указанием на его принадлежность к «Anty-Russian party». В 1991 году Лакер издал объемистую книгу «Россия и Германия. Наставники Гитлера», где пытается «доказать», что Союз русского народа будто бы ставил перед собой задачу физического уничтожения еврейского народа, «предвосхитив» тем самым германский нацизм. «Доказательства», которые пускает в ход Лакер, представляют собой беззастенчивую фальсификацию. Так, он ссылается на произнесенную в апреле 1911 года речь «черносотенного» депутата Государственной Думы Н. Е. Маркова, утверждая, что-де (цитирую) «как Марков считал, все евреи «до последнего» должны быть перебиты в предстоящих погромах. Союз (русского народа. — В.К.) внес свою лепту в воплощение этой идеи в жизнь, организуя жестокие погромы»{18}. Лакер явно надеялся, что никто не будет проверять его «информацию» по стенограммам думских заседаний. Вот что сказал тогда Н. Е. Марков, обращаясь к депутатам, постоянно и нередко яростно отстаивавшим интересы евреев: «В тот день, когда при вашем соучастии, господа левые, русский народ убедится окончательно в том, что… уже нет возможности обличить на суде иудея… в тот день, господа, будут еврейские погромы. Но не я накличу эти погромы и не Союз русского народа; вы создадите погром, и этот погром не будет таким, какие бывали до сих пор, это не будет погром жидовских перин, а всех жидов начисто до последнего перебьют»{19}. «Излагая» речь Маркова, Лакер употребил давно опробованный прием фальсификации. Начиная с 1917 года постоянно утверждалось, например, что знаменитый предприниматель П. П. Рябушинский призывал своих единомышленников придушить русский народ «костлявой рукой голода». Между тем Павел Павлович сказал 3 августа 1917 года на торгово-промышленном съезде следующее: «К сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились»{20}. Итак, и в том, и в другом случае речь шла о чреватой тяжелейшими последствиями политике левых сил, но оба высказывания были лживо перетолкованы как призывы к злодейским акциям правых. Однако главная ложь Лакера даже не в этом: он пытается внушить, что после речи Маркова Союз русского народа «организовал жестокие погромы», хотя не может не знать, что никаких погромов в то время не было! И все это — ради мифа или, точнее, блефа о том, что «черносотенцы» были-де «наставниками Гитлера». >Глава 5 Истинная причина травли «черносотенцев» Уже после того как предыдущая глава («Правда о погромах») была опубликована, я познакомился с содержательным обзором изданной в 1992 году Кембриджским университетом пространной (почти 400 страниц) книги, посвященной именно погромам в России; этот коллективный и международный по составу авторов научный труд озаглавлен так: «Погромы: противоеврейское насилие в новейшей русской истории»{1}. И я, признаюсь, с глубоким удовлетворением воспринял тот факт, что основные выводы авторов этого новейшего труда во многом совпадают с выводами, предложенными мною в главе «Правда о погромах». В труде, о котором пойдет речь, весьма критически оценено большинство предшествующих сочинений о погромах в России. Как говорится в обзоре, «в устоявшейся десятилетиями историографии этого вопроса (вопроса о погромах. — В.К.) безраздельно господствовало мнение… что погромы — результат прямого вмешательства царского правительства или по крайней мере созданных им организаций типа… «Союза русского народа»…»{2}. Авторы труда, по сути дела, отвергают это «мнение». Так, историк из Израиля Михаэль Аронсон доказывает, что как раз напротив, «погромы явились неожиданными» и для правительства России, и для «черносотенцев». Вполне понятно, что ни о каком «руководстве» не может быть и речи, если погромы, по словам Аронсона, явились неожиданностью и для царя и его министров, «посчитавших погромы делом рук анархистов… и даже для редакторов антисемитских газет (о понятии «антисемитизм» еще пойдет речь. — В.К.)»{3}. Я писал в главе «Правда о погромах», что погромы в России начались в силу экономической ситуации, создавшейся через два десятилетия после реформы 1861 года. М. Аронсон говорит то же самое; по его определению, причина погромов — «ускоренная модернизация и индустриализация, проходившая в России между 1860 и 1880 гг.» (там же). Правда, много лет активно пропагандируемое «мнение» не преодолено в рассматриваемом труде до конца. Так, один из авторов труда, Роберт Вайнберг, всерьез воспринимает прозвучавший в 1906 году в зале Государственной думы из уст либеральничавшего князя С. Д. Урусова анекдот, согласно которому полицейский ротмистр Комиссаров заверял: «Погром можно устроить какой угодно, хотите — на десять человек, хотите — на 10 тысяч». Особенно забавно, что на той же странице обзора совершенно верно утверждается (как и в моей главе «Правда о погромах»): «Правительство страшилось любого народного насилия, включая погромы, видя в них угрозу существующему порядку» (там же). И, конечно же, офицер полиции, действительно предлагавший «устроить погром», был бы по меньшей мере уволен со службы. Но, несмотря на «отрыжки» прежнего долго господствовавшего «мнения», общий итог труда формулируется так: «И все же скорее не правы «историки-традиционалисты» (Дубнов, Гринберг, Моцкин), писавшие о «погромной политике царизма»…» (с. 233–234). Как видим, в этом выводе есть смягчающие «оговорки» («все же», «скорее»), но нельзя не учитывать, что потребовалась, если угодно, своего рода смелость для опубликования такого вывода, ибо несогласие с «мнением» о якобы имевшей место «погромной политике царизма» еще и сегодня вполне может быть квалифицировано как «махровый антисемитизм»! Ведь об этой «политике» в течение нескольких десятилетий постоянно и категорически писали многие авторитетные в еврейских кругах историки. В цитируемом обзоре совершенно верно сказано, что «мнение» о руководящей роли «царского правительства» и Союза русского народа в погромах «безраздельно господствовало», а шло оно, это мнение (цитирую) «от статей революционных публицистов-современников, а также Нестора русско-еврейской историографии — С. Дубнова и вплоть до маститого недавно скончавшегося израильского историка Ш. Эттингера» (с. 232). Здесь я не могу не высказать определенные полемические соображения. Если верить приведенной цитате, до появления нынешнего труда все еврейские и либеральные авторы, писавшие о погромах в России, возлагали вину за них на правительство и Союз русского народа. Не знаю, как это получилось, но в данном случае выявляется недостаточная историографическая осведомленность авторов труда. В моей главе «Правда о погромах» цитировались работы и наиболее серьезных «революционных публицистов-современников» — В. Обнинского и В. Левицкого, и видных еврейских ученых начала века — Д. С. Пасманика и Ю. И. Гессена, которые отнюдь не разделяли «мнение» об организации погромов правительством и Союзом русского народа. Авторы нынешнего труда, в сущности, возвращаются к этой объективной точке зрения, отказываясь от версии, которая стала «безраздельно господствовать» позднее, после 1917 года. И еще одно частное полемическое замечание. В вошедшей в труд статье исследователя из США Александра Орбаха «Развитие российской еврейской общины в 1881–1903 гг.» речь идет о долгой подготовке решительного еврейского сопротивления погромам. Так, А. Орбах утверждает, что «немедленные ответы на Кишинев, активная самооборона… были… плодами более чем двадцатилетних усилий» (с. 235). Под «немедленными ответами» на погром в Кишиневе, разразившийся в апреле 1903 года, имеются в виду прежде всего активнейшие действия хорошо вооруженного еврейского отряда в Гомеле в августе того же года. Тема боевого сопротивления погромам весьма важна, ибо, как показано в моей предыдущей главе, именно здесь кроется причина сотен человеческих жертв в погромах начала XX века, которые нередко из погромов в истинном смысле этого слова превращались в сражения. Следовало бы только сказать (и в этом мое замечание), что вооруженное сопротивление евреев имело место и в Кишиневе, но оно было плохо организовано, и потому евреев погибло намного больше, чем разъяренных их выстрелами невооруженных погромщиков. А всего через четыре месяца в Гомеле дело обстояло уже обратным образом: убитых и раненых погромщиков было больше, чем евреев. Говоря о новейшем труде еврейских историков, нельзя не упомянуть о «русоведе» Уолтере Лакере, чьи нелепые россказни рассматривались в предыдущей главе. Едва ли стоит сомневаться в том, что и после выхода в свет этого труда Лакер и ему подобные по-прежнему будут распространять свои абсолютно лживые рассуждения и о «погромной политике царизма», и о якобы прямом предшественнике нацизма — Союзе русского народа, который-де ставил своей задачей в «организуемых» им (по словам Лакера) «жестоких погромах» уничтожить шесть с лишним миллионов евреев, живших в тогдашней России. После издания кембриджского труда особенно неприглядной становится фигура этого враля, облеченного тем не менее почетными научными титулами и должностями. Естественно возникает вопрос: как воспринимают его писания объективные историки, хотя бы те, которые приняли участие в кембриджском труде? Мне хорошо известно, что идеологический тоталитаризм в США, хотя он во многих отношениях совсем не похож на тоталитаризм коммунистического образца, имеет огромную силу и влияние, и никакое даже самое авторитетное сообщество ученых не способно ему противостоять. И все же хочется надеяться, что профессиональные лжецы в обличье историков когда-нибудь получат в США прямой отпор объективных исследователей. * * *Итак, обвинение «черносотенцев» в организации противоеврейских погромов — чистейшей воды блеф, что признают сегодня, как мы видели, и еврейские историки, стремящиеся к действительному изучению проблемы. И вот тут мы впрямую сталкиваемся с исторической «загадкой»: почему и зачем «черносотенцев» превратили в нечто чудовищное, в каких-то прямо-таки титанических злодеев, которые, по уже цитированному определению «Малой советской энциклопедии» 1931 года, «залили страну морем крови»? Ведь ничего подобного не было и в помине, и если уж говорить о «крови», то во время наибольшего подъема «черносотенного» движения ее беспощадно лили как раз всякого рода красносотенцы, которые, по убедительным подсчетам историка из тех же США Анны Гейфман, убили в 1900-х годах около 17 тысяч человек{4} («черносотенцам» же приписывают, как было показано выше, максимум три убийства). Конечно, 17 тысяч — незначительное количество в сравнении с убитыми после 1917 года, но все же нельзя не задуматься о поистине диком несоответствии: красносотенцы убивают тысячи и тысячи людей, а в общественное сознание вбивается заведомая ложь о «море крови», пролитом «черносотенцами»… Итак, ради чего же всячески клеветали на «черносотенцев», превращая их в как бы ни с чем не сравнимых чудовищ? Из изложенных в этой моей книге (в ее целом) фактов естественно вытекает вывод: «вина» Союза русского народа и «черносотенцев» вообще заключалась не в каких-либо действиях (ибо если не все, то абсолютное большинство их «акций» выдумано их противниками), но в словах, — в том, что они писали и говорили. Выше не раз цитировалась, например, более или менее объективная работа В. Левицкого «Правые партии» (1914), где обвинения в адрес «черносотенцев» целиком и полностью относятся к произнесенным ими речам и опубликованным ими статьям. Да, «вина» этих чудовищных «черносотенцев» состояла, по сути дела, в том, что они говорили (как впоследствии стало вполне очевидно) правду о безудержно движущейся к катастрофе России — правду, которую никак не хотели слышать либералы и революционеры. Видный «черносотенный» деятель П. Ф. Булацель обращался в 1916 году к либеральным депутатам Думы: «Вы с думской кафедры призываете безнаказанно к революции, но вы не предвидите, что ужасы Французской революции побледнеют перед ужасами той революции, которую вы хотите создать в России. Вы готовите могилу не только «старому режиму», но бессознательно вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан. Вы создадите такие погромы, такие варфоломеевские ночи, от которых содрогнутся даже «одержимые революционной манией» демагоги бунта, социал-демократии и трудовиков!»{5} Можно издать несколько томов, состоящих из таких провидческих высказываний «черносотенцев». Но либералы (не говоря уже о революционерах) с пеной у рта оспаривали эти точные прогнозы или просто высмеивали их. Вместе с тем речи и статьи «черносотенцев» представлялись им очень опасными для их целей; они полагали (и, кстати, как будет показано ниже, совершенно напрасно), что «черносотенцы» способны убедить широкие слои народа в необходимости сопротивляться «прогрессу»; при этом, как уже говорилось, «черносотенцы» относились к «прогрессу» гораздо более непримиримо, чем российские власти. Именно поэтому на «черносотенцев» и обрушивался непрерывный град всяческих «разоблачений», именно потому их стремились всеми возможными способами дискредитировать и шельмовать. Разумеется, «черносотенные» идеологи в своей борьбе против Революции проявляли нередко крайнюю резкость, и, конечно, далеко не каждое их утверждение было справедливо и точно. Но, во-первых, они вели все же именно идеологическую борьбу, их оружием было слово, а во-вторых, в основе своей их понимание сути Революции и предвидение ее катастрофических последствий были все же совершенно правдивыми и удивительно прозорливыми. Говоря об этом, не могу не коснуться вопроса, который поставил в своем письме один из моих читателей. Он выразил недоумение по поводу того, что, несмотря на совершенно очевидную ныне правоту «черносотенцев», вполне ясно предвидевших, к чему приведет страну Революция, последняя все же победила. Позволю себе сказать, что читатель этот недостаточно внимателен. Мне представляется, что в главе «Что такое Революция?» я достаточно определенно и доказательно писал о безусловной неизбежности победы Революции. Речь шла там об исключительно, невероятно мощном и стремительном развитии, росте России с 1890-х годов — том заведомо чрезмерном росте, который и не мог иметь иного итога, только революционный взрыв. К уничтожению существующего порядка самым активным образом стремились обладавшие громадными капиталами предприниматели, способная мощно воздействовать на умы и души интеллигенция и могущий выставить организованные человеческие массы рабочий класс. Разумеется, цели и интересы этих сил были нередко глубоко различны, но их объединяла уверенность в том, что для осуществления их постоянно растущих вожделений необходимо разрушить или хотя бы коренным образом изменить сложившийся за века строй бытия России. Впрочем, не буду повторяться и просто отошлю недоумевающих к указанной главе этого моего сочинения. Рассмотрю только одну очень выразительную историческую ситуацию. С апреля 1906 года по февраль 1917 года в России имело место двоевластие — власть правительства во главе с царем и, с другой стороны, власть — правда, это была в большей мере власть над общественным сознанием, чем практическая, — Государственной думы. Вначале Дума выступала как почти открыто революционная сила, затем правительство предприняло различные меры для того, чтобы в состав каждой новой Думы (их было четыре) попало как можно меньше «левых» депутатов. Но вот что в высшей степени показательно: в конечном счете каждая Дума оказывалась все же в оппозиции к правительству — притом, по мере течения времени, нараставшей оппозиции. При этом необходимо учитывать реальный механизм формирования правительства и Думы. Первое создавалось — при всех возможных оговорках — как бы из самого себя, по воле царя и немногих ближайших к нему лиц. Думу же — опять-таки при любых оговорках — создавала все же страна в целом — те волости, уезды, города, губернии, которые, несмотря на вводимые правительством ограничения, в той или иной степени проявляли свою волю при выборах депутатов. И постоянно возникавшее и нараставшее стремление Думы «свалить» правительство в конечном счете выражало волю страны или, точнее, ее наиболее активных сил. Эта ситуация приобретает особенную ясность при сопоставлении с нынешним соотношением правительства и Думы (ранее — Верховного Совета). Нередко те или иные современные публицисты предпринимают такое сопоставление, но, как правило, почему-то не замечают противоположности тогдашнего (перед 1917 годом) и теперешнего соотношения позиций двух властей. Нынешняя Дума (ранее Верховный Совет) все-таки — при любых возможных оговорках — тоже создавалась страной, а правительство, если говорить начистоту, несколькими десятками людей в Москве, которые и «выбирали» остальных правительственных лиц, пусть даже иногда из самой «глубинки». Но вместе с тем ясно, что дореволюционная Дума была в основе своей «прогрессивна», а сегодняшняя — за исключением отдельных «фракций» — «консервативна». Но это ведь означает, что и страна ныне (в отличие от ее устремлений в начале XX века) «консервативна», что она против того «прогресса» (в действительности, конечно, совершенно мнимого), который, скажем, уже поставил экономику «на уровень краха» (по выражению самого тов. Ельцина, полагающего, вероятно, что его слова нужно воспринять не как порожденное неожиданным испугом саморазоблачение, а как некую констатацию положения, созданного неизвестно кем). В дальнейшем я специально обращусь к сопоставлению двух исторических ситуаций — перед 1917 годом и нынешней. Пока скажу только, что вопреки многим поверхностным и невежественным (хотя и всячески рекламируемым) сегодняшним идеологам, твердящим о какой-то близости или даже родстве этих ситуаций, они в действительности прямо противоположны по самой своей сути. И это, в частности, с очевидностью обнаруживается в прямой противоположности соотношения между «программами» правительства и, с другой стороны, Думы (и страны) перед 1917 годом и сегодня. Перед 1917 годом у «черносотенцев» не было ровно никаких «шансов» на победу. И, как уже отмечено, опасения и подчас даже откровенный страх либералов перед угрозой мощного «черносотенного» отпора были совершенно беспочвенными. В этих опасениях лишний раз выражалась недальновидность либеральных идеологов, их неспособность понять реальный ход истории. В отличие от них, многие «черносотенные» идеологи уже с конца 1900-х годов более или менее ясно сознавали свою обреченность на поражение, что совершенно открыто высказано в их личных дневниках и письмах (в менее прямой форме это сознание проступало в их статьях), — например, в недавно опубликованных шестидесяти письмах, о которых я уже говорил выше{6}. Достаточно внимательно прочитать эти письма, чтобы убедиться: целый ряд их авторов шел по своему пути, вовсе не рассчитывая на победу. Их заставляло говорить и писать чувство патриотического долга и, во-вторых, вера в то, что в конечном счете — может быть, уже не при них, а при их потомках — Россия преодолеет катаклизм, через который ей неизбежно предстоит пройти… Глубокое понимание своей обреченности, присущее многим «черносотенцам», раскрыто на основе архивных материалов в изданном в 1990 году очередном обстоятельном исследовании Ю. Б. Соловьева «Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг.» (ранее вышли его книги, посвященные изучению соотношения тех же сил в конце XIX века и в 1902–1907 годах). Правда, Ю. Б. Соловьев в этом своем рассказе не избежал соблазна всячески раздуть распри и интриги в среде «черносотенцев» — как будто таких явлений не было во всех других тогдашних партиях — от октябристов (чего стоит, например, история одного из главных октябристских лидеров — А. Д. Протопопова!) до большевиков. И ведь в конце концов именно сознание безнадежности борьбы обостряло отношения между самими «черносотенцами» и подчас толкало их к различным авантюрам. Но так или иначе историк впечатляюще показал, что, полностью осознавая неизбежность поражения, видные «черносотенные» идеологи Л. А. Тихомиров, А. А. Киреев, Б. В. Никольский, А. Б. Нейдгардт (брат супруги П. А. Столыпина), К. Н. Пасхалов все же продолжали идти избранной ими дорогой, являя собой, в сущности, своего рода донкихотов; Ю. Б. Соловьев, понятно, не употребляет это определение, но некоторые либералы, до 1917 года проклинавшие «черносотенцев», позднее, уже в эмиграции, называли их именно донкихотами{7}. Могут возразить, что это определение, как правило, несет в себе иронический смысл, однако ведь «черносотенцы», в отличие от «типичных» донкихотов, знали о своей грядущей судьбе! И стоит еще раз повторить, что даже и в этом ясном предвидении поражения выразилось превосходство «черносотенцев» над либералами, страшившимися победы своих непримиримых противников и постоянно занимавшимися их «разоблачением» и дискредитацией. Но самое примечательное и вместе с тем загадочное состоит в том, что и после победы Революции, когда «черносотенцы» оказались в полном смысле слова объявленными «вне закона» и их без всяких «формальностей» расстреливали, продолжалась — и продолжается до сих пор! — оголтелая атака на них, в ходе которой вдалбливается в умы представление, согласно которому «черносотенцы» были опаснейшими и сильнейшими злодеями, залившими — или, по крайней мере, пытавшимися залить — Россию «морем крови». Выше цитировалась, например, статья из «Правды» 1921 года, в которой «русские трудящиеся массы» запугивали уверением, что «черносотенцы» готовятся отправить эти массы «на плаху». При этом имелись в виду всего несколько десятков спасшихся от расстрелов и собравшихся в немецком городке Рейхенгалле «черносотенцев»… Позднее было бы уж совсем нелепо писать о подобной прямой «угрозе», но «черносотенцев» продолжали при каждом подходящем случае проклинать и преподносить как нечто устрашающее. И, как становится вполне очевидным при изучении всех обстоятельств, главной причиной столь долгого — вплоть до наших дней — и неослабевающего натиска на «черносотенцев» являлись не выступления против Революции, но та часть их речей и статей, в которых они обращались к еврейской проблеме. Об этом неопровержимо свидетельствует уже тот факт, что, согласно нынешним представлениям преобладающего, даже, пожалуй, абсолютного большинства людей, «черносотенцы» боролись не против Революции, но именно и только против евреев. Здесь необходимо уяснить, что к моменту начала «черносотенного» движения в силу целого ряда различных обстоятельств и тенденций установилось такое положение, что любое — именно любое — критическое суждение в адрес евреев оценивалось в интеллигентской среде как нечто совершенно недопустимое; те, кто «позволял» себе высказать публично такие суждения, становились поистине отверженными. Об этом правдиво и ярко сказал в 1909 году в письме своему другу, известному тогда литератору Ф. Д. Батюшкову (внучатому племяннику поэта) Александр Куприн. Говоря о негативных сторонах деятельности еврейства, писатель констатировал: «…мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется… И так же, как ты и я, думают — но не смеют сказать об этом — сотни людей» (из числа литераторов). И закончил Куприн свое послание так: «Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого, кроме тебя. Меня просит Рославлев подписаться под каким-то письмом ради Чирикова (русский писатель, которого тогда травила еврейская печать; см. об этом воспоминания Евгения Чирикова в «Нашем современнике», 1991, № 6. — В.К.). Я отказался»{8}. Тем самым Куприн как бы неопровержимо заверил правоту своего диагноза: критически отзываться о евреях невозможно. Кто-либо может предположить, что Куприн все же преувеличивал. Но вот чрезвычайно выразительные суждения по поводу того же «дела Чирикова», опубликованные в том же 1909 году одним из крупнейших еврейских деятелей XX века В. Е. Жаботинским. Он писал, что когда Чириков и Арабажин (критик, его поддержавший) «уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень distingul (благовоспитанным. — франц.) помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона… То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь, но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко почувствовать их может только русский, для которого Вишневый Сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «а не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и само имя «еврей» есть непечатное слово…»{9} Такая, в сущности, абсурдная «ситуация» была создана к началу XX века. Ныне, в конце XX века, это положение поистине доведено до предела во всех так называемых «цивилизованных» странах, исключая разве только Японию, где, впрочем, почти нет евреев. Можно бы привести бесчисленные примеры прямо-таки идиотских случаев обвинения тех или иных людей в «антисемитизме». Сошлюсь только на один. Много лет плодотворно работает русский историк Р. Г. Скрынников, изучающий главным образом явления и события второй половины XVI — начала XVII века. Он, без сомнения, является сегодня наиболее значительным исследователем этого периода истории России. И вот в США в журнале «Russian Review» (Ohio) появляется отклик на работы Р. Г. Скрынникова. Как сообщается в № 2 «Вопросы истории» за 1994 год, адъюнкт-профессор Техасского университета Честер Даннинг, характеризуя одну из книг историка, «отмечает наличие полезных фактических уточнений, но в целом считает ее малооригинальной… Даннинга шокируют места в книге, звучащие антисемитски» (с. 189; нет сомнения, что вторая фраза «объясняет» низкую оценку вполне заслуживающей одобрения книги). «Антисемитскими» являются в глазах рецензента следующие «места» в книге Р. Г. Скрынникова «Смута в России в начале XVII в.» (Л., 1988, с. 201–202), посвященные самозванцу Лжедмитрию II («тушинскому вору»), претендовавшему на русский престол в 1607–1610 годах: «Иезуиты произвели собственное дознание о происхождении самозванца и… утверждали, что имя сына Грозного принял некий Богданка, крещеный еврей, служивший писцом при Лжедмитрии I. Иезуиты весьма точно описали жизнь самозванца в Могилеве… После восшествия на престол в 1613 году Михаил Романов официально подтвердил версию о еврейском происхождении «тушинского вора»… Филарет Романов (двоюродный брат последнего царя-Рюриковича — Федора Иоанновича и отец первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. — В.К.) долгое время служил самозванцу в Тушине и знал его очень хорошо, так что Романовы говорили не с чужого голоса. Сохранилась польская гравюра XVII века с изображением самозванца. Польский художник запечатлел лицо человека, обладавшего характерной внешностью. Гравюра подтверждает достоверность версии о происхождении Лжедмитрия II, выдвинутой Романовыми и польскими иезуитами независимо друг от друга. После гибели Лжедмитрия II стали толковать, что в бумагах убитого нашли Талмуд и еврейские письмена. Царя в России называли светочем православия. Смута все перевернула. Лжедмитрий I оказался католиком. «Тушинский вор» (Лжедмитрий II. — В.К.) — тайным иудеем». Р. Г. Скрынников сообщает также, что перед своим «превращением» в сына Ивана Грозного будущий самозванец прислуживал в доме священника в Могилеве… За неблагонравное поведение священник высек его и выгнал из дома… В этот момент его и заприметили ветераны московского похода Лжедмитрия I. Один из них, пан Меховецкий, обратил внимание на то, что голодранец «телосложением похож на покойного царя» (с. 194), то есть Лжедмитрия I, и уговорил его стать самозванцем. Несомненно, есть немалые основания объявить эти сообщения русофобскими. Подумайте только: какое-то ничтожество, к тому же высеченное за «неблагонравное поведение», очень многие русские люди признали царем; ему долго «служил» будущий Патриарх Всея Руси и отец первого Романова Филарет! Впрочем, что поделаешь — это горестная для русских историческая правда Смутного времени, с которой приходится смириться. Но каким образом в изложении почерпнутых из достоверных источников (к тому же независимых друг от друга) биографических сведений об одном жившем почти 400 лет назад еврее усматривают «антисемитизм» — это, в сущности, непонятно. А особенно странно и даже возмутительно, что выходящий в Москве журнал «Вопросы истории», сообщая об инсинуации техасского адъюнкт-профессора, никак не выразил своего отношения к ней и тем самым фактически к ней присоединился… По-видимому, редакция журнала хотела продемонстрировать свою принадлежность к современной «цивилизации», которая напрочь запрещает публиковать какие-либо не могущие вызвать чувства восторга сведения, относящиеся к евреям. Это историографическое отступление достаточно ясно показывает, до каких «крайностей» дошла ныне «борьба с антисемитизмом», широко развернувшаяся в России еще в начале XX века. И вполне очевидно, что главная «вина» всех тогдашних «черносотенцев» состояла именно в том, что они не подчинялись запретам и осуществляли свободу слова в еврейском вопросе. Их постоянно обвиняли в том, что их публичные выступления будто бы вызывали погромы. Но это была безусловная ложь: как показано в предыдущей главе, погромы — за исключением тех, которые в 1906 году имели место в Польше и Латвии, — разразились до того, как вышел первый номер газеты Союза русского народа и прозвучали первые публичные речи его ораторов, а после 1906 года противоеврейских погромов вообще не было. Напомню также, что председатель Союза русского народа в 1906 году печатно определил погромы как «преступление». Таким образом, дело шло именно и только о свободе слова в одной из очень существенных проблем общественной жизни России. И в глазах нынешних «обличителей» главная «вина» всех «черносотенцев» — их несогласие с запретом на любую критику евреев. В настоящее время это понемногу начинают признавать все стремящиеся к сколько-нибудь объективному освещению событий авторы. Так, в издающемся сейчас правительственном (учрежденном в 1992 году Государственной архивной службой Российской Федерации) журнале «Исторический архив» читаем: «20 сентября 1918 года Меньшиков (речь идет о выдающемся «черносотенном» публицисте. — В.К.) был расстрелян на берегу Валдая. Его обвинили в организации монархического заговора и издании подпольной черносотенной газеты, призывающей к свержению Советской власти. На самом деле Меньшикова настигла месть за статьи антисемитского характера»{10}. Стоит отметить, что авторы этого текста, В. Ю. Афиани и М. В. Бельдова, раскрывая истинный смысл жесточайшего послереволюционного террора против «черносотенцев» (на тех же «основаниях», что и М. О. Меньшиков, были тогда расстреляны Б. В. Никольский, А. И. Дубровин, священник И. И. Восторгов и многие другие), вместе с тем в избранной ими формулировке «настигла месть» (речь идет о расстреле за уже давние статьи!), по сути дела, оправдывают палачей, которые к тому же — о чем умалчивают авторы — убили М. О. Меньшикова «на глазах… шестерых малолетних детей…»{11} * * *Как уже говорилось, необходимо разобраться в самом этом слове, этом термине «антисемитизм», который издавна употребляют в качестве почти безотказного оружия. В словарях «антисемитизм» определяется как «вражда», «ненависть», «непримиримое отношение» к евреям, — подразумевается, понятно, к евреям вообще, то есть всем людям, имеющим, так сказать, «несчастье» принадлежать к этой национальности, — совершенно независимо от их воззрений и поступков. Вполне естественно, что антисемитизм в этом действительном значении сего слова неприемлем для преобладающего большинства людей мыслящих, способных подняться над охватившей их в силу каких-либо жизненных обстоятельств чисто эмоциональной настроенностью, — хотя, конечно, были и есть люди, порабощенные такой настроенностью. Были этого рода люди и в орбите «черносотенцев», однако те, кто обвиняет в антисемитизме движение в целом и его основных деятелей, заведомо лгут или в лучшем случае заблуждаются. Это становится ясно хотя бы из следующего достаточно знаменательного факта. В своем уже не раз упомянутом обстоятельном обзоре событий 1905–1908 годов левый кадет В. П. Обнинский писал, как в разгар революционных событий влиятельный «черносотенец», богатый рыботорговец И. И. Баранов произнес речь, в которой «уверял, между прочим, что «евреи в члены Союза (русского народа. — В.К.) безусловно не принимаются, хотя бы и исповедовали православную веру»…» Приведя это высказывание, В. П. Обнинский счел нужным тут же опровергнуть это «уверение» и сообщить, что «оба органа печати, обслуживавшие Союз — «Московские ведомости» и «Россия», — руководились в то время лицами еврейского происхождения» (!){12}. Нельзя исключить, что «непросвещенный» купец Баранов был антисемитом в точном, собственном смысле слова. А поскольку он финансировал «черносотенные» организации и даже назывался «казначеем», он мог себе позволить высказывать свое «особое» мнение; по некоторым сведениям, выдвинутое им «требование» даже было введено в один «черносотенный» документ. Но тем не менее факт остается фактом: евреи, о которых писал Обнинский, играли исключительно существенную роль в «черносотенном» движении. Через 80 лет после Обнинского о них писал уже известный нам советский историк А. Я. Аврех. Процитировав опубликованную редактором газеты «Россия» И. Я. Гурляндом статью, которая в глазах этого историка имела заведомо антисемитский характер (о ней еще пойдет речь), А. Я. Аврех с не совсем ясной целью добавил: «Комментарии, как говорится, излишни, но стоит сказать, что Гурлянд был евреем, как и знаменитый Грингмут — первый основатель первого «Союза русского народа» (правда, под другим названием)»{13}. О В. А. Грингмуте уже говорилось в предыдущих главах; все же будет уместно напомнить, что он действительно был основоположником и главой первой по времени политической «черносотенной» организации — Русской монархической партии (впоследствии она почти целиком влилась в Союз русского народа) и редактором наиболее основательной «черносотенной» газеты «Московские ведомости». Его литературная деятельность была весьма значительной, и составители современного биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» сочли необходимым посвятить ему солидную статью. Правда, принципиально объективный тон, присущий в целом этому словарю, в статье о В. А. Грингмуте (как и о других «черносотенных» литераторах) не выдержан; говорится, например, что «имя Грингмута стало нарицательным, обозначая рьяного черносотенца, погромщика (!) и обскуранта». К тому же составители предпочли «завуалировать» национальную принадлежность В. А. Грингмута, назвав его «выходцем из Германии»{14}. Роль В. А. Грингмута в «черносотенном» движении невозможно переоценить. Его неожиданная смерть в конце 1907 года (ему было всего 56 лет) нанесла непоправимый ущерб движению. Тот же А. Я. Аврех сообщал, что даже много позднее, «8 апреля 1915 года один из руководителей черносотенного движения С. А. Кельцев писал: «Первоначально в Союзе (имелся в виду Московский Союз русского народа. — В.К.) насчитывались тысячи членов и масса сочувствующих, всегда готовых примкнуть к Союзу». Но, «к сожалению», преждевременная смерть «основателя и вдохновителя Союза» В. А. Грингмута привела к тому, что «отделы Союза… заглохли и большинство из них фактически прекратило даже свое существование»{15}. Ранее, в 1909 году, В. М. Васнецов с горечью поминал его: «…незабвенный и честный Грингмут!»{16} В том же году московские «черносотенцы» издали сборник статей под названием «Богатырь мысли и дела. Памяти В. А. Грингмута». Очень важное значение имела для «черносотенцев» и деятельность И. Я. Гурлянда. Он родился в 1868 году в Бердичеве в весьма известной еврейской семье: отец его был главным раввином Полтавской губернии, дядя (брат отца) — видным историком еврейской культуры и раввином Одессы. Отец, который позднее занялся юриспруденцией, удостоился звания почетного гражданина. И. Я. Гурлянд получил превосходное образование, окончив знаменитый Демидовский юридический лицей в Ярославле. В тридцать два года он уже был профессором этого лицея и издал ряд ценных работ по истории права; на некоторые из них историки ссылаются и в наше время. Кроме того, он опубликовал несколько незаурядных произведений художественной прозы и удостоился одобрения самого Чехова. В 1904 году И. Я. Гурлянд перешел на государственную службу и с 1906-го стал одним из главных соратников П. А. Столыпина, о чем говорится в любом исследовании, посвященном этому великому государственному деятелю. В 1992 году появилась первая статья о Гурлянде — А. В. Чанцева в уже упомянутом биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917», а затем, в 1993-м, — более пространный очерк А. Лихоманова в «Вестнике Еврейского университета в Москве». Очерк этот, впрочем, проникнут духом «разоблачения»: И. Я. Гурлянд без каких-либо доказательств характеризуется здесь как «снедаемый огромным честолюбием человек»{17}, именно поэтому-де и ставший непримиримым и опасным врагом своих одноплеменников-евреев. Как нечто совершенно недопустимое преподносится в этом биографическом очерке тот факт, что «завязывается дружба И. Я. Гурлянда с В. М. Пуришкевичем… Лидер «Союза Михаила Архангела» поддерживает с Ильей Яковлевичем переписку, они дружат семьями» (с. 150). Сразу же после прихода к власти в 1917 году Временного правительства началось систематическое преследование всех имевших отношение к «черносотенству». Как сказано в биографическом очерке А. Лихоманова, «Гурлянда допросить не удалось. Бросив семью, не успев уничтожить компрометирующие его документы, он бежал за границу в первые дни после Февральской революции… у него были весьма веские основания срочно покинуть страну после революции, и его позиция по еврейскому вопросу сыграла тут не последнюю роль» (с. 142, 152). Скажу еще о малоизвестном: в 1921 году И. Я. Гурлянд издал в Париже повесть в стихах «На кресте», в центре которой драматическая судьба еврея — патриота России. Внимание к таким деятелям, как В. А. Грингмут и И. Я. Гурлянд, важно потому, что позволяет с особенной ясностью понять проблему пресловутого антисемитизма. Как уже говорилось, значение этого термина нельзя истолковать иначе как непримиримость к евреям как таковым, то есть любым людям, явившимся на свет в еврейской семье. По-видимому, именно так относился к евреям упомянутый выше купец-«черносотенец» Баранов, не соглашавшийся сотрудничать и с теми евреями, которые «исповедовали православную веру». Нет сведений о том, как он воспринимал активнейшее участие в «черносотенном» движении Грингмута и Гурлянда. Но были и другие лица, разделявшие «позицию» Баранова. В 1908 году, как радостно сообщается в нынешнем «разоблачительном» очерке об И. Я. Гурлянде, «орган «Союз русского народа» газета «Русское знамя» поместила передовую статью «Гг. государственные журналисты», где говорилось и о «внезапно возвысившемся юрком еврейчике Гурлянде»…» (с. 150). Но следует сообщить, что именно в 1908 году В. М. Пуришкевич направил П. А. Столыпину записку, в которой призывал его обратить внимание на тот факт, что «Русское знамя», по его определению, «получило характер за последнее время совершенного уличного листка, стремясь не возвысить читателя духовно, а действовать на инстинкты…»{18}. Очевидно, что В. М. Пуришкевич под «инстинктами» имел в виду и антисемитизм в собственном, действительном смысле этого слова — в том числе и нападки газеты на его друга И. Я. Гурлянда, вызванные уже только тем, что он родился в еврейской семье. Нет сомнения, что в среде «черносотенцев» были антисемиты в точном значении этого слова. Но поистине нелепо обвинять в антисемитизме движение в целом и его ведущих, обладавших правом решать те или иные важнейшие вопросы деятелей, ибо эти деятели тесно сотрудничали с евреем И. Я. Гурляндом и избрали еврея В. А. Грингмута одним из главных руководителей своего движения (он, в частности, был «председателем Русского собрания и 1–4-го съездов русских людей»{19}, в которых принимали участие делегаты всех «черносотенных» организаций). Нетрудно предвидеть, что у иных живущих «инстинктами» нынешних читателей рассказ о В. А. Грингмуте и И. Я. Гурлянде вызовет крайне отрицательное отношение: эти евреи, скажут они, были специально засланы в «черносотенство», чтобы разлагать его изнутри. Но следует задуматься хотя бы над тем, почему и сегодня, хотя прошло уже около столетия, этих деятелей продолжают рьяно «разоблачать» в еврейских кругах? Кстати, в этих кругах наверняка не согласятся с утверждением, что само наличие в среде «черносотенцев» евреев, игравших к тому же первостепенную роль, подрывает обвинение «черносотенства» в антисемитизме (в истинном значении этого слова). Мне возразят, что И. Я. Гурлянд и В. А. Грингмут были, так сказать, вырожденцами, выступавшими как злейшие враги своих одноплеменников, как «евреи-антисемиты». И. Я. Гурлянд в цитированном выше нынешнем очерке представлен в качестве человека, который превратился во врага своих одноплеменников ради блистательной карьеры. Но это явная неправда. Так, став уже в 1906 году ближайшим и влиятельнейшим соратником председателя Совета министров П. А. Столыпина (что может быть истолковано как огромный успех на карьерном пути), И. Я. Гурлянд позднее завязывает дружбу с В. М. Пуришкевичем, которая никак не могла способствовать карьерным интересам, — хотя бы уже потому, что Столыпин относился к Пуришкевичу весьма двойственно (ведь последний, например, откровенно заявил на одном из заседаний Думы, что видит «в правительстве П. А. Столыпина, стремящегося ввести у нас конституционный строй, политического противника»){20}. И, уж конечно, заведомой ложью является приписывание И. Я. Гурлянду — как, впрочем, и другим виднейшим «черносотенцам» — антисемитизма в собственном смысле этого слова. Любопытно, что до 1910 года, хотя И. Я. Гурлянд уже был к тому времени теснейшим образом связан с «черносотенцами», его не обвиняли во вражде к евреям. В том же 1910 году в «Еврейской энциклопедии» была помещена вполне «положительная» статья о нем (как и о его дяде-раввине), завершавшаяся так: «Гурлянд проводит идею полного присоединения евреев к началам русской государственности, отнюдь не отказываясь от своих вероисповедных и национальных стремлений» (т. VI, с. 851). Однако уже после выхода в свет этого тома кто-то почему-то решил «исправить ошибку», и в нераспроданную часть тиража была внедрена вклейка, в которой, в частности, говорилось: «В последние годы Гурлянд изменил этим взглядам в связи с реакционным направлением своей деятельности: руководимый им орган «Россия» выступает со всевозможными обвинениями против евреев и поддерживает репрессивную политику правительства по отношению к ним»{21}. Возможно, в редакции «Еврейской энциклопедии» вызвали негодование какие-либо передовые статьи газеты «Россия», которые обычно писал сам И. Я. Гурлянд. Выше говорилось о статье 1911 года, цитируемой историком А. Я. Аврехом в качестве образчика гурляндовского «антисемитизма». Вот что сказано в ней о незадолго до того убитом П. А. Столыпине: «Виднейший представитель национальной идеи был, конечно, ненавистен радикальной адвокатской балалайке, как и всему национально-оскопленному стаду полуинтеллигентов и интеллигентов-неудачников, являющихся командирами революционного стада и состоящих на инородческо-еврейском содержании»{22}. А. Я. Аврех преподнес эти суждения именно как возмутительный пример антисемитизма, исходящего от вырожденца-еврея. Однако никакого антисемитизма в истинном значении этого слова здесь нет и в помине. Чтобы доказать это, приведу цитату из статьи другого автора, опубликованной двумя годами ранее — в 1909 году. Вот ее начало: «Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями…» — так писал человек, которого в антисемиты зачислить не удастся, ибо это уже упомянутый крупнейший еврейский деятель — В. Е. Жаботинский, кстати, хорошо знавший положение в «передовых газетах», так как до 1903 года он был членом РСДРП и даже входил в состав ее Одесского комитета; в 1903 году он порвал с РСДРП. Но продолжим цитату из его статьи: «…до сих пор, несмотря на наши вопли, игнорируют еврейские нужды… Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства»{23}. (Не исключено возражение, что Жаботинский был сионистом и не может считаться защитником интересов всех евреев. Но я привожу его высказывание не для присоединения к его убеждениям, а для того, чтобы выяснить истину; тот факт, что и «еврей-антисемит» Гурлянд, и еврей-сионист Жаботинский в разных целях, но согласно говорят об издаваемых на еврейские деньги революционных и либеральных газетах, весомо подтверждает правоту этого «диагноза».) Конечно, В. Е. Жаботинского заботила судьба еврейства, а не «русская политика», но так или иначе под последней из его процитированных фраз, без сомнения, с удовлетворением поставил бы свою подпись И. Я. Гурлянд, выступавший, вопреки утверждению «Еврейской энциклопедии» (как и другие виднейшие «черносотенцы»), не «против евреев», но против активнейшего участия евреев в Революции, которая — в чем Гурлянд был с полным основанием убежден — в конечном счете не принесет «ничего доброго» (по определению В. Е. Жаботинского) ни России, ни еврейству, несмотря даже на первоначальную после победы Революции эйфорию многих евреев. И если кому-то угодно называть И. Я. Гурлянда «антисемитом», следует быть логичным и зачислить в отъявленные антисемиты также и В. Е. Жаботинского… В уже упоминавшемся нынешнем очерке о И. Я. Гурлянде приводятся — опять-таки в качестве выражения его антисемитизма — следующие его суждения, относящиеся к 1912 году: «…годы смуты определили, что еврейская молодежь с головой окунулась в политические заговоры против исторических устоев Русского государства… натиски со стороны международных еврейских организаций показали, что с еврейским вопросом связан вопрос о политическом и социальном перевороте в России»{24}. Но и В. Е. Жаботинский почти одновременно, в 1911 году, писал о том же: «…под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях…»{25} И вообще, иронизирует Жаботинский, «все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю» (с. 48). Конечно, в отличие от И. Я. Гурлянда, он не беспокоился об «исторических устоях Русского государства»; его волновали «устои» еврейства. Но вот весьма выразительное противоречие: В. Е. Жаботинский, решительно возражавший против — по его определению — «несоразмерного» участия евреев в Революции, которая не даст им «ничего доброго», не считается антисемитом, а между тем И. Я. Гурлянд, говоривший о том же самом с точки зрения интересов России в целом (в том числе, конечно, и российских евреев, к коим принадлежал он сам!), клеймится как враг и предатель евреев, как патологический еврей-антисемит. И эта клевета печатается в «Вестнике Еврейского университета в Москве» в 1993 году — когда, казалось бы, всем уже ясно, чем была Революция, против которой и, в частности, против непомерного еврейского участия в ней (а не против евреев!) боролся И. Я. Гурлянд. * * *В связи с этим стоит отметить один по-своему замечательный «вывод», к которому — по всей вероятности, не вполне осознанно — пришел современный историк Владлен Сироткин (о нем уже шла речь выше), опубликовавший не так давно две «разоблачительные» статьи о «черносотенцах». Он клеймил их за «антисемитизм», но в какой-то момент словно бы «прозрел» и написал следующее: «Для идеологов черносотенства (тогда, как и сейчас) «евреи» — категория не национальная, а политическая»{26}. Тем самым В. Сироткин, по сути дела, полностью снял с «черносотенцев» обвинение в антисемитизме, то есть именно в национальной ненависти, хотя едва ли он ставил перед собой такую цель. Тем не менее Сироткин здесь же привел одно достаточно весомое «доказательство», сообщив, что «при «Союзе русского народа» открыли филиал для тех самых гонимых евреев», и даже «власти зарегистрировали в Одессе устав общества евреев, молящихся Богу (разумеется, своему Богу. — В.К.) за Царя» (с. 50). Это были, очевидно, люди, которые понимали или хотя бы предчувствовали, что революционный катаклизм не даст им счастья, — чего никак не понимали, например, в конечном счете уничтоженные созданным ими же строем Г. Е. Зиновьев или Л. Б. Каменев. В. Сироткин с явным одобрением писал об уже знакомом читателю моей книги А. Я. Аврехе, который до самой своей кончины в декабре 1988 года превозносил Революцию и проклинал «черносотенцев»: «…историк Арон Яковлевич Аврех (которого я лично знал), не считавший себя ни евреем, ни русским, а только марксистом-интернационалистом…» Существо этого типа людей точно и глубоко раскрыл выдающийся мыслитель Л. П. Карсавин (1882–1952, умер в ГУЛАГе), чьи труды, слава Богу, публикуются теперь в России. Владлену Сироткину — как и другим нынешним обличителям «черносотенства» — следовало бы внимательно изучить и прочно усвоить основные положения написанной еще в 1927 году — как бы к десятилетию победы Революции — работы Л. П. Карсавина «Россия и евреи». Он начал ее характернейшим замечанием: «Довольно затруднительно упомянуть в заглавии о евреях и не встретиться с обвинением в антисемитизме…»{27} И, конечно, он «встретился» с таким обвинением, хотя в работе четко проведено разграничение трех слоев (или, как определяет сам Л. П. Карсавин, «типов») еврейства: «Мы различаем… религиозно-национальное и религиозно-культурное еврейство… евреев, совершенно ассимилированных тою либо иною национальною культурою… и евреев, интернационалистов по существу и революционеров по природе. Вот об этом последнем типе евреев мы до сих пор и говорили… признание того, что он существует, описание отличительных его черт, даже оценка его с точки зрения религиозных и культурных ценностей являются не антисемитизмом, а научно-философскими познавательными процессами. Научное познание не может быть запрещаемо и опорочиваемо на том основании, что приходит к выводам, для нервозных особ неприятным» (с. 414). Далее Л. П. Карсавин говорит, что исследуемый им «тип» — это «уже не еврей, но еще и не «нееврей», а некое промежуточное существо, «культурная амфибия», почему его одинаково обижает и то, когда его называют евреем, и то, когда его евреем не считают (!); он определяется «активностью», которая неизбежно оборачивается «нигилистической разрушительностью… Этот тип является врагом всякой национальной органической культуры (в том числе и еврейской)…» (с. 412, 413, 414). И «практический» вывод Л. П. Карсавина таков: «…денационализирующееся и ассимилирующееся еврейство — наш вечный враг, с которым мы должны бороться так же, как оно борется с нашими национально-культурными ценностями. Это — борьба неустранимая и необходимая» (с. 416). Нельзя не сделать здесь одно принципиальное уточнение: из работы Л. П. Карсавина в целом ясно, что речь идет отнюдь не о борьбе с «денационализирующимся» еврейством вообще, в целом, но лишь с той его частью, теми его представителями, которые проявляют свою «разрушительную активность» прямо и непосредственно в сфере политики, идеологии, культуры, — то есть прямо и непосредственно борются с устоями чуждого им национального бытия. Да, речь идет о тех, о ком В. Е. Жаботинский не без презрения писал еще в 1906 году, что они задорно «побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю». К ним, конечно же, совершенно не относятся пусть даже самые «денационализированные», но не вторгающиеся с «разрушительной активностью» в устои того или иного национального бытия люди, занятые общеполезным профессиональным трудом. Как ни прискорбно, в эпоху Революции в еврейской среде оказалось чрезвычайно большое количество людей, одержимых этой самой разрушительной активностью. Причину этого вполне основательно и убедительно раскрыл И. Р. Шафаревич в своей работе «Русофобия», созданной в 1978–1982 годах и опубликованной впервые в 1988-м. «В конце XIX века устойчивая, замкнутая жизнь религиозных общин, объединявших почти всех живших в России евреев, — писал И. Р. Шафаревич, — стала быстро распадаться. Молодежь покидала религиозные школы и патриархальный кров и вливалась в русскую жизнь — экономику, культуру, политику, все больше влияя на нее. К началу XX века это влияние достигло такого масштаба, что стало весомым фактором русской истории… оно… особенно бросалось в глаза во всех течениях, враждебных тогдашнему жизненному укладу. В либерально-обличительной прессе, в левых партиях и террористических группах евреи, как по числу, так и по их руководящей роли, занимали положение, совершенно несопоставимое с их численной долей в населении». Этот, как пишет далее И. Р. Шафаревич, «прилив… почти точно совпал с «эмансипацией», началом распада еврейских общин… Совпадение двух кризисов (в России в целом и в российском еврействе. — В.К.) оказало решающее воздействие на характер той эпохи»{28}. Работа И. Р. Шафаревича вызвала совершенно беспрецедентную волну всякого рода нападок и обвинений — что ясно свидетельствует об ее высокой значимости. Разумеется, его на разные лады обвиняли в антисемитизме. Но для этого каждый его обвинитель предпринимал более или менее грубое искажение действительного содержания «Русофобии». К сожалению, этим грешили подчас даже и стремящиеся к объективности авторы. Среди них оказался и пишущий в основном о проблемах Православной церкви публицист Александр Нежный. В своей книге «Комиссар дьявола», рассказывающей прежде всего о главном «воинствующем безбожнике» Ярославском, Александр Нежный не побоялся называть реальными и полными именами и этого разрушителя, и его «биографа» Минца и заявить, что в своем сочинении о Минее Израилевиче Губельмане (то есть Ярославском) «брызжет восторженной и чрезвычайно глупой слюной Исаак Израилевич (Минц. — В.К.), поневоле вызывая у всякого нормального читателя приступ юдофобии…»{29}. Александр Нежный здесь явно «переборщил», определив ненависть к разрушителю и палачу русской Церкви и его одописцу именно и только как «юдофобию»; ведь не является же, скажем, глубокая симпатия русских людей к Исааку Элиевичу Левитану «приступом юдофилии»… Почему же в отношении Губельмана и Минца возмущение обязательно должно принимать характер юдофобии? А через несколько страниц Александр Нежный «переборщил» в прямо противоположную сторону, обвинив в юдофобии И. Р. Шафаревича: он зачислил его в стан «охотников представить русскую (шире и точнее говоря — российскую) трагедию (имеется в виду Революция. — В.К.) результатом победоносного еврейского заговора» (с. 15). А ведь в работе И. Р. Шафаревича, которую «обличает» Александр Нежный, с полнейшей определенностью сказано: «…мысль, что «революцию делали одни евреи» — бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтобы ее было проще опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что евреи вообще «сделали» революцию, т. е. были ее инициаторами, хотя бы в виде руководящего меньшинства» (с. 143; то же самое во всех других изданиях работы). Далее Александр Нежный преподносит более конкретное обвинение: «Непостижимым образом русские террористы оказываются у него (И. Р. Шафаревича. — В.К.) почти сплошь евреями» (с. 16), и для «опровержения» дает, в частности, перечень русских террористов-народовольцев. Но ведь И. Р. Шафаревич пишет там же, что в эпоху народовольческого террора «евреи в революционном движении были редким исключением» (с. 143), поскольку их «эмансипация» только зачиналась. Признаюсь, меня глубоко удивили цитируемые фразы Александра Нежного, и я обратился к нему с вопросом, почему он до такой степени исказил смысл работы И. Р. Шафаревича. И Александр Иосифович признался, что он вообще-то не читал эту работу, а только слышал рассказ о ней от одной из своих приятельниц… Словом, давно знакомый мотив: «Я Пастернака не читал, но протестую против его клеветнического романа». Что же касается множества других «критиков» работы И. Р. Шафаревича, о них и говорить не хочется: это заведомые лжецы и клеветники. * * *Участие евреев в Революции было, конечно, огромным и, уж разумеется, никак «не соразмерным» (по определению В. Е. Жаботинского) с долей евреев в населении России. Вместе с тем, как писал в уже цитированной работе Л. П. Карсавин, «глупо» утверждать (хотя это и ранее делали, и теперь делают многие), что «будто евреи выдумали и осуществили русскую революцию. Надо быть очень необразованным исторически человеком и слишком презирать русский народ, чтобы думать, будто евреи могли разрушить русское государство» (с. 415). Характеризуя «тип» ассимилирующегося еврея с его «разрушительной активностью», Л. П. Карсавин оговаривал, что «этот тип не опасен для здоровой культуры и в здоровой культуре не действенен. Но лишь только культура начинает заболевать или разлагаться, как он быстро просачивается в образующиеся трещины, сливается с продуктами ее распада и ферментами ее разложения, специфически его окрашивает и становится уже реальной опасностью» (с. 414). Кстати сказать, сегодня множество «борцов» с пресловутым антисемитизмом прямо-таки обожают приписывать своим противникам тезис, согласно которому именно и только евреи устроили русскую революцию. Конечно, существуют малосведущие или не способные к серьезному размышлению люди, которые говорят нечто подобное. Но даже самый что ни есть «черносотенный» идеолог Н. Е. Марков писал о роковом феврале 1917 года: «Тут за дело взялись не бомбометатели из еврейского Бунда, не изуверы социальных вымыслов, не поносители чести Русской Армии Якубзоны, а самые заправские российские помещики, богатейшие купцы, чиновники, адвокаты, инженеры, священники, князья, графы, камергеры и всех Российских орденов кавалеры»{30}. Н. Е. Марков почему-то забыл прибавить к этому перечню и ряд членов самой императорской фамилии — в том числе великого князя Кирилла Владимировича (прадеда сегодняшнего «претендента» на Российский престол юного Георгия Михайловича), который уже 1 марта явился в качестве единомышленника в «революционную» Думу, причем «на его шинели красовался алый бант»{31}. Роль евреев выросла до предела уже после разрушения Русского государства. Совершенно несоразмерное участие евреев во всем, что делалось после октября 1917 года, чаще всего «объясняют» и, более того, «оправдывают» тем, что ранее они испытывали, мол, абсолютно нестерпимые притеснения и ограничения. Так, одна современная журналистка, узнав из предоставленных ей архивных материалов о том, что в руководстве ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ вплоть до начала 1950-х годов громадную роль (никак не соразмерную с их долей в населении) играли евреи, пытается объяснить и, в сущности, «оправдать» это именно гонениями на евреев до 1917 года. Речь идет о Евгении Альбац, издавшей в 1992 году (кстати, тиражом 50 тыс. экз.) объемистую разоблачительную книгу об «органах госбезопасности». Вопрос о том, «почему среди следователей НКВД — МГБ — и среди самых страшных в том числе, — пишет Е. Альбац, — вообще было много евреев, меня, еврейку, интересует. От вопроса этого никуда не уйти. Да и не хочу я уходить. Я много думала над этим. И, поверьте, это были мучительные раздумья. И вот до чего я додумалась — изложу это очень коротко. Октябрьский переворот для евреев Российской империи, с ее еврейскими резервациями-местечками, с ее страшными погромами, ограничениями в правах, невозможностью для молодых евреев получить высшее образование — конечно, этот переворот стал для них своего рода национальным освобождением. Они приняли революцию, потому что не могли ее не принять: она подарила им надежду выжить…»{32} Из этого рассуждения с неизбежностью следует, что евреи хлынули в Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией (и позднейшие «органы»), поскольку, мол, в случае победы этой самой контрреволюции было бы ликвидировано их «национальное освобождение» в октябре 1917 года, и, более того, они-де вообще погибли бы: ведь якобы только после Октябрьского переворота у них появилась «надежда выжить». Буквально все положения, выдвинутые в приведенной цитате Евгенией Альбац, порождены ее невежеством (у меня нет оснований думать, что она вполне сознательно фальсифицирует историю). Во-первых, «ограничения», касающиеся евреев, были целиком отменены сразу после Февральского (а не Октябрьского) переворота. Во-вторых, нелепо утверждать, что до 1917 года у российских евреев не было-де даже «надежды выжить»: в новейшем демографическом труде показано, что у еврейского населения Российской империи «были исключительно высокие темпы прироста, которых не знала ни одна народность России» (эти темпы почти в два с половиной раза превышали темпы прироста русских!){33}. В-третьих, в «страшных погромах» погибло меньше евреев, чем людей других национальностей, о чем шла речь в предыдущей главе. Остается еще два пункта: в-четвертых, о «еврейских резервациях» и, в-пятых, о «невозможности получить высшее образование». Начну с, последнего. Еще в 1877 году Достоевский заметил, что евреи имеют «больше прав или, лучше сказать, возможности ими пользоваться, чем само коренное население»{34}. И он был вполне прав. Так, «Еврейская энциклопедия» сообщала, что в 1886 году, когда евреи составляли немногим более 3 процентов населения Российской империи, в общей численности студентов университетов их было (притом не считая евреев, перешедших в христианство) 14,5 процента — то есть каждый седьмой студент был евреем. Это почти в 5 раз превышало их долю в населении страны! (ЕЭ, т. XIII, с. 57). В современном еврейском издании приведены более поздние и более конкретные сведения о (как там определено) «представительстве» студентов иудейского вероисповедания в главных университетах России. В 1911 году в Петербургском университете это «представительство» равнялось 17,7 процента, в Киевском — 20 процентам, в Новороссийском — 34 процентам, в Харьковском — 12,6 процента и сравнительно меньше было в Московском — 10 процентов{35}. Конечно же, на меня может обрушиться обвинение, что я-де сторонник «ограничений» для евреев. В действительности же я убежден, что введение правительством Российской империи пресловутой «процентной нормы» выражало слабость — и, надо сказать, постыдную слабость — этого правительства. Если его беспокоило несоразмерное (с долей населения) «представительство» студентов иудейского вероисповедания в императорских университетах, оно должно было создать поощряющие стимулы для православной молодежи разных сословий, а не пытаться — явно тщетно — ограничить количество студентов-иудеев. Но в то же время нельзя не сказать и о том, что суждения Е. Альбац (как и множества других авторов), «оправдывающие» несоразмерное участие евреев в Революции и даже в «органах» мнимой «невозможностью» получить высшее образование, заведомо несостоятельны. Приведенные цифры свидетельствуют, что люди иудейского вероисповедания добивались необходимого для них «представительства» в российских университетах без победы Революции и без ВЧК — ОГПУ… Это ясно, в частности, из следующего: в 1928 году, когда абсолютно никаких ограничений для евреев в сфере высшего образования не было, их доля в общем количестве студентов составляла 13,5 процента{36} — то есть не больше, чем до 1917 года. Ведь даже в 1886 году, за тридцать лет до победы Революции, доля студентов иудейского вероисповедания составляла 14,5 процента; нельзя не учитывать при этом, что евреев среди студентов было еще больше, ибо крестившиеся евреи не входили в статистику. Для ясности напомню, что «нормы», которые безуспешно пыталось навязать правительство, составляли для Петербурга и Москвы всего 3 процента, для Центральной России — 5 процентов, а для территорий, находящихся в так называемой «черте оседлости», — 10 процентов. К этой «черте» мы и обратимся. В связи с ней постоянно утверждается, что до 1917 года евреи были «загнаны в гетто», в некие «резервации» или даже своего рода концлагеря… Но, во-первых, территория, входившая в «черту оседлости», превышала территории Германии и Франции вместе взятых. Далее, никто не «загонял» евреев в места их проживания на этой территории, перед нами очередной миф, начисто разоблаченный, например, тем же В. Е. Жаботинским, который писал в 1936 году: «…я тут разочарую наивного читателя, который всегда верил, что в гетто нас силой запер какой-то злой папа или злой курфюрст (или в России — злой царь. — В.К.)… Гетто образовали мы сами, добровольно, по той же причине, почему европейцы в Шанхае селятся в отдельном квартале…»{37} Не исключено, что это утверждение Жаботинского будут оспаривать, однако никак нельзя оспорить следующее: евреи расселились на польских, украинских, белорусских землях (которые впоследствии, на рубеже XVIII–XIX веков, вошли в состав Империи) в далекие времена — за пять-шесть и более столетий до нашего, XX века, — и создали здесь свою, своеобразную экономику, быт и культуру. Продолжу цитату из В. Е. Жаботинского: «Все мы слыхали про то, что своеобразие и односторонность еврейской экономики являются последствиями угнетения… Это правда, но не вся… гораздо важнее был «гнет» самой силы вещей, гнет самого факта диаспоры. Еврей сам инстинктивно сторонился от экономических функций, захваченных «туземцами»…» (с. 153–154; странно, впрочем, здесь слово «захваченных», ибо не ясно, у кого и что «захватили» населявшие эти земли задолго до прихода евреев восточнославянские племена?!). Но так или иначе ко времени возвращения отторгнутых Польско-Литовским государством западных земель в состав России жившие на этих землях евреи были, в сущности, таким же постоянным — «оседлым» — населением, как украинцы и белорусы (кстати, слову «оседлость» без всяких на то оснований придали сугубо негативный, даже «страшный» смысл). После же исчезновения государственной границы между этими землями и Российской империей в целом евреи — в отличие от украинцев и белорусов — обнаружили страстное стремление переселяться в центр Империи, и прежде всего в главные ее города, в том числе в столицы. Это стремление объясняют и как бы полностью оправдывают тем, что многие евреи жили на бывших землях Польши и Литвы «тесно» и «бедно». Тяга к лучшей жизни понятна и естественна, но едва ли какое-либо государство может спокойно отнестись к своевольному (совсем другое дело — поощряемое государством перемещение украинских и других крестьян на пустующие земли в Сибири) перемещению того или иного этноса из одного региона страны в другие и тем более в столичные города. За примерами не надо ходить далеко: в наши дни российские власти предпринимают достаточно жесткие меры, чтобы препятствовать перемещению в Москву (с территорий их «оседлости») многочисленных представителей тех или иных этносов, но мало кто усматривает в этом проявление некоего безобразного насилия. Между тем политика российских властей, направленная на «удержание» еврейского населения на той территории, где оно жило столетиями, оценивается именно как беспримерное насилие, как создание «резерваций» и чуть ли не концлагерей. Конечно, вполне можно понять стремление евреев улучшить свою жизнь, переселившись в центр Империи, но следует понять и власть. Ее сопротивление массовому переселению евреев в Центральную Россию толкуется как навязывание будто бы особого, не распространяемого на другие этносы режима. Между тем в действительности как раз евреи стремились к утверждению своего особого статуса (другие этносы тогда вообще не ставили перед собой подобных целей). И повторяю еще раз: можно понять евреев, для которых переселение в Центральную Россию означало улучшение жизни, но необходимо понять и власти, а не проклинать их за некое якобы чудовищное насилие над одним из этносов Империи. * * *Завершая эту главу моего сочинения, предвижу, что иные читатели «найдут» в ней пресловутый «антисемитизм». Но с этим никак нельзя согласиться, ибо все, что сказано на предыдущих страницах, явно не вызвало бы протеста ни у такого национально мыслящего еврея, каким был В. Е. Жаботинский, ни у русского по духу еврея И. Я. Гурлянда. Я был, например, в дружественных отношениях с очень разными людьми — М. С. Агурским (1933–1991), видным деятелем и идеологом еврейства, и с Н. Я. Берковским (1901–1972), всем существом служившим России, автором книги «Мировое значение русской литературы» — безусловно лучшей книги на эту тему (и об Агурском, и о Берковском я не раз высказывался в печати){38}. И у меня не было каких-либо трудных разногласий «по еврейскому вопросу» ни с тем, ни с другим. Резкие разногласия возникают лишь с тем охарактеризованным Л. П. Карсавиным «типом», который и не еврей, и не «нееврей» (то есть в условиях русской жизни чуждый ее основам), но в то же время самым активным образом стремится воздействовать на русскую политику, идеологию, культуру. Именно такие люди готовы везде усматривать «антисемитизм», хотя критике подвергается отнюдь не национальная сущность евреев, а только разрушительная деятельность одного межеумочного слоя. >Глава 6 Что же в действительности произошло в 1917 году? На этот вопрос за восемьдесят лет были даны самые различные, даже прямо противоположные ответы, и сегодня они более или менее знакомы внимательным читателям. Но остается почти неизвестной либо преподносится в крайне искаженном виде точка зрения «черносотенцев», их ответ на этот нелегкий вопрос. Выше не раз было показано, что «черносотенцы», не ослепленные иллюзорной идеей прогресса, задолго до 1917 года ясно предвидели действительные плоды победы Революции, далеко превосходя в этом отношении каких-либо иных идеологов (так, член Главного совета Союза русского народа П. Ф. Булацель провидчески — хотя и тщетно — взывал в 1916 году к либералам: «Вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан»). Естественно предположить, что и непосредственно в 1917-м и последующих годах «черносотенцы» глубже и яснее, чем кто-либо, понимали происходящее, и потому их суждения имеют первостепенное значение. Начать уместно с того, что сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Русского государства, который, в свою очередь, привел к многообразным тяжелейшим последствиям начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2(15) марта 1917 года, когда был опубликован так называемый «приказ № 1». Он исходил от Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского — по существу Всероссийского — Совета рабочих и солдатских депутатов, где большевики до сентября 1917 года ни в коей мере не играли руководящей роли; непосредственным составителем «приказа» был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Н. Д. Соколов (1870–1928), сделавший еще в 1900-х годах блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, где он главным образом защищал всяческих террористов. Соколов выступал как «внефракционный социал-демократ». «Приказ № 1» обращенный к армии, требовал, в частности, «немедленно выбрать комитеты из выборных представителей (торопливое составление текста привело к назойливому повтору: «выбрать… из выборных». — В.К.) от нижних чинов… Всякого рода оружие… должно находиться в распоряжении… комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам… Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане…»{1} и т. д. Если вдуматься в эти категорические фразы, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданной в течение столетий армии — станового хребта государства; одно уже демагогическое положение о том, что «свобода» солдата не может быть ограничена «ни в чем», означало ликвидацию самого института армии. Не следует забывать к тому же, что «приказ» отдавался в условиях грандиозной мировой войны и под ружьем в России было около одиннадцати миллионов человек; кстати, последний военный министр Временного правительства А. И. Верховский свидетельствовал, что приказ № 1 был отпечатан «в девяти миллионах экземпляров»!{2} Для лучшего понимания ситуации следует обрисовать обстоятельства появления приказа. 2 марта Соколов явился с его текстом, — который уже был опубликован в утреннем выпуске «Известий Петроградского Совета», — перед только что образованным Временным правительством. Один из его членов, В. Н. Львов, рассказал об этом в своем мемуаре, опубликованном вскоре же, в 1918 году: «…быстрыми шагами к нашему столу подходит Н. Д. Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесенной им бумаги… Это был знаменитый приказ номер первый… После его прочтения Гучков (военный министр. — В.К.) немедленно заявил, что приказ… немыслим, и вышел из комнаты. Милюков (министр иностранных дел. — В.К.) стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа (он не знал, что газету с его текстом уже начали распространять. — В.К.)… Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошел от стола… я (то есть В. Н. Львов, обер-прокурор Синода. — В.К.) вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что эта бумага, принесенная им, есть преступление перед родиной… Керенский (тогда — министр юстиции, с 5 мая — военный министр, а с 8 июля — глава правительства. — В.К.) подбежал ко мне и закричал: «Владимир Николаевич, молчите, молчите!», затем схватил Соколова за руку, увел его быстро в другую комнату и запер за собой дверь…»{3} А став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию к Соколовскому; его стали называть «декларацией прав солдата». Впоследствии генерал А. И. Деникин писал, что «эта «декларация прав»… окончательно подорвала все устои армии»{4}. Впрочем, еще 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: «Когда повторяют на каждом шагу (это, кстати, характерно и для наших дней. — В.К.), что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие…» Не считая, по-видимому, «тактичным» прямо назвать имена виновников, генерал сказал далее: «Развалило армию военное законодательство последних месяцев» (цит. изд., с. 114); присутствующие ясно понимали, что «военными законодателями» были Соколов и сам Керенский (кстати, в литературе есть неправильные сведения, что Деникин будто бы все же назвал тогда имя Керенского). Но нельзя не сказать, что «прозрение» Деникина фатально запоздало. Ведь согласился же он 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опубликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением «декларации прав солдата») — главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущности, не было… Необходимо вглядеться в фигуру Соколова. Ныне о нем знают немногие. Характерно, что в изданном в 1993 году биографическом словаре «Политические деятели России. 1917» статьи о Соколове нет, — хотя там представлено более 300 лиц, сыгравших ту или иную роль в 1917 году (большинство из них с этой точки зрения значительно уступают Соколову). Впрочем, и в 1917 году его властное воздействие на ход событий казалось не вполне объяснимым. Так, автор созданного по горячим следам и наиболее подробного рассказа о 1917 годе (и сам активнейший деятель того времени) Н. Н. Суханов-Гиммер явно удивлялся, как он писал, «везде бывавшему и все знающему Н. Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции»{5}. Лишь гораздо позднее стало известно, что Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей российского масонства тех лет, членом его немногочисленного «Верховного совета» (Суханов, кстати сказать, тоже принадлежал к масонству, но занимал в нем гораздо более низкую ступень). Нельзя не отметить также, что Соколов в свое время положил начало политической карьере Керенского (тот был одиннадцатью годами моложе), устроив ему в 1906 году приглашение на громкий процесс над прибалтийскими террористами, после которого этот тогда безвестный адвокат в одночасье стал знаменитостью. Выдвигая приказ № 1, Соколов, разумеется, не предвидел, что его детище менее чем через четыре месяца в буквальном смысле ударит по его собственной голове. В июне Соколов возглавил делегацию ЦИК на фронт. «В ответ на убеждение не нарушать дисциплины солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее», — рассказывал тот же Суханов; Соколова отправили в больницу, где он «лежал… не приходя в сознание несколько дней… Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку — «чалму» — на голове» (там же, т. 2, с. 309). Между прочим, на это событие откликнулся поэт Александр Блок. 29 мая он встречался с Соколовым и написал о нем: «…остервенелый Н. Д. Соколов, по слухам, автор приказа № I»{6}, а 24 июня, — пожалуй, не без иронии, — отметил: «В газетах: «темные солдаты» побили Н. Д. Соколова» (там же, т. 7, с. 269). Позже, 23 июля, Блок делает запись о допросе в «Чрезвычайной следственной комиссии» при Временном правительстве виднейшего «черносотенца» Н. Е. Маркова: «Против Маркова… сидит Соколов с завязанной головой… лает вопросы… Марков очень злится…»{7} Соколов, как мы видим, был необычайно энергичен, а круг его деятельности — исключительно широк. И таких людей в российском масонстве того времени было достаточно много. Вообще, говоря о Февральском перевороте и дальнейшем ходе событий, никак невозможно обойтись без «масонской темы». Эта тема особенно важна потому, что о масонстве еще до 1917 года немало писали и говорили «черносотенцы»; в этом, как и во многом другом, выразилось их превосходство над любыми тогдашними идеологами, которые «не замечали» никаких признаков существования масонства в России или даже решительно оспаривали суждения на этот счет «черносотенцев», более того — высмеивали их. Только значительно позднее, уже в эмиграции, стали появляться материалы о российском масонстве — скупые признания его деятелей и наблюдения близко стоявших к ним лиц; впоследствии, в 1960–1980-х годах, на их основе был написан ряд работ эмигрантских и зарубежных историков. В СССР эта тема до 1970-х годов, в сущности, не изучалась (хотя еще в 1930 году были опубликованы весьма многозначительные — пусть и предельно лаконичные — высказывания хорошо информированного В. Д. Бонч-Бруевича). Рассказать об изучении российского масонства XX века необходимо, между прочим, и потому, что многие сегодня знают о нем, но знания эти обычно крайне расплывчаты или просто ложны, представляя собой смесь вырванных из общей картины фактов и досужих вымыслов. А между тем за последние два десятилетия это масонство изучалось достаточно успешно и вполне объективно. Первой работой, в которой был всерьез поставлен вопрос об этом масонстве, явилась книга Н. Н. Яковлева «1 августа 1914», изданная в 1974 году. В ней, в частности, цитировалось признание видного масона, кадетского депутата Думы, а затем комиссара Временного правительства в Одессе Л. А. Велихова: «В 4-й Государственной думе (избрана в 1912 году. — В.К.) я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов (Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков (Керенский), с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия» (указ. изд., с. 234). И к настоящему времени неопровержимо доказано, что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего именно потому, что в нем слились воедино влиятельные деятели различных партий и движений, выступавших на политической сцене более или менее разрозненно. Скрепленные клятвой перед своим и одновременно высокоразвитым западноевропейским масонством (о чем еще пойдет речь), эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели — от октябристов до меньшевиков — стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию. Наиболее плодотворно исследовал российское масонство XX века историк В. И. Старцев, который вместе с тем является одним из лучших исследователей событий 1917 года в целом. В ряде его работ, первая из которых вышла в свет в 1978 году, аргументированно раскрыта истинная роль масонства. Содержательны и страницы, посвященные российскому масонству XX века в книге Л. П. Замойского (см. библиографию в примечаниях){8}. Позднее, в 1986 году, в Нью-Йорке была издана книга эмигрантки Н. Н. Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», опиравшаяся, в частности, и на исследования В. И. Старцева (Н. Н. Берберова сама сказала об этом на 265–266 стр. своей книги — не называя, правда, имени В. И. Старцева, чтобы не «компрометировать» его). С другой стороны, в этой книге широко использованы, в сущности, недоступные тогда русским историкам западные архивы и различные материалы эмигрантов. Но надо прямо сказать, что многие положения книги Н. Н. Берберовой основаны на не имеющих действительной достоверности записках и слухах и вполне надежные сведения перемешаны с по меньшей мере сомнительными (о некоторых из них еще будет сказано). Работы В. И. Старцева, как и книга Н. Н. Яковлева, с самого момента их появления и вплоть до последнего времени подвергались очень резким нападкам; историков обвиняли главным образом в том, что они воскрешают «черносотенный миф» о масонах (особенно усердствовал «академик И. И. Минц»). Между тем историки с непреложными фактами в руках доказали (вольно или невольно), что «черносотенцы» были безусловно правы, говоря о существовании деятельнейшего масонства в России и об его огромном влиянии на события, хотя при всем при том В. И. Старцев — и вполне понятно, почему он это делал, — не раз «отмежевывался» от проклятых «черносотенцев». Нельзя, правда, не оговорить, что в «черносотенных» сочинениях о масонстве очень много неверных и даже фантастических моментов. Однако ведь в те времена масоны были самым тщательным образом законспирированы; российская политическая полиция, которой еще П. А. Столыпин дал указание расследовать деятельность масонства, не смогла добыть о нем никаких существенных сведений. Поэтому странно было бы ожидать от «черносотенцев» точной и непротиворечивой информации о масонах. По-настоящему значителен уже сам по себе тот факт, что «черносотенцы» осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России. Решающая его роль в Феврале обнаружилась со всей очевидностью, когда — уже в наше время — было точно выяснено, что из 11 членов Временного правительства первого состава 9 (кроме А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова) были масонами. В общей же сложности на постах министров побывали за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству! Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней «второй власти», ЦИК Петроградского Совета, масонами являлись все три члена президиума — А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев и Н. С. Чхеидзе — и двое из четырех членов Секретариата К. А. Гвоздев и уже известный нам Н. Д. Соколов (двое других секретарей Совета — К. С. Гриневич-Шехтер и Г. Г. Панков — не играли первостепенной роли). Поэтому так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди «одной команды»… Представляет особенный интерес тот факт, что трое из шести членов Временного правительства, которые не принадлежали к масонству (во всяком случае, нет бесспорных сведений о такой принадлежности), являлись наиболее общепризнанными, «главными» лидерами своих партий: это А. И. Гучков (октябрист), П. Н. Милюков (кадет) и В. М. Чернов (эсер). Не был масоном и «главный» лидер меньшевиков Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум). Между тем целый ряд других влиятельнейших — хотя и не самых популярных — лидеров этих партий занимал высокое положение и в масонстве, — например, октябрист С. И. Шидловский, кадет В. А. Маклаков, эсер Н. Д. Авксентьев, меньшевик Н. С. Чхеидзе (и, конечно, многие другие). Это объясняется, на мой взгляд, тем, что такие находившиеся еще до 1917 года под самым пристальным вниманием общества и правительства лица, как Гучков или Милюков, легко могли быть «разоблачены», и их не ввели в масонские «кадры» (правда, некоторые авторы объясняют их непричастность к масонству тем, что тот же Милюков, например, не хотел подчиняться масонской дисциплине). Н. Н. Берберова пыталась доказывать, что Гучков все же принадлежал к масонству, но ее доводы недостаточно убедительны. Однако вместе с тем В. И. Старцев совершенно справедливо говорит, что Гучков «был окружен масонами со всех сторон» и что, в частности, заговор против царя, приготовлявшийся с 1915 года, осуществляла «группа Гучкова, в которую входили виднейшие и влиятельнейшие руководители российского политического масонства Терещенко и Некрасов… и заговор этот был все-таки масонским» («Вопросы истории», 1989, № 6, с. 44). Подводя итог, скажу об особой роли Керенского и Соколова, как я ее понимаю. И для того, и для другого принадлежность к масонству была гораздо важнее, чем членство в каких-либо партиях. Так, Керенский в 1917 году вдруг перешел из партии «трудовиков» в эсеры. Соколов же, как уже сказано, представлялся «внефракционным» социал-демократом. А во-вторых, для Керенского, сосредоточившего свою деятельность во Временном правительстве, Соколов был, по-видимому, главным сподвижником во «второй» власти — Совете. Многое говорят позднейшие (1927 года) признания Н. Д. Соколова о необходимости масонства в революционной России: «…радикальные элементы из рабочих и буржуазных классов не смогут с собой сговориться о каких-либо общих актах, выгодных обеим сторонам… Поэтому… создание органов, где представители таких радикальных элементов из рабочих и не рабочих классов могли бы встречаться на нейтральной почве… очень и очень полезно…» И он, Соколов, «давно, еще до 1905 г., старался играть роль посредника между социал-демократами и либералами»{9}. * * *Масонам в Феврале удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев потеряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту. Прежде чем говорить о причине бессилия героев Февраля, нельзя не коснуться господствовавшей в советской историографии версии, согласно которой переворот в феврале 1917 года был якобы делом петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона, будто бы руководимых к тому же главным образом большевиками. Начну с последнего пункта. Во время переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. Поскольку они выступали за поражение в войне, они вызвали всеобщее осуждение и к февралю 1917 года пребывали или в эмиграции в Европе и США, или в далекой ссылке, не имея сколько-нибудь прочной связи с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), ни один не находился в февральские дни в Петрограде! И сам Ленин, как хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и ни в коей мере не предполагал, что он вообще возможен. Что же касается массовых рабочих забастовок и демонстраций, начавшихся 23 февраля, они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особенности хлеба, в Петрограде. Но дефицит хлеба в столице был, как следует из фактов, искусственно организован. В исследовании Т. М. Китаниной «Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917)», изданном в 1985 году в Ленинграде, показано, что «излишек хлеба (за вычетом объема потребления и союзных поставок) в 1916 г. составил 197 млн. пуд.» (с. 219); исследовательница ссылается, в частности, на вывод А. М. Анфимова, согласно которому «Европейская Россия вместе с армией до самого урожая 1917 г. могла бы снабжаться собственным хлебом, не исчерпав всех остатков от урожаев прошлых лет» (с. 338). И в уже упомянутой книге Н. Н. Яковлева «1 августа 1914» основательно говорится о том, что заправилы Февральского переворота «способствовали созданию к началу 1917 года серьезного продовольственного кризиса… Разве не прослеживается синхронность — с начала ноября резкие нападки (на власть. — В.К.) в Думе и тут же крах продовольственного снабжения!» (с. 206). Иначе говоря, «хлебный бунт» в Петрограде, к которому вскоре присоединились солдаты «запасных полков», находившихся в столице, был специально организован и использован главарями переворота. Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Однако к 1917 году на складах находилось 30 миллионов (!) снарядов — примерно столько же, сколько было всего истрачено за 1914–1916 годы (между прочим, без этого запаса артиллерия в Гражданскую войну 1918–1920 годов, когда заводы почти не работали, вынуждена была бы бездействовать…). Если учесть, что начальник Главного артиллерийского управления в 1915-м — феврале 1917 гг. А. А. Маниковский был масоном и близким сподвижником Керенского, ситуация становится ясной; факты эти изложены в упомянутой книге Н. Н. Яковлева (см. с. 195–201). То есть и резкое недовольство в армии, и «хлебный бунт» в Петрограде, в сущности, были делом рук «переворотчиков». Но этого мало. Фактически руководивший армией начальник штаба Верховного главнокомандующего (то есть Николая II) генерал М. В. Алексеев не только ничего не сделал для отправления 23–27 февраля войск в Петроград с целью установления порядка, но и, со своей стороны, использовал волнения в Петрограде для самого жесткого давления на царя и, кроме того, заставил его поверить, что вся армия — на стороне переворота. Н. Н. Берберова в своей книге утверждает, что Алексеев сам принадлежал к масонству. Это вряд ли верно (хотя бы потому, что для военнослужащих вступление в тайные организации являлось, по существу, преступным деянием). Но вместе с тем находившийся в Ставке Верховного Главнокомандующего военный историк Д. Н. Дубенский свидетельствовал в своем изданном еще в 1922 году дневнике-воспоминаниях: «Генерал Алексеев пользовался… самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи… Ему глубоко верил Государь… генерал Алексеев мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию… У него была вся власть (над армией. — В.К.)… К величайшему удивлению… с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность…» (цит. по кн.: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. — Л., 1927, с. 43). Далее Д. Н. Дубенский рассказывал, как командующий Северным фронтом генерал Д. Н. Рузский (Н. Н. Берберова тоже не вполне обоснованно считает его масоном) «с цинизмом и грубою определенностью» заявил уже 1 марта: «…надо сдаваться на милость победителю». Эта фраза, писал Д. Н. Дубенский, «все уяснила и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот» (с. 61). И историк вспоминал, как уже 2 марта близкий к «черносотенцам» генерал-адъютант К. Д. Нилов назвал Алексеева «предателем» и сделал такой вывод: «…масонская партия захватила власть» (с. 66). Подобные утверждения в течение долгих лет квалифицировались как «черносотенные» выдумки, но ныне отнюдь не «черносотенные» историки доказали правоту этого вывода. Впрочем, к фигуре генерала Алексеева мы еще вернемся. Прежде необходимо осознать, что российские масоны были до мозга костей «западниками». При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству. Побывавший в масонстве Г. Я. Аронсон писал: «Русские масоны как бы светили заемным светом с Запада» (Николаевский Б. И., цит. изд., с. 151). И Россию они всецело мерили чисто «западными» мерками. По свидетельству А. И. Гучкова, герои Февраля полагали, что «после того как дикая стихийная анархия, улица (имелись в виду февральские беспорядки в Петрограде. — В.К.), падет, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что… был 1848 год (то есть революция во Франции. — В.К.): рабочие свалили, а потом какие-то разумные люди устроили власть» («Вопросы истории», 1991, № 7, с. 204). Гучков определил этот «план» словом «ошибка». Однако перед нами не столько конкретная «ошибка», сколько результат полного непонимания России. И Гучков к тому же явно неверно характеризовал сам ход событий. Ведь согласно его словам «стихийная анархия» — это забастовки и демонстрации, состоявшиеся с 23 по 27 февраля в Петрограде; 27 февраля был образован «Временный комитет членов Государственной Думы», а 2 марта — Временное правительство. Но ведь именно оно и осуществило полное уничтожение прежнего государства. То есть настоящая «стихийная анархия», охватившая в конечном счете всю страну и всю армию (а не всего лишь несколько десятков тысяч людей в Петрограде, действия которых были ловко использованы героями Февраля), разразилась уже потом, когда к власти пришли эти самые «разумные люди»… Словом, российские масоны представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной русской свободе — «свободе духа и быта», о которой постоянно размышлял, в частности, «философ свободы» Н. А. Бердяев. В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в политической и экономической деятельности не может привести к роковым разрушительным последствиям, ибо большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные «пределы» свободы, будет всегда «играть по правилам». Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения — то есть, говоря точнее, уже, в сущности, не свобода (которая подразумевает определенные границы, рамки «закона»), а собственно российская воля вырывалась на простор чуть ли ни при каждом существенном ослаблении государственной власти{10} и порождала неведомые Западу безудержные русские «вольницы» — болотниковщину (в пору Смутного времени), разинщину, пугачевщину, махновщину, антоновщину и т. п. Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям, более всего, естественно, к недавней пугачевщине{11}, которой он и посвятил свои главные творения в сфере художественной прозы («Капитанская дочка», 1836) и историографии («История Пугачева», вышедшая в свет в конце 1834 года под заглавием — по предложению финансировавшего издание Николая I — «История Пугачевского бунта»). При этом Пушкин предпринял весьма трудоемкие архивные разыскания, а в 1833 году в течение месяца путешествовал по «пугачевским местам», расспрашивая, в частности, престарелых очевидцев событий 1773–1775 годов. Но дело, конечно, не просто в тщательности исследования предмета; Пушкин воссоздал пугачевщину с присущим ему, и, без преувеличения, только ему — всепониманием. Позднейшие толкования в сравнении с пушкинским односторонни и субъективны. Более того, столь же односторонни и субъективны толкования самих творений Пушкина, посвященных пугачевщине (яркий пример — эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев»). Исключение представляет, пожалуй, лишь недавняя работа В. Н. Катасонова («Наш современник», 1994, № 1), где пушкинский образ Пугачева осмыслен в его многомерности. Говоря попросту, пугачевщину после Пушкина либо восхваляли, либо проклинали. Особенно это характерно для эпохи Революции, когда о пугачевщине (а также о разинщине и т. п.) вспоминали едва ли не все тогдашние идеологи и писатели. Ныне постоянно цитируют пушкинские слова: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — причем они обычно толкуются как чисто отрицательная, даже уничтожающая характеристика. Но это не столь уж простые по смыслу слова. Они, между прочим, как-то перекликаются с приведенными Пушкиным удивительными словами самого Пугачева (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, — капитан-поручик Маврин): «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». И в том и в другом высказывании «русский бунт» — то есть своеволие — как-то связывается с волей Бога, который «привел» увидеть или «наказал», — и в целостном контексте пушкинского воссоздания пугачевщины это так и есть. Кроме того, поставив определения «бессмысленный и беспощадный» после определяемого слова, Пушкин тем самым придал им особенную емкость и весомость; нас как бы побуждают вглядеться, вслушаться в эти определения и осознать их многозначность. «Бессмысленный» — это ведь значит и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный. А особенное ударение на завершающем слове «беспощадный» — разумеется, в связи с пушкинским воссозданием пугачевщины в целом — несет в себе смысл ничем не ограниченной беспощадности, естественно обращающейся и на самих бунтовщиков, и на их вожака, выданного в конце концов на расправу «своими». Это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость. Пушкин обратил внимание на своего рода тайну. Он рассказал, что в конце июля 1774 года, то есть всего за несколько недель до ареста, Пугачев, «окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам… уже думал о своем спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию». Но, как это ни странно, «никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции… Составлялись отдельные шайки… и каждая имела у себя своего Пугачева…» Словом, «русский бунт» — это по сути своей не чье-либо конкретное действие, но своего рода состояние, вдруг захватившее весь народ, — ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару… Безудержный «русский бунт» вызывал и вызывает совершенно разные «оценки». Одни усматривают в нем проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя и не всегда очевидной) России, другие, напротив, — выражение ее «рабской» природы: «бессмысленность» бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые даже и в восстании не способны добиваться удовлетворения конкретных практических интересов (как это делают, скажем, западноевропейские повстанцы) и бунтуют, в сущности, только ради самого бунта… Но подобные одноцветные оценки столь грандиозных национально-исторических явлений вообще не заслуживают серьезного внимания, ибо характеризуют лишь настроенность тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый «предмет». События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость… Необходимо отдать себе ясный отчет в том, что и безоговорочные проклятия и такие же восхваления «русского бунта» неразрывно связаны с заведомо примитивным и просто ложным восприятием самого «своеобразия» России и, с другой стороны, Запада: в первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно «худшее» в сравнении с Западом, во втором — как столь же безусловно «лучшее». Но и то и другое восприятие не имеет действительно серьезного смысла: спор о том, что «лучше» — Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить — в лесной или степной местности, и даже кем лучше быть — женщиной или мужчиной… и т. п. Пытаться выставить непротиворечивые «оценки» тысячелетнему бытию и России, и Запада — занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления. Впрочем, пора обратиться непосредственно к 1917 году. Как уже сказано, «пугачевщина» и «разинщина» постоянно вспоминались в то время, — что было вполне естественно. Вместе с тем на сей раз последствия были совсем иными, чем при Пугачеве, ибо бунтом была захвачена и до основания разложенная новыми правителями армия (которая во время пугачевщины все-таки сохранилась — пусть и было немало случаев перехода солдат и даже офицеров в ряды бунтовщиков). Более того, миллионы солдат, самовольно покидавших — нередко с оружием в руках — армию, стали наиболее действенной закваской всеобщего бунта. Советская историография пыталась доказывать, что-де основная масса «бунтовщиков», — в том числе солдаты, — боролась в 1917 году против «буржуазного» Временного правительства за победу большевиков, за социализм-коммунизм. Но это явно не соответствует действительности. Генерал Деникин, досконально знавший факты, говоря в своих фундаментальных «Очерках русской смуты» о самом широком распространении большевистской печати в армии, вместе с тем утверждал: «Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было… Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую (весьма незначительную количественно. — В.К.) часть армейского состава». Что же касается миллионов рядовых солдат, то в их сознании, констатировал генерал, «преобладало прямолинейное отрицание: «Долой!» Долой… вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее «свободную волю» — все долой!»{12}. Нельзя не отметить прямое противоречие в этом тексте: Деникин определяет бунт солдат и как проявление «утробных инстинктов» — то есть как нечто низменное, телесное, животное, и в то же время как порыв к «свободной воле» (для определения этого феномена оказались как бы недостаточными взятые по отдельности слова «свобода» и «воля», и генерал счел нужным соединить их, явно стремясь тем самым выразить нечто «беспредельное»; ср. народное словосочетание «воля вольная»). Но «утробные инстинкты» (например, животный страх перед гибелью) и стремление к безграничной «воле» — это, конечно же, совершенно различные явления; второе подразумевает, в частности, преодоление смертного страха… Таким образом, Деникин, едва ли сознавая это, дал солдатскому бунту и своего рода «высокое» толкование. Не исключено возражение, что Деникин, мол, исказил реальную картину, ибо не желал признавать внушительную роль ненавистных ему большевиков. Однако, в сущности, то же самое говорил в своих воспоминаниях генерал от кавалерии (с 1912 года) А. А. Брусилов, перешедший, в отличие от Деникина, на сторону большевиков. Бунтовавшие в 1917 году солдатские массы, свидетельствовал генерал, «совершенно не интересовали Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе начала будущей свободной жизни»{13}. Следует привести мнение еще одного серьезно размышлявшего человека, который, по-видимому, не участвовал в революционных событиях, был только «страдающим» лицом, в конце концов бежавшим на Запад. Речь идет о российском немце М. М. Гаккебуше (1875–1929), издавшем в 1921 году в Берлине книжку с многозначительным заглавием «На реках Вавилонских: заметки беженца»; при этом он издал ее под таким же многозначительным псевдонимом «М. Горелов», явно не желая и теперь, в эмиграции, вмешивать себя лично в политические распри. В книжке немало всякого рода эмоциональных оценок «беженца», но есть и достаточно четкое определение совершившегося. Напоминая, в частности, о том, что Достоевский называл русский народ «богоносцем», Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году «мужик снял маску… «Богоносец» выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его не касается»{14}. Тут же «беженец» ставил пресловутый вопрос «кто виноват?» в этом мужицком отрицании власти: «Виноваты все мы — сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалять в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращавшая детей, интеллигенция, оплевывавшая родину…» (напомню, что В. В. Розанов еще в 1912 году писал: «У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристает к партии «ниспровержения» государственного строя…»){15}. Итак, совместные действия различных сил (Гаккебуш обвиняет и саму династию…) развенчали русское государство, и в конце концов оно было разрушено. И тогда «мужик» отказался от подчинения какой-либо власти, избрав ничем не ограниченную «волю». Гаккебуш был убежден, что тем самым «мужик» целиком и полностью разоблачил мнимость представления о нем как о «богоносце». И хотя подобный приговор вынесли вместе с этим малоизвестным автором многие из самых влиятельных тогдашних идеологов, проблема все-таки более сложна. Ведь тот, кто не признает никакой земной власти, открыт тем самым для «власти» Бога… Один из виднейших художников слова того времени — И. А. Бунин записал в своем дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием «Окаянные дни») 11 (24) июня 1919 года, что «всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички»… бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся…»{16} (кстати, Бунин в избранном им для своего дневника заглавии перекликнулся — вероятно, не осознавая этого — с приведенными Пушкиным словами Пугачева: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». — В.К.). В полнейшем непонимании извечного русского «своеобразия» Бунин усматривает роковой просчет политиков: «Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом…» (там же, с. 113). Став и свидетелем, и жертвой безудержного «русского бунта», Бунин яростно проклинал его. Но как истинный художник, не могущий не видеть всей правды, он ясно высказался — как бы даже против своей воли — о сугубой «неоднозначности» (уж воспользуюсь популярным ныне словечком) этого бунта. Казалось бы, он резко разграничил два человеческих «типа», отделив их даже этнически: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь и Меря» (как бы не желая целиком и полностью проклинать свою до боли любимую Русь, писатель едва ли хоть сколько-нибудь основательно пытается приписать бунтарскую инициативу «финской крови»…). Однако этот тезис тут же опровергается ходом бунинского размышления: «Но (смотрите — Бунин неожиданно возражает этим «но» себе самому! — В.К.) и в том, и в другом (типе. — В.К.) есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из дерева, — и дубина, и икона» — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» (с. 62). Выходит, тезис о «двух типах» неверен: за преподобным Сергием шли такие же русские люди, что и за отлученным от Церкви Емелькой, и «облик» русских людей зависит от исторических «обстоятельств» (а не от наличия двух «типов»). И в самом деле: заведомо неверно полагать, что в людях, шедших за Пугачевым, не было внутреннего единства с людьми, которые шли за преподобным Сергием… Бунин говорит о «шаткости», о «переменчивости» народных настроений и обличий, но основа-то была все-таки та же… Замечательно, что уже после цитированных дневниковых записей, в 1921 году, Бунин создал одно из чудеснейших своих творений — «Косцы» — поистине непревзойденный гимн «русскому (конкретно — рязанскому, есенинскому) мужику», где все же упомянул и о том, что так его ужасало: «…а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством» («гибельная» здесь совершенно точное слово). Итак, в той беспредельной «воле», которой возжаждал после распада государства и армии народ, было, если угодно, и нечто «богоносное» (вопреки мнению Гаккебуша-Горелова), — хотя весьма немногие идеологи обладали смелостью разглядеть это в «русском бунте». И все же сколько бы ни оспаривали финал созданной в январе 1918 года знаменитой поэмы Александра Блока, где впереди двенадцати «разбойников-апостолов» является не кто иной, как Христос, решение поэта по-своему незыблемо: «Я, — писал он 10 марта 1918 года, — только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа»…»{17} Достаточно хорошо известно, что образ «русского бунта» в блоковской поэме многие воспринимали (и воспринимают сейчас) как образ большевизма. Это естественно вытекало из широко распространенного, но тем не менее безусловно ложного представления, согласно которому «русский бунт» XX века вообще отождествлялся с большевизмом (такое понимание присутствует, в частности, и в бунинских «Окаянных днях», но смысл книги в целом никак не сводим к этому). На деле же — о чем еще будет подробно сказано — «русский бунт» был самым мощным и самым опасным врагом большевиков. * * *Разговор о смысле блоковской поэмы отнюдь не уводит нас от главной цели — истинного понимания того, что происходило в России в 1917-м и последующих годах. Необходимо осознать заведомую недостаточность и даже прямую ложность «классового» и вообще чисто политического истолкования Революции. Нет сомнения, что классовые интересы играют очень весомую роль в истории (хотя многие нынешние влиятельные лица, главным образом перевертыши типа тов. Яковлева, еще совсем недавно рьяно утверждавшие именно «классовые» представления об истории, склонны теперь отрицать это). Но все же Революция — слишком грандиозное и многомерное явление бытия, которое никак нельзя втиснуть в классовые и вообще собственно политические рамки, и в этом одна из главных основ моих дальнейших рассуждений. Александр Блок в 1920 году с полной определенностью сказал: «…те, кто видят в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой» (т. 3, с. 474). Следует напомнить, что целая когорта тогдашних литераторов, на разные лады призывавших до 1917 года к разрушению Русского государства, а позднее никак не могущих примириться с приходом к власти своих соперников-большевиков, стала обвинять автора «Двенадцати» в восхвалении большевизма. Между тем большевики воспринимали «Двенадцать» отнюдь не как нечто им близкое. Александр Блок засвидетельствовал, что сестра Л. Д. Троцкого и жена Л. Б. Каменева — О. Д. Каменева (в девичестве Бронштейн), после Октября «руководившая» театрами России, — уже 9 марта 1918 года (поэма была опубликована 3 марта) заявила жене поэта, актрисе Л. Д. Блок, которая тогда читала «Двенадцать» с эстрады: «Стихи Александра Александровича («Двенадцать») — очень талантливое, почти гениальное изображение действительности (то есть несет в себе истину. — В.К.)… но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся»{18}. Позднее, в 1922 году, Троцкий, также признавая, — вероятно, под давлением уже сложившегося в литературных кругах мнения, — что Блок создал «самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда»{19}, вместе с тем заявил: «Блок дает не революцию и уж, конечно, не работу ее руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления… по сути, направленные против нее» (там же, с. 101). И Троцкий вообще крайне возмущался тем, что «наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский поэт Разина, а Есенин — Пугачева… плохо и преступно (! — В.К.) то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем самым в слепом мятеже, в стихийном восстании… Но ведь что же такое наша (то есть та, которой руководит Троцкий. — В.К.) революция, если не бешеное восстание против стихийного бессмысленного… против то есть мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни… Еще десятки лет пройдут, пока каратаевщина будет выжжена без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат хорошо» (там же, с. 91–92). Примечательно, что Троцкий здесь же цитирует — хотя и неточно — Пушкина: «Пушкин сказал, что наше народное движение — это бунт, бессмысленный и жестокий. Конечно, это барское определение, но в своей барской ограниченности — глубокое и меткое» (с. 91); «бессмысленный» означает, в частности, «бесцельный», о чем и сказал верно Троцкий. И еще одна цитата из Троцкого: «Для Блока революция есть возмущенная стихия… Для Клюева, для Есенина — пугачевский и разинский бунты… Революция же есть прежде всего борьба рабочего класса за власть, за утверждение власти…» (с. 83). (Даю в скобках краткое отступление, касающееся двух из названных поэтов. Если Александр Блок воспринимал «русский бунт» в той или иной мере «со стороны», то «преступный», по определению Троцкого, Сергей Есенин ощущал — пусть и в известной степени — свою прямую причастность этому бунту, что, по-видимому, выразилось (хотя и неадекватно) в его словах из автобиографии, написанной 14 мая 1922 года: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее», и из письма от 7 февраля 1923 года: «Я перестал понимать, к какой революции я принадлежал? Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской… В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Следует обратить внимание на тот факт, что Блок — как и Бунин в «Окаянных днях» — все же в определенной мере склонен был отождествлять большевиков и русский бунт; так, его двенадцать сами говорят друг другу «над собой держи контроль», хотя на деле это требовали от них другие. Между тем у Есенина — хотя бы в его драматической поэме «Страна негодяев» — ясно разграничены русский бунт и ставящей задачей «укротить» его большевик Чекистов-Лейбман.) Как мы видели, Троцкий полагал, что «русский бунт» по своей сути направлен против той революции, одним из «самых выдающихся вождей» (по определению Ленина) которой он был и которую он (см. выше) счел уместным охарактеризовать как «бешеное (!) восстание» против этого самого беспредельного и (по ироническому определению самого Троцкого) «святого» русского бунта — «восстание», преследующее цель «утверждения власти». Но вместе с тем нельзя не видеть, что Троцкий и его сподвижники смогли оказаться у власти именно и только благодаря этому русскому бунту, который означал ликвидацию власти вообще. Большевики ведь, в сущности, не захватили, не завоевали, но лишь подняли выпавшую из рук их предшественников власть; во время Октябрьского переворота даже почти не было человеческих жертв, хотя вроде бы совершился «решительный бой». Но затем жертвы стали исчисляться миллионами, ибо большевикам пришлось в полном смысле слова «бешено» бороться за удержание и упрочение власти… При этом дело шло как о вертикали власти (новые правящие «верхи» — и «низы», которых еще нужно было «подчинить»), так и об ее горизонтали — то есть об овладении всем гигантским пространством России, ибо распад государственности после Февраля закономерно привел к распаду самой страны. Александр Блок записал 12 июля 1917 года: «Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию»…» (т. 7, с. 279). Речь шла о событиях, описанных в «Очерках русской смуты» А. И. Деникина так: «Весь май и июнь (1917 года. — В.К.) протекали в борьбе за власть между правительством (Временным, в Петрограде. — В.К.) и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства (Петроградского. — В.К.), чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой… 12 июня объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров)… Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление… дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь…» («Вопросы истории», 1990, № 5, с. 146–147). В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) возникло «Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей», в ноябре — Закавказье (основание «Закавказского комиссариата» в Тифлисе), в декабре — Молдавия (Бессарабия) и Литва и т. д. Провозглашали свою «независимость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды! Следует обратить внимание на тот выразительный факт, что позднее против различных «независимых» властей в России боролись в равной мере и Красная, и Белая армии (например, против правительств Петлюры и Жордании). Возникновение «независимых государств» с неизбежностью порождало кровавые межнациональные конфликты, в частности в Закавказье. Страдали и жившие здесь русские: «В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, — рассказывал 75 лет назад А. И. Деникин, — в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло полумиллионное русское население края (Закавказья. — В.К.), а также те, кто, не принадлежа к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными. Попав в положение «иностранцев», лишенные участия в государственной жизни… под угрозой суровых законов… о «подданстве»… русские люди теряли окончательно почву под ногами… Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов подносили беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях, притеснениях, о море крови, пролитом свергнутой властью»… Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения… «русского владычества…» (там же, 1992, № 4–5, с. 97). Важно осознать, что катастрофический распад страны был следствием именно Февральского переворота, хотя распад этот продолжался, конечно, и после Октября. «Бунт», разумеется, развертывался с сокрушительной силой и в собственно русских регионах. В советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой народное бунтарство между Февралем и Октябрем было-де борьбой за социализм-коммунизм против буржуазной (или хотя бы примиренческой по отношению к буржуазному, капиталистическому пути) власти, а мятежи после Октября являлись, мол, уже делом «кулаков» и других «буржуазных элементов». Как бы в противовес этому в последнее время была выдвинута концепция всенародной борьбы против социализма-коммунизма в послеоктябрьское время — концепция, наиболее широко разработанная эмигрантским историком и демографом М. С. Бернштамом. И та и другая точки зрения (и сугубо советская, и столь же сугубо «антисоветская») едва ли верны. О том, что «русский бунт» после Февраля вовсе не был по своей сути социалистически-коммунистическим, уже не раз говорилось выше. Но стоит процитировать еще суждения очень влиятельного и осведомленного послефевральского деятеля В. Б. Станкевича (1884–1969). Юрист и журналист, затем офицер (во время войны), он был ближайшим соратником Керенского и по масонской, и по правительственной линии, являлся членом ЦИК Петроградского Совета и одновременно одним из главных военных комиссаров Временного правительства, но довольно рано понял обреченность героев Февраля. В своих весьма умных мемуарах, изданных в 1920 году в Берлине, он писал, что после Февраля «масса… вообще никем не руководится… она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации…». Станкевич размышлял о солдатах, взбунтовавшихся в феврале: «С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги… Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт (Станкевич явно счел даже это слово слишком «узким» для обозначения того, что происходило. — В.К.), а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах»{20}. Советская историография пыталась доказывать, что это «стихийное движение» было по своей сути «классовым» и вскоре пошло-де за большевиками. А нынешний «антисоветский» историк М. С. Бернштам, напротив, настаивает на том, что после Октября народное движение было всецело направлено против социализма-коммунизма (ту же точку зрения — независимо от этого эмигранта — выдвигал в ряде недавних своих сочинений и В. А. Солоухин). Бунин, который прямо и непосредственно наблюдал «русский бунт», словно предвидя появление в будущем сочинений, подобных бернштамовскому, записал в дневнике 5 мая 1919 года: «…мужики… на десятки верст разрушают железную дорогу (будто бы для того, чтобы «не пропустить» коммунизм. — В.К.). Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками»… дело заключается… в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч…» (указ. соч., с. 112). Нельзя не заметить, что М. С. Бернштам — по сути дела, подобно ортодоксальным советским историкам — предлагает «классовое» или, во всяком случае, политическое толкование «русского бунта» (как антикоммунистического), хотя и «оценивает» антикоммунизм совсем по-иному, чем советская историография. В высшей степени характерно, что он опирается в своей работе почти исключительно на большевистские тезисы и исследования. «В. И. Ленин… — с удовлетворением констатирует, например, М. С. Бернштам, — указывал, что эта сила крестьянского и общенародного повстанчества, или, в его терминах, мелкобуржуазной стихии, оказалась для коммунистического режима опаснее всех белых армий вместе взятых»{21}. Действительно, В. И. Ленин — кстати сказать, в полном согласии с приведенными выше суждениями Л. Д. Троцкого — не раз утверждал, что «мелкобуржуазная анархическая стихия» представляет собой «опасность, во много раз (даже так! — В.К.) превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе» (т. 43, с. 18), что она — «самый опасный враг пролетарской диктатуры» (там же, с. 32). Ссылается М. С. Бернштам и на множество работ советских историков, в том числе самых что ни есть «догматических». Так, он пишет: «Источники насчитывают сотни восстаний по месяцам сквозь всю войну 1917–1922 годов». Советский историк Л. М. Спирин обобщает: «С уверенностью можно сказать, что не было не только ни одной губернии, но и ни одного уезда, где бы не происходили выступления и восстания населения против коммунистического режима». Правда, М. С. Бернштаму, очевидно, не понравились классовые оценки Л. М. Спирина, и он при «цитировании» попросту заменил их своими: у советского историка вместо неопределенного «населения» сказано: «кулаков, богатых крестьян и части середняков». Между тем, добавив опять-таки от себя в цитату из Л. М. Спирина слова «против коммунистического режима»{22}, М. С. Бернштам сам таким образом встал именно на «классовую», чисто «политическую» точку зрения, — «население» восставало, мол, против определенного строя, а не против любой, всякой власти. Но вглядимся в также опирающееся на бесспорные факты «обобщение» другого советского историка, Е. В. Иллерицкой: «К ноябрю 1917 г. (то есть к 25 октября / 7 ноября. — В.К.) 91,2 % уездов оказались охваченными аграрным движением, в котором все более преобладали активные формы борьбы, превращавшие это движение в крестьянское восстание. Важно отметить, что карательная политика Временного правительства осенью 1917 г. …перестала достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян…»{23} Итак, хотя Временное правительство не насаждало коммунизм, бунт и при нем имел всеобщий характер (91,2 % всех уездов!). Но, пожалуй, еще выразительнее тот факт, что и после Октября «русский бунт» обращался вовсе не только против красных, но и против белых властей! Об этом, кстати сказать, упоминает — правда, бегло — и сам М. С. Бернштам. Не желая, надо думать, совсем закрыть глаза на реальное положение дела, он пишет, что народное повстанчество 1918–1920 годов являло собой «сражение и против красных, и против белых» (с. 18), и в глазах народа «белые такие же насильники, как и красные» (с. 74). Но тем самым, в сущности, всецело подрывается его общая концепция, согласно которой бунт был направлен именно против «коммунизма»; он был направлен против всякой власти вообще и, в частности, против любых видов «податей» и «рекрутства» (пользуясь вышеприведенными определениями Гаккебуша-Горелова), без которых и немыслимо существование государственности. После разрушения веками существовавшего Государства народ явно не хотел признавать никаких форм государственности. Об этом горестно писал в феврале 1918 года видный меньшевистский деятель, а впоследствии один из ведущих советских дипломатов И. М. Майский (Ляховецкий, 1884–1975): «…когда великий переворот 1917 г. (имеется в виду Февраль. — В.К.) смел с лица земли старый режим, когда раздались оковы, и народ почувствовал, что он свободен, что нет больше внешних преград, мешающих выявлению его воли и желаний, — он, это большое дитя, наивно решил, что настал великий момент осуществления тысячелетнего царства блаженства, которое должно ему принести не только частичное, но и полное освобождение»{24}. Оставим в стороне выражения вроде «большое дитя» (поистине детскую наивность проявили как раз вожаки Февраля, совершенно не понимавшие, чем обернется для них самих разрушение Государства); существенна мысль о «блаженной» беспредельной воле, мечта о которой всегда жила в народных глубинах и со всей очевидностью воплотилась в русском фольклоре — и во множестве лирических песен, и в заветных сказках о не подвластных никому и ничему Иванушке и тезке Пугачева — Емеле… Но совершенно ясно (об этом уже шла речь выше), что при таком безгранично вольном, пользуясь модным термином, «менталитете» народа само бытие России попросту невозможно, немыслимо без мощной и твердой государственной власти; власть западноевропейского типа, о коей грезили герои Февраля, для России заведомо и полностью непригодна… И, взяв в октябре власть, большевики в течение длительного времени боролись вовсе не за социализм-коммунизм, а за удержание и упрочение власти, — хотя мало кто из них сознавал это с действительной ясностью. То, что было названо периодом «военного коммунизма» (1918 — начало 1921 года), на деле являло собой «бешеную», по слову Троцкого, борьбу за утверждение власти, а не создание определенной социально-экономической системы; в высшей степени характерно, что, так или иначе утвердив к 1921 году границы и устои государства, большевики провозгласили «новую» экономическую политику (нэп), которая в действительности была вовсе не «новой», ибо, по сути дела, возвращала страну к прежним хозяйственным и бытовым основам. Реальное «строительство» социализма-коммунизма началось лишь к концу 1920-х годов. Сами большевики определяли нэп как свое «отступление» в экономической сфере, но это, в сущности, миф, ибо «отступать» можно от чего-то уже достигнутого. Между тем к 1921 году подавляющее большинство — примерно 90 процентов — промышленных предприятий просто не работало (ни по-капиталистически, ни по-коммунистически), а крестьяне работали и жили, в общем, так же, как и до 1917 года (хотя имели до 1921 года очень мало возможностей для торговли своей продукцией). Слово «отступление» призвано было, в сущности, «успокоить» тех, кто считал Россию уже в каком-то смысле социалистически-коммунистической страной: Россия, мол, только на некоторое время вернется от коммунизма к старым экономическим порядкам. Подлинно глубокий историк и мыслитель Л. П. Карсавин, высланный за границу в ноябре 1922 года, писал в своем трактате, изданном в следующем же, 1923 году в Берлине: «Тысячи наивных коммунистов… искренне верили в то, что, закрывая рынки и «уничтожая капитал», они вводят социализм… Но разве нет непрерывной связи этой политики с экономическими мерами последних царских министров, с программою того же Риттиха (министр земледелия в 1916 — начале 1917 г. — В.К.)? Возможно ли было в стране с бегущей по всем дорогам армией, с разрушающимся транспортом… спасти города от абсолютного голода иначе, как реквизируя и распределяя, грабя банки, магазины, рынки, прекращая свободную торговлю? Даже этими героическими средствами достигалось спасение от голодной смерти только части городского населения и вместе с ним правительственного аппарата: другая часть вымирала. И можно ли было заставить работать необходимый для всей этой политики аппарат — матросов, красноармейцев, юнцов-революционеров иначе, как с помощью понятных и давно знакомых им по социалистической пропаганде лозунгов?., коммунистическая идеология (так называемый «военный коммунизм». — В.К.) оказалась полезною этикеткою для жестокой необходимости… И немудрено, что, плывя по течению, большевики воображали, будто вводят коммунизм»{25}. В свете всего этого становится ясно, что народ в первые годы после Октября (как и после Февраля) оказывал сопротивление новой власти (причем любой власти — и красных, и белых), а не еще не существовавшему тогда социализму-коммунизму. И главная, поглощающая все основные усилия задача большевиков состояла тогда — хотя они мало или даже совсем не осознавали это — в утверждении и укреплении власти как таковой. Михаил Пришвин — единственный из крупнейших писателей, проживший все эти годы в деревне, — записал 11 сентября 1922 года: «…крестьянин потому идет против коммуны, что он идет против власти». * * *В связи с этим в высшей степени уместно обратиться к высказываниям одного из наиболее выдающихся руководителей и идеологов «черносотенства» — Б. В. Никольского. Через два месяца после Октябрьского переворота этот ученик и продолжатель Константина Леонтьева писал (29 декабря 1917/11 января 1918 года): «Патриотизм и монархизм одни могут обеспечить России свободу, законность, благоденствие, порядок и действительно демократическое устройство…» — и выдвигал предположение, что «теперь самый исступленный большевик начинает признавать не только правизну, но и правоту моих убеждений»{26}. Это, конечно, было слишком, так сказать, лестное для большевиков предположение; за редчайшими исключениями, они не имели ни силы, ни смелости мышления, чтобы осознать это. И позднее, в октябре следующего, 1918 года, Б. В. Никольский так писал о большевиках: «В активной политике они с нескудеющею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе, созидая вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают…» Вместе с тем, продолжал Никольский, «разрушение исторически неизбежно, необходимо: не оживет, аще не умрет… Ни лицемерия, ни коварства в этом смысле в них (большевиках. — В.К.) нет: они поистине орудия исторической неизбежности… лучшие в их среде сами это чувствуют как кошмар, как мурашки по спине, боясь в этом сознаться себе самим; с другой стороны, в этом их Немезида; несите тяготы власти, захватив власть! Знайте шапку Мономаха!..» И далее: «…они все поджигают и опрокидывают; но среди смердящих и дымящихся пожарищ будет необходимо строить с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей, — а у них (большевиков. — В.К.) никого, кроме обезумевшей толпы» (там же, с. 271–272). Комментируя эти суждения Б. В. Никольского, их публикатор С. В. Шумихин утверждает, что они-де «дают основание пересмотреть традиционную для отечественной историографии… схему, согласно которой монархисты всех оттенков — от умеренных консерваторов до черносотенцев — автоматически оказывались на противоположном от большевиков полюсе и a priori зачислялись в разряд их непримиримых врагов». Между тем, возражает С. В. Шумихин, «осмысление событий привело его (Б. В. Никольского. — В.К.) к позиции сочувственного нейтралитета по отношению к советской власти. Быть может, в его сознании вырисовывались контуры возможного черносотенно-большевистского симбиоза. Однако этим чаяниям не суждено было сбыться» (с. 341, 347). Тезис о подобном «симбиозе» отнюдь не какая-либо новинка (хотя неосведомленным людям он может показаться таковой). Многие либералы после Октября пытались уверять, что-де Ленин, Свердлов, Троцкий, Зиновьев и другие действуют совместно с «черносотенцами», хотя ни одного имени реальных сподвижников большевизма из числа вожаков Союза русского народа и т. п. при этом, понятно, никогда не было названо. Дело заключалось в том, что «черносотенцы» к 1917 году были «очернены» до немыслимых пределов, и присовокупление их к большевикам имело целью окончательно, так сказать, дискредитировать последних. И сегодня этот прием снова пущен в оборот. И С. В. Шумихин явно не хочет обращать внимания на тот факт, что Б. В. Никольский с полной определенностью говорит здесь же о невозможности какого-либо своего сближения с большевиками: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду», — подчеркивает он и, заявляя тут же, что «я не иду и не пойду против них», объясняет свой «нейтралитет» тем, что большевики — «неудержимые и верные исполнители исторической неизбежности… и правят Россией… Божиим гневом и попущением… Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет и не думает» (с. 372), и отмечает еще: «Враги у нас (с большевиками. — В.К.) общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно» (с. 371). Ранее он писал: «Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов?… Россиею правят сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах» (с. 360). Необходимо уяснить кардинальное, коренное отличие взглядов «черносотенца» от позиций либералов и противостоявших большевикам революционеров (прежде всего эсеров). Если не считать отдельных и запоздалых «исключений», герои Февраля, в сущности, не признавали своей вины в разрушении Русского государства. Они пытались уверять, что содеянное ими было в своей основе — не считая тех или иных «ошибок» — вполне правильным и всецело позитивным. Беда, по их мнению, состояла в том, что русский народ оказался недостоин их прекрасных замыслов и пошел за большевиками, каковые все испортили… И «выход» либералы и революционеры усматривали в непримиримой борьбе с большевиками за власть — то есть в гражданской войне… Б. В. Никольский, напротив, принимал вину даже и на самого себя: большевики, по его словам, «власть, которая нами заслужена», и добавлял, что «глубока чаша испытаний и далеко еще до дна. Доживу ли я до конца — кто знает (Борис Владимирович был без суда расстрелян в конце июля или в начале августа 1919 года. — В.К.). Да, великие требования предъявляет к нам история… Страданий полон путь безвестный, Поэтические строки Б. В. Никольского невольно побуждают вспомнить о стихотворении другого «черносотенного» деятеля, С. С. Бехтеева (1879–1954) — стихотворении, которое, как известно, перед своей гибелью потрясенно читала и переписывала семья Николая II: Пошли нам, Господи, терпенье Итак, Б. В. Никольский, утверждая, что власть большевиков — это беспощадная кара, заслуженная Россией (в том числе и им лично), что они «правят Россией Божиим гневом», вместе с тем признает, что большевики все-таки, в отличие от тех, кто оказался у власти в Феврале, — «правят», все-таки «строят» государство, — притом строят «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никаким прежним деятелям»; ведь после Февраля в стране нет «никого, кроме обезумевшей толпы». И он определяет большевиков вроде бы лестно — «верные исполнители исторической неизбежности», но ни в коей мере не «сочувственно», вопреки утверждению С. В. Шумихина. Верно предвидя грядущее (что вообще было присуще «черносотенцам», не увлекавшимся всякого рода прожектами), Б. В. Никольский уже в апреле 1918 года писал о неизбежном будущем подавлении Революции ею же порожденным «цезаризмом», но отнюдь не собирался «присоединяться» и к этому цезаризму: «Царствовавшая династия кончена… — утверждал он. — Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом, т. е. таким же отрицанием монархической идеи, как революция (мысль исключительно важная. — В.К.). До настоящей же монархии, неизбежной, благодатной и воскресной… далеко, и путь наш тернист, ужасен и мучителен, а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится» (с. 360). (Из последних слов вполне ясно, что Никольский, вопреки утверждениям Шумихина, никаких своих надежд на большевиков не возлагал.) Известно, что о закономерном приходе «цезаря» или «бонапарта» писали многие — например, В. В. Шульгин и так называемые сменовеховцы. Но, во-первых, это было позднее, уже после окончания Гражданской войны и провозглашения нэпа (а не в начале 1918 года!), а, во-вторых, люди, подобные В. В. Шульгину и сменовеховцам, выражали свою готовность присоединиться к этому «цезаризму», усматривая в нем нечто якобы вполне соответствующее русскому духу. Б. В. Никольский же видел в будущем «цезаре» такое же «отрицание» подлинной патриотической идеи, как и в самой Революции. Очевидно, что Б. В. Никольскому даже и «не снился» какой-либо «черносотенно-большевистский симбиоз» — хотя публикатор его писем и пытается внушить их читателям обратное. Б. В. Никольский ведет речь лишь о том, что большевики самим ходом вещей вынуждены — «вопреки своей воле и мысли» — строить государство (и по горизонтали, то есть собирая распавшиеся части России, и по вертикали, создавая властные структуры в условиях безудержного «русского бунта») и полной мерой «нести тяготы власти». А Б. В. Никольский со всей ясностью сознавал, что без мощной и прочной государственности попросту немыслимо само существование России. И потому как истинный патриот, для которого Россия — «превыше всего», Б. В. Никольский заявил: «я не иду и не пойду против них» (большевиков). И в то время, и сегодня, конечно же, могло и может прозвучать решительное и негодующее возражение, что-де Белая армия боролась именно за Россию и каждый патриот должен был именно в ее рядах сражаться против большевиков, за Россию. * * *Вопрос о Белой армии необходимо уяснить со всей определенностью. Во-первых, никак нельзя оспорить того факта, что все главные создатели и вожди Белой армии были по самой своей сути «детьми Февраля». Ее основоположник генерал М. В. Алексеев (с августа 1915-го до февраля 1917-го — начальник штаба Верховного главнокомандующего, то есть Николая II; после переворота сел на его место) был еще с 1915 года причастен к заговору, ставившему целью свержение Николая II, а в 1917-м фактически осуществил это свержение, путем жесткого нажима убедив царя, что петроградский бунт непреодолим и что армия-де целиком и полностью поддерживает замыслы масонских заговорщиков. Главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский (который прямо и непосредственно «давил» на царя в февральские дни), позднее признал, что Алексеев, держа в руках армию, вполне мог прекратить февральские «беспорядки» в Петрограде, но «предпочел оказать давление на Государя и увлек других главнокомандующих»{28}. А после отречения Государя именно Алексеев первым объявил ему (8-го марта): «…«Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным»… Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева» (там же, с. 78, 79); впрочем, еще в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!»{29} Как уже говорилось, Н. Н. Берберова утверждала, что и М. В. Алексеев, и Н. В. Рузский были масонами{30} и потому, естественно, стремились уничтожить историческую государственность России. Виднейший современный историк российского масонства В. И. Старцев, в отличие от Н. Н. Берберовой, полагает, что «факт» принадлежности этих генералов к масонству «пока еще не доказан», хотя и не исключает сего факта{31}, признавая, в частности, достоверность сообщений, согласно которым Н. В. Рузский участвовал в масонских собраниях в доме своего двоюродного брата, профессора Д. П. Рузского — одного из лидеров масонства, секретаря его Петроградского совета (там же, с. 144, 153). П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал «план ареста царицы (ее считали главной «вдохновительницей» Николая II. — В.К.) в ставке и заточения»{32}. А особенно осведомленный Н. Д. Соколов сообщил, что 9(22) февраля 1917 года Н. В. Рузский вместе с заправилами будущего переворота обсуждал проект, предусматривавший, что Николая II по дороге из ставки в Царское Село «задержат и заставят отречься» (там же, с. 96) — как это в точности и произошло 2–3 марта… Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I великий князь Александр Михайлович (1866–1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли «отцом русской военной авиации», писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: «Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя»{33}. Итак, нельзя с полной уверенностью утверждать (поскольку нет неопровержимых сведений), что создатель Белой армии М. В. Алексеев был членом масонской организации, но, как свидетельствовал А. И. Гучков — и скрупулезный историк В. И. Старцев не оспаривает это свидетельство, — генерал «был настолько осведомлен, что делался косвенным участником» (то есть участником заговора масонов-«февралистов» — В.К.)» {34}. Что же касается других главных вождей Белой армии, генералов А. И. Деникина и Л. Г. Корнилова и адмирала А. В. Колчака, — они так или иначе были единомышленниками Алексеева. Все они сделали блистательную карьеру именно после Февраля. Военный министр в первом составе Временного правительства Гучков вспоминал, как ему трудно было назначать на высшие посты Корнилова и Деникина. О Корнилове Гучков говорил: «Его служебная карьера была такова: он в боях командовал только дивизией; командование корпусом (с конца 1916 года. — В.К.), откуда я взял его в Петербург, происходило в условиях отсутствия вооруженных столкновений. Поэтому такой скачок… до командования фронтом считался недопустимым» (там же, с. 12). Тем не менее в самый момент переворота Корнилов стал командующим важнейшим Петроградским военным округом, 7 июля — командующим Юго-Западным фронтом, а 19 июля Керенский назначил его уже Главковерхом! То же относится и к Деникину, который вскоре после Февраля стал начальником штаба Главковерха (то есть занял пост, который до Февраля занимал Алексеев); Гучков отметил, что «иерархически это был большой скачок… только что командовал (Деникин. — В.К.) дивизией или корпусом» (там же, с. 10); говоря точнее, генерал до сентября 1916 года был командиром (начальником) дивизии, а затем — до переворота — командовал корпусом на второстепенном Румынском фронте. Дабы стало ясно, какую головокружительную карьеру сделали в Феврале Корнилов и Деникин, приведу выразительные цифры, установленные А. Г. Кавтарадзе: в Русской армии к 1917 году было ни много ни мало 68 командиров (начальников) корпусов и 240 — дивизий{35}. При этом очень значительная часть этих военачальников после Февральского переворота была — в противоположность беспрецедентному взлету Корнилова и Деникина — изгнана из армии. Сам Деникин писал об этом так: «Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов… В течение нескольких недель были уволены… до полутораста старших начальников» («Вопросы истории», 1990, № 7, с. 107, 108), то есть около половины… А. В. Колчак занимал до Февраля более высокий пост, чем Деникин и Корнилов: с июня 1916 года он был командующим Черноморским флотом. Но, как утверждает В. И. Старцев, «командующие флотами… Непенин{36} и Колчак были назначены на свои должности благодаря ряду интриг, причем исходной точкой послужила их репутация — либералов и оппозиционеров»{37}. Последний военный министр Временного правительства генерал А. И. Верховский (человек, конечно, весьма «посвященный», хотя и, насколько известно, не принадлежавший к масонству) писал в своих мемуарах: «Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе». И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, «это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинут в нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору… Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских. — В.К.) кругов». А в Феврале и «партия эсеров мобилизовала сотни своих членов — матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака… Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции»{38}. Вскоре Временное правительство производит Колчака в «полные» адмиралы. Далее, все будущие вожди Белой армии имели впечатляющие «революционные заслуги». Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II{39}. Нельзя не упомянуть и об еще одной «революционной» акции Лавра Георгиевича. Реальным началом Февральской революции явился бунт располагавшейся в Петрограде учебной команды лейб-гвардии (!) Волынского полка. Ранним утром 27 февраля 1917 года начальник этой команды штабс-капитан Лашкевич, придя в казарму, попытался повести солдат в город для пресечения вызванных продовольственными трудностями «беспорядков». Фельдфебель Кирпичников, который заранее распропагандировал солдат, потребовал от офицера покинуть казарму, а затем или он сам или, может быть, кто-то из солдат (мнения расходятся, так как бунтовщики, по-видимому, договорились о круговой поруке) убил штабс-капитана выстрелом в спину. После этого «повязанные кровью» солдаты взбунтовались и сумели присоединить к себе расположенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовский полки, что окончательно решило победу революции. Как бы ни оценивать Февральскую революцию, убийство офицера выстрелом в спину едва ли являло собой геройское деяние. Тем не менее назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом генерал-лейтенант Корнилов лично наградил Кирпичникова Георгиевским крестом… Правда, «герой» оказался слишком простодушным человеком. Летом следующего, 1918 года, когда ситуация была уже совсем иной, он отправился на Дон, в Добровольческую армию, возглавляемую наградившим его Корниловым, но ближайший тогда сподвижник Корнилова, А. П. Кутепов, в штаб дивизии которого заявился Кирпичников, приказал без каких-либо разбирательств расстрелять этого героя Февраля. Наградивший же его Корнилов никакого наказания за это не получил, что едва ли справедливо… (см., напр.: Иоффе Г. З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989, с. 38). Но вернемся к 7 марта, когда Корнилов лично арестовал императорскую семью. На следующий день, 8 марта, словно вступая в соревнование с подчиненным ему Корниловым, генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте самому императору и сдал его думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В. К. Лукин руководил арестом находившихся там великих князей, в том числе только что упоминавшегося Александра Михайловича (см.: Верховский А. И., цит. соч., с. 239–240). Все это достаточно ясно характеризует политическое лицо будущих вождей Белой армии. Могут, конечно, возразить, что позднее эти люди изменили свои убеждения: ведь уже в августе 1917 года Керенский объявил их «контрреволюционерами» и даже приказал арестовать Деникина и Корнилова (как ни парадоксально, арест его осуществил Алексеев, который был тогда начальником штаба Главковерха — Керенского, а всего через три с половиной месяца Алексеев и Корнилов возглавили Добровольческую, то есть Белую армию). Но это было, по сути дела, противостояние в одном «февральском» стане; конфликт объяснялся главным образом тем, что Керенский, сознавая свое бессилие в условиях нараставшего с каждым месяцем «русского бунта», усматривал выход в «компромиссах» и с ним, и с использующими в своих целях этот бунт большевиками. Особенное возмущение в военной среде вызвал тот факт, что, отдав приказ об аресте Корнилова, Керенский одновременно приказал освободить Троцкого (который был арестован в связи с июльским выступлением большевиков и провел в заключении сорок дней). Здесь уместно сослаться на тезисы о «Белой идее» из подготовленного ветеранами-эмигрантами издания, посвященного двадцатилетнему юбилею Белой армии (оно вышло в свет в Нью-Йорке в 1937 году). Ближайший сподвижник самого, пожалуй, «консервативного» из белых вождей, П. Н. Краснова, командующий Донской армией генерал С. В. Денисов все же недвусмысленно утверждал на страницах этой книги: «Генерал Корнилов имел полное основание не доверять Временному правительству, которое, постепенно изменяясь в составе, в конечном итоге утеряло признаки власти, созданной революцией (Февральской. — В.К.). Временное правительство… пошло по скользкому пути непристойных уступок черни и отбросам Русского народа… Все без исключения Вожди, и Старшие и Младшие (Белой армии. — В.К.)… приказывали подчиненным… содействовать Новому укладу жизни и отнюдь, и никогда не призывали к защите Старого строя и не шли против общего течения… На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, т. е. то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции… Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда и никому из своих подчиненных не приказывали идти таковым путем»{40}. Можно признать, что те или иные лица и даже группы людей в составе Белой армии исповедовали и в какой-то мере открыто выражали другие настроения и устремления, в том числе и подразумевающие прямую и полную реставрацию вековых устоев России. Но это никак не определяло основную и официальную линию, в которой, как сказано в той же книге, «нет и тени каких бы то ни было реставрационных вожделений» (с. 14). * * *Интереснейший и в высшей степени основательный исследователь М. В. Назаров, который, кстати сказать, в ряде существенных аспектов понимает проблему Белой армии по-другому, чем я, четко сформулировал (в своей работе «Политический спектр первой эмиграции»): «При всем уважении к героизму белых воинов следует признать, что политика их правительств (не только «правительств» в прямом смысле слова: ведь здесь же М. В. Назаров отмечает, что и «ген. Деникин был «левее», чем его армия». — В.К.) была в основном лишь реакцией Февраля на Октябрь — что и привело их к поражению так же, как незадолго до того уже потерпел поражение сам Февраль»{41}. Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между «новой» и «старой» властями; это была борьба двух «новых» властей — Февральской и Октябрьской. Нельзя, правда, не оговорить, что М. В. Назаров, противореча своему процитированному обобщающему тезису, не раз стремится преуменьшить и ограничить «февралистскую» направленность Белой армии. Он говорит, например, о «февральских элементах (только! — В.К.) в Белом движении» и о том, что «большинство его вождей» шло «на вынужденную зависимость от недружественных России иностранных сил» (там же, с. 184). Но выше уже было показано, что не какие-то там «элементы», а главные руководители — Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак — были несомненными «героями Февраля», и их теснейшая связь (а не «зависимость») с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не «вынужденной». М. В. Назаров немало — и абсолютно верно — говорит о предательском поведении Запада в отношении Белой армии. Но этот вопрос явно имеет двойственный характер. Политика Запада исходила, во-первых, из чисто прагматических соображений, которые для него всегда играли определяющую роль: стоит ли вкладывать средства и усилия в Белую армию, «окупится» ли это? И когда к концу 1918 года Деникину удалось объединить антибольшевистские (в частности, белоказачьи) силы на юге России, Запад стал достаточно щедрым. Рассказав в своих «Очерках русской смуты» о предшествующей катастрофической нехватке вооружения, Деникин удовлетворенно констатировал, что «с февраля (1919 года. — В.К.) начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко»{42}. Не приходится сомневаться, что без этого «снабжения» был бы немыслим триумфальный поначалу поход Деникина на Москву, достигший в октябре 1919 года Орла. Во-вторых, Запад издавна и даже извечно был категорически против самого существования великой — мощной и ни от кого не зависящей — России и никак не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восстановилась. Запад, в частности в 1918–1922 годах, делал все возможное для расчленения России, всемерно поддерживая любые сепаратистские устремления. Деникин подробно рассказал об этом в своем труде — рассказал подчас с достаточно резким возмущением (между прочим, сообщая о весомейшей английской помощи с февраля 1919 года — «пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом, по расчету на 250 тысяч человек», — он тут же с горечью замечает: «Но вскоре мы узнали, что есть… «две Англии» и «две английские политики»…» («Вопросы истории», 1993, № 7, с. 100). Вместе с тем совершенно очевидно, что и самое крайнее возмущение не могло побудить генерала и его соратников не только порвать с Западом, но и хотя бы выступить с протестом против его политики в России. И дело здесь не только в том, что Белая армия была бы бессильной без западной помощи и поддержки. Биограф А. И. Деникина Д. Лехович вполне верно определил политическую платформу Деникина как «либерализм», основанный на вере в то, что «кадетская партия… сможет привести Россию… к конституционной монархии британского типа»{43}; соответственно, «идея верности союзникам (Великобритания, Франция, США. — В.К.) приобрела характер символа веры» (там же, с. 158). Без всякого преувеличения следует сказать, что Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания «верховенства» А. В. Колчака. Дело в том, что еще с ноября 1917 года Деникин был одним из вожаков формирующейся Белой — Добровольческой — армии, а с сентября 1918-го, после кончины М. В. Алексеева, стал ее главнокомандующим. Между тем Колчак лишь через два месяца после этого, в ноябре 1918 года, начал боевые действия против большевиков в Сибири и тем не менее был тут же объявлен Верховным правителем России. И все же Деникин безропотно признал верховенство новоявленного вождя. В пространнейших деникинских «Очерках русской смуты» об этом весьма значительном событии сказано со странной лаконичностью и неопределенностью: «…подчинение мое адм. Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую Верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно» («Вопросы истории», 1994, № 3, с. 104). Александр Васильевич Колчак был, вне всякого сомнения, прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. В отрезке жизни Колчака с июня 1917-го, когда он уехал за границу, и до его прибытия в Омск в ноябре 1918 года много невыясненного, но и документально подтверждаемые факты достаточно выразительны. «17(30) июня, — сообщал адмирал самому близкому ему человеку А. В. Тимиревой, — я имел совершенно секретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном… я ухожу в ближайшем будущем в Нью-Йорк. Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру»{44}, — то есть наемному военачальнику… В начале августа, только что произведенный Временным правительством в адмиралы («полные»), Колчак тайно прибыл в Лондон, где встречался с морским министром Великобритании и обсуждал с ним вопрос о «спасении» России. Затем он опять-таки тайно отправился в США, где совещался не только с военным и морским министрами (что было естественно для адмирала), но и с министром иностранных дел, а также — что наводит на размышления — с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном. В октябре 1917 года Колчака нашла в США телеграмма из Петрограда с предложением выставить свою кандидатуру на выборы в Учредительное собрание от партии кадетов; он тут же сообщил о своем согласии. Но всего через несколько дней совершился Октябрьский переворот. Адмирал решил пока не возвращаться в Россию и поступил… «на службу его величества короля Великобритании»… В марте 1918-го он получил телеграмму начальника британской военной разведки, предписывавшую ему «секретное присутствие в Маньчжурии» — то есть на китайско-российской границе. Направляясь (по дороге в Харбин) в Пекин, Колчак в апреле 1918 года записал в дневнике, что должен там «получить инструкции и информацию от союзных послов. Моя миссия является секретной, и хотя догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней» (цит. изд. с. 29). В конце концов в ноябре 1918 года Колчак для исполнения этой «миссии» был провозглашен в Омске Верховным правителем России. Запад снабжал его много щедрее, чем Деникина; ему были доставлены около миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и т. п. (разумеется, «прагматический» Запад доставил все это под залог в виде трети золотого запаса России…){45}. При Колчаке постоянно находились британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником — капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я. М. Свердлова), принадлежавшим, между прочим, к французскому масонству. Эти представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию. Генерал А. П. Будберг — начальник снабжения, затем военный министр у Колчака — записал в своем дневнике 11 мая 1919 года, что генерал Нокс «упрямо стоит на том, чтобы самому распределять приходящие к нему запасы английского снабжения, и делает при этом много ошибок, дает не тому, кому это в данное время надо»{46} и т. п. Все подобные факты (а их перечень можно значительно умножить) ясно говорят о том, что Колчак — хотя он, несомненно, стремился стать «спасителем России» — на самом деле был, по его же собственному слову, «кондотьером» Запада, и в силу этого остальные предводители Белой армии начиная с Деникина должны были ему подчиняться… Что же касается Запада, его планы в отношении России были вполне определенными. О них четко сказал в 1920 году человек, которого едва ли можно заподозрить в клевете на западную демократию. Речь идет о корифее российского либерализма П. Н. Милюкове. Летом 1918 года из-за своего прямого сотрудничества с германской контрразведкой он вынужден был уйти с поста председателя кадетской партии, и, хотя в октябре того же года принес за это «покаяние», ему уже не пришлось играть ведущую роль в политике. Однако именно эта определенная «отстраненность» дала ему возможность — и смелость — взглянуть правде в глаза. Милюков, который долгие годы беззаветно превозносил Запад и его благородную помощь демократизирующейся России, 4 января 1920 года написал из Лондона своей сподвижнице, знаменитой графине С. В. Паниной, находившейся тогда в Белой армии на Дону: «Теперь выдвигается (на Западе. — В.К.) в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии (выделено самим П. Н. Милюковым. — В.К.) ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов»{47}. И уж если убежденный «западник» Милюков (кстати, находившийся в Великобритании еще с начала 1919 года) сообщает такое, не приходится сомневаться в истинности «диагноза». Разумеется, Белая армия постоянно провозглашала, что она воюет за Россию и ее коренные интересы. Однако есть все основания утверждать, что в действительности борьба Белой армии определялась — пусть даже, как говорится, в известной мере и степени — интересами Запада. Между прочим, М. В. Назаров, хотя он видит многое иначе, чем я, все же недвусмысленно утверждает, что «ориентация Белого движения на Антанту заставила многих опасаться, что при победе белых стоявшие за ними иностранные силы подчинят Россию своим интересам» (цит. соч., с. 218). И эти «опасения» были совершенно верными не только из-за мощного давления «иностранных сил»; сама политическая программа Белой армии в очень многом соответствовала чаяниям Запада. Вот поистине обнажающее всю суть дела рассуждение Деникина: «…та «расплавленная стихия» (то есть «русский бунт». — В.К.), которая с необычайной легкостью сдунула Керенского, попала в железные тиски Ленина — Бронштейна и вот уже более трех лет (Деникин писал это в начале 1921 года. — В.К.) не может вырваться из большевистского плена. Если бы такая жестокая сила… взяла власть и, подавив своеволие, в которое обратилась свобода, донесла бы эту власть до Учредительного собрания, то русский народ не осудил бы ее, а благословил» («Вопросы истории», 1990, № 12, с. 127). Итак, Деникин (хотя он — едва ли сколько-нибудь основательно — приписывает свое мнение «русскому народу») готов «благословить» любое (именно этот смысл в слове «такая» — такая, как у большевиков) жестокое насилие, если оно завершится утверждением в России власти парламента. Это означает, во-первых, что целью для Деникина была все же не Россия, а — как и у большевиков — определенный социально-политический строй, и, во-вторых, что речь шла о строе, угодном Западу: буквально во всех документах, обращенных западными «партнерами» к Белой армии, парламент указывается как совершенно обязательная, неукоснительная цель борьбы. И трудно спорить с тем, что жестокое насилие ради парламентского государства западного типа было, ничуть не более приемлемо для «своевольного» русского народа, чем такое же насилие ради коммунизма… Между прочим, уже упомянутый колчаковский генерал А. П. Будберг 17 октября 1918 года писал в своем дневнике о председателе белого правительства в Сибири кадете П. А. Вологодском, который «заявил, что крестьяне готовы к добровольной самомобилизации (в Белую армию. — В.К.). Последнее заявление в устах главы правительства показывает его легковесность, малоосведомленность и опасное незнание народного настроения; крестьяне, быть может, и готовы к самомобилизации, но именно «само», для защиты своих собственных интересов и для обеспечения себя от прочих «ций» — реквизиций, экзекуций, национализации и т. п. Характерной иллюстрацией к заявлению главы правительства является телеграмма из Славгорода (город в четырехстах километрах юго-восточнее Омска. — В.К.), сообщающая, что по объявлении призыва (в Белую армию. — В.К.) там поднялось восстание, толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду» (цит. изд., с. 229). Уже после полугодового правления Колчака, 18 мая 1919 года, генерал Будберг записал: «Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири… главными районами восстания являются поселения столыпинских аграрников… посылаемые спорадически карательные отряды… жгут деревни, вешают и, где можно, безобразничают. Такими мерами этих восстаний не успокоить… в шифрованных донесениях с фронта все чаще попадаются зловещие для настоящего и грозные для будущего слова «перебив своих офицеров, такая-то часть передалась красным». И не потому, — совершенно верно писал генерал, — что склонна к идеалам большевизма, а только потому, что не хотела служить… и в перемене положения… думала избавиться от всего неприятного» (с. 261). * * *Здесь уместно и важно сделать отступление от нашей непосредственной темы, но отступление, которое позволит глубже понять ход Революции в целом. Упомянув о том, что «главными районами восстания являются поселения столыпинских аграрников», А. П. Будберг позже, 26 августа 1919 года, пишет в своем дневнике еще более определенно: «…главными заправилами всех восстаний являются преимущественно столыпинские аграрники» (с. 308; выделено мною. — В.К.). Для многих людей это сообщение явится, несомненно, неожиданностью, ибо ведь столь уважаемый ныне (и вполне заслуженно уважаемый) П. А. Столыпин полагал, что щедро наделяемые землей в ходе столь тесно связанной с его именем реформы переселенцы явятся как раз надежным противовесом всяческому бунтарству. Петр Аркадьевич — конечно же, выдающийся, даже подлинно великий государственный деятель России. Его политический разум и воля имели огромное значение для преодоления всеобщей смуты, в которую была ввергнута страна в 1905 году. Неоценима та его историческая роль, о которой вскоре после его гибели писал В. В. Розанов: «После долгого времени… явился на вершине власти человек, который гордился тем именно, что он русский, и хотел соработать с русскими. Это не политическая роль, а, скорее, культурная» («Новое время» от 7 октября 1911 года; цит. по перепечатке в «Литературной России» от 30 августа 1991 г.). Вообще во главе государственной власти встал в лице П. А. Столыпина человек высокой культуры, достойный брат (хоть и троюродный) самого Лермонтова. Однако прочно связанная с именем Столыпина «аграрная реформа» явно не могла оправдать возлагавшихся на нее надежд. Об этом сразу же после принятия решения о реформе основательно писал один из виднейших тогдашних экономистов, член-корреспондент Российской академии наук А. И. Чупров (1842–1908). Об его предостережениях недавно напомнил в своей статье «Чупров против Столыпина» кандидат экономических наук Юрий Егоров. В начатой в 1906 году «революции экономической он (Чупров. — В.К.) видел неизбежный пролог революции социальной — ближайшее будущее подтвердило его правоту. И когда Столыпин для своей реформы просил 15–20 лет спокойствия, Чупров и его ученики возражали, что как раз такая реформа лет через десять приведет к социальному взрыву. И в самом деле, о каком успехе могла идти речь, если сами новоявленные собственники в 1917 году с таким энтузиазмом уничтожали частные земельные владения, которые вроде бы должны были защищать» (это явствует и из сообщений А. П. Будберга. — В.К.). Вообще, как утверждал А. И. Чупров, «мысль о… распространении отрубной (или, иначе, хуторской. — В.К.) собственности на пространстве обширной страны представляет собою чистейшую утопию, включение которой в практическую программу неотложных реформ может быть объяснено только малым знанием дела» (см.: Былое. Ежемесячное приложение к журналу «Родина», 1996, № 5, с. 3; выделено мною. — В.К.). К сожалению, «приговор» верен. Жизнь П. А. Столыпина началась и почти целиком прошла (кроме нескольких лет студенчества и службы в Петербурге) в западной части Ковенской губернии (ныне — Литва). С русской деревней он соприкоснулся лишь на пятом десятке, в 1903 году, когда был назначен саратовским губернатором (к тому же вскоре в губернии начались «беспорядки», которые не способствовали объективному изучению деревенского бытия). В Ковенской губернии и в соседней Восточной Пруссии, где часто бывал Петр Аркадьевич, господствовали хуторские хозяйства, сложившиеся в давние времена. И ему в какой-то мере представлялось, что эта — по сути дела, западноевропейская — «модель» может привиться в русском крестьянстве. Однако, будучи перенесенной — к тому же очень поспешно — в совсем иной мир, модель эта дала и совершенно иные результаты, чем на Западе. Русские «хуторяне» оказались даже более склонными к бунту, чем «общинные» крестьяне… Казалось бы, все это принижает личность П. А. Столыпина. Но дело обстояло сложнее, что показал в наше время внимательный историк П. Н. Зырянов. «Столыпинская аграрная реформа, — читаем в его книге о Петре Аркадьевиче, — о которой в наши дни много говорят и пишут, в действительности — понятие условное. В том смысле условное, что она, во-первых, не составляла цельного замысла и при ближайшем рассмотрении распадается на ряд мероприятий, между собой не всегда хорошо состыкованных. Во-вторых, не совсем правильно и название реформы, ибо Столыпин не был ни автором основных ее концепций, ни разработчиком. Он воспринял проект в готовом виде и стал как бы его приемным отцом… но это не значит, что между отцом и приемным чадом не было противоречий. И, наконец, в-третьих, у Столыпина, конечно же, были и свои собственные замыслы, которые он пытался реализовать. Но случилось так, что они не получили значительного развития, ходом вещей были отодвинуты на задний план, зачахли, а приемный ребенок… наоборот, начал расти и набирать силу. Пожалуй, можно сказать; что Столыпин «высидел кукушкина птенчика» (Зырянов П. Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992, с. 44). Сам П. А. Столыпин, доказывает П. Н. Зырянов, «предлагал организовать широкое содействие созданию крепких индивидуальных крестьянских хозяйств на государственных землях». Однако, «когда Столыпин пришел в МВД (Министерство внутренних дел. — В.К.), оказалось, что там на это дело смотрят несколько иначе… В течение ряда лет группа чиновников во главе с В. И. Гурко разрабатывала проект… основные идеи и направления проекта уже сформировались… В отличие от столыпинского замысла, проект Гурко имел в виду создание хуторов и отрубов на надельных (крестьянских) землях (а не на государственных)… ради другой цели — укрепления надельной земли в личную собственность… С агротехнической точки зрения такое новшество не могло принести много пользы… но оно было способно сильно нарушить единство крестьянского мира, внести раскол в общину» (с. 45). Между тем Столыпин «изначально вовсе не хотел насильственного разрушения общины» (с. 53). И П. Н. Зырянов не без оснований констатирует: «Психология государственных деятелей, говорящих одно и делающих другое, — явление поистине загадочное. По-видимому, редко кто из них в такие моменты сознательно лжет и лицемерит. Благие намерения провозглашаются чаще всего вполне искренне… Другое дело, что не они, выступающие с высоких трибун, составляют множество тех бумаг, в которые и выливается реальная политика…» (с. 53). В цитируемом исследовании П. Н. Зырянова убедительно раскрыта противоречивость знаменитой реформы и, в частности, показано, что чиновники (они охарактеризованы историком конкретно, поименно), непосредственно осуществлявшие реформу (Петр Аркадьевич, возглавлявший всю деятельность верховной власти, не мог постоянно держать в руках многогранную практику аграрной реформы), делали не совсем то или даже совсем не то, что имел в виду председатель Совета министров. Он ведь так или иначе предполагал самую весомую роль государства в развитии сельского хозяйства (начиная с предоставления крестьянам государственной земли, а не ориентации на частную земельную собственность) и сохранение (а не целенаправленное разрушение) основ крестьянской общины. Реальность реформы оказалась недостаточно определенной, даже запутанной, но нельзя не учитывать, что историческая ситуация была слишком сложной и напряженной, а к тому же Петру Аркадьевичу было отпущено для осуществления его замыслов всего лишь пять лет… А. П. Будберг называет главных бунтовщиков в Сибири «столыпинскими аграрниками», но — о чем и сказал П. Н. Зырянов — имя великого государственного деятеля употреблено здесь (как и во многих случаях) «условно», в сущности — «неправильно». То, к чему стремился П. А. Столыпин, было, без сомнения, искажено уже при его жизни и особенно после его убийства. * * *Вернемся к сибирскому бунту 1919 года. Большевики, разумеется, использовали этот бунт, и в начале 1920 года колчаковская армия потерпела полное поражение. Однако не прошло и года, и бунт — уже против большевистской власти — разгорелся в Сибири с новой силой — главным образом в округе Тобольска. Мощное народное восстание против власти Колчака достаточно хорошо изучено, но новая сибирская «пугачевщина» конца 1920-го — начала 1921 года до последнего времени оставалась почти «закрытой» темой. В цитированной выше работе М. С. Бернштама, стремившегося выявить все факты «народного сопротивления коммунизму» (что, как уже говорилось, весьма неточно), лишь в одной фразе упоминается, что одновременно с гораздо более широко известным восстанием в Тамбовской губернии «происходило большое восстание в Западной Сибири, поднявшее крестьянство на огромной территории» (цит. соч., с. 21). В течение тридцати лет изучал это действительно грандиозное — хотя и почти полностью забытое — восстание тюменский писатель К. Я. Лагунов. Наконец ему удалось издать крохотным тиражом документальный рассказ об этом безудержном и крайне беспощадном бунте (Лагунов К. …И сильно падает снег. Тюмень, 1992). Он во многом сумел преодолеть любую пристрастность и показал, что равно беспощадны были и повстанцы, и подавлявшая их власть. Помимо прочего, книга К. Я. Лагунова убеждает, что Сибирское восстание по своему размаху, в сущности, превзошло более «знаменитое» Тамбовское (пользуясь случаем, приношу свою благодарность Константину Яковлевичу, приславшему мне свою предельно малотиражную книгу, которая иначе едва ли бы оказалась в моих руках). Нельзя не отметить, что характеристика Тобольского восстания нуждается в некоторых уточнениях. К. Я. Лагунов говорит в конце своего труда: «Я хочу, чтобы эта книга стала первой свечой, зажженной в память о безвинно убиенных в зиму 1920–1921 года. В память о «белых» и «красных»; о тех, кто восстал, и о тех, кто подавил восстание» (с. 234). Слово «белых» здесь явно совершенно неуместно, ибо речь идет о народе, восставшем против «красных» точно так же, как ранее против «белых». Между прочим, и сам К. Я. Лагунов на предыдущей странице говорит о сибиряках, которые поднялись «на бессмысленный бунт» (с. 233; о Пушкине не упоминается, ибо его слова давно стали как бы ничьими, словами самой Истины). Но ведь к белым в истинном значении слова это определение («бунт») никак не применимо, — не говоря уже о том, что до победы красных те же самые сибиряки бунтовали против белых… Тот факт, что в книге К. Я. Лагунова, как говорится, не вполне сведены концы с концами, ясно выражается и в другом «противоречии»: с одной стороны, писатель гневно клянет «красных» за жесточайшие меры против бунта, с другой же — сообщает, что весна 1921 года «властно поманила крестьянина к земле… Чтоб воротиться к привычному делу, труженик не только спешил покинуть повстанческие полки, но и помогал Красной армии поскорее заглушить пламя восстания»… (с. 225). Естественно вспоминаешь о сподвижниках Пугачева, доставивших его капитан-поручику Маврину. Таким образом, выявляется реальная историческая ситуация, о которой в книге К. Я. Лагунова не сказано с должной четкостью: красные и белые воюют между собой за власть, но одновременно и тем и другим приходится отчаянно бороться с «русским бунтом», который, по признанию Ленина и Троцкого, представлял наибольшую опасность («во много раз, — по словам Ленина, — превышающую» угрозу со стороны всех белых, «сложенных вместе») для красных и, без сомнения, точно так же для белых… И Деникин в приведенном выше рассуждении начала 1921 года сказал именно об этом, выражая свою мечту (да, только мечту…) о такой же, как у красных, «жестокой силе», которая бы «взяла власть и, подавив своеволие (то есть «русский бунт». — В.К.)… донесла бы эту власть до Учредительного собрания». Когда он это писал, красные все еще продолжали «подавлять своеволие». * * *В своей совокупности и взаимосвязи изложенные факты и мнения (сами по себе, по отдельности, подчас вроде бы не столь уж фундаментальные) дают основания для действительно фундаментальных выводов. Война между Белой и Красной армиями как таковая имела в конечном счете гораздо менее существенное значение, чем воздействие и на белых, и на красных всеобъемлющего «русского бунта». Так, например, если бы весной 1919-го не вспыхнуло восстание донского казачества (то самое, которое запечатлено в «Тихом Доне»), армия Деникина вряд ли смогла бы совершить свой поход на Москву, достигший Орла. Точно так же Красная армия не сумела бы в конце 1919-го — начале 1920 года менее чем за два месяца выбить армию Колчака из Сибири, если бы не мощное народное восстание против власти белых, основную массу участников которого большевики явно неадекватно называли «красными партизанами»: ведь многие из этих самых «партизан» менее чем через год взбунтовались уже против большевистской власти… А. П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: «…теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас» (с. 310). Но через год это могли бы уже сказать, напротив, красные. Чтобы со всей очевидностью понять относительную «незначительность» войны между Белой и Красной армиями в общей картине того времени, достаточно обратиться к цифрам человеческих потерь в этой войне. Благодаря недавнему рассекречиванию архивных материалов выяснено, что в 1918–1922 годах так или иначе погибли 939 755 красноармейцев и командиров{48}. Что касается Белой армии, о ее потерях есть только ориентировочные суждения; согласно одним из них, количество погибших было примерно то же, что и в Красной, согласно другим — значительно меньшее. Допустим, что в общей сложности обе армии потеряли все же около 2 миллионов человек. Но в целом человеческие жертвы — даже не считая умерших в условиях всеобщей разрухи малых детей{49} — составили за 1918–1922 годы примерно около 20 миллионов человек, — то есть на целый порядок больше! Ведь из тех 147,6 миллиона человек, которые жили на территории будущего СССР (в границах до 1939 года) в 1917 году, за следующие десять лет исчезли — согласно вполне достоверным данным переписи 1926 года — 37,5 миллиона человек, то есть каждый четвертый (точно — 25,5 %)! Для осознания всей громадности людских потерь тех лет следует вдуматься в следующее сопоставление. В 1926 году, как и в 1917-м, в стране жили именно 147 млн. человек (это совпадение дает особенную наглядность), и за следующие десять лет (то есть в 1927–1936 годах), несмотря на тяжелейшие потери в период коллективизации, из этих 147 млн. умерли 21,7 млн. человек — то есть почти на 16 миллионов (!) меньше, чем за предыдущие десять лет, в 1917–1926 годах (все это рассматривается мною в специальной статье){50}. Понятно, что из 37,5 миллиона людей, умерших за первое десятилетие после 1917 года (не считая детей до 10 лет), многие ушли из жизни в силу «естественной» смертности; но около 20 миллионов были жертвами Революции (во всем объеме этого явления). Даже по официальной статистике к концу 1922 года в стране было 7 миллионов (!) беспризорных — то есть лишившихся обоих родителей — детей…{51} Как уже говорилось, потери Красной и Белой армий вместе взятых не превышают двух миллионов военнослужащих; остальные около 18 миллионов — это так называемое мирное население, гибель которого тогда, по существу, не «учитывалась». И это с беспощадной очевидностью показывает, что «главное» было не в самом по себе столкновении Белой и Красной армий. Но прежде чем говорить о наиболее трагической сущности Революции, надо завершить разговор о проблеме двух армий. М. В. Назаров (который — подчеркну еще раз — по-иному понимает некоторые стороны проблемы), говоря о несомненной «ориентации Белой армии на Антанту», на Великобританию, Францию и США, — ориентации, которая в случае победы белых привела бы к подчинению России иностранным силам, делает следующий вывод: «В немалой степени это обстоятельство… толкнуло к большевикам и ту часть офицеров, которые не стали… служить в Красной армии (как ген. Брусилов; всего добровольно или вынужденно по этому пути пошло не менее 20 процентов офицеров Генштаба)» (цит. соч., с. 218). Нельзя не отметить, что «20 процентов» — это весьма значительное и даже, если разобраться, очень значительное преуменьшение доли офицеров Генштаба, оказавшихся в Красной армии. Умевший собирать информацию В. В. Шульгин писал — и, как теперь выяснено, справедливо — еще в 1929 году: «Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много»{52}. М. В. Назаров ссылается на статью эмигранта генерала А. К. Баиова (кстати сказать, его родной брат генерал-лейтенант К. К. Баиов служил в Красной армии!), опубликованную в 1932 году в парижской газете «Часовой», и трактат превосходного военного историка А. Г. Кавтарадзе, изданный в 1988 году в Москве. Но М. В. Назаров принимает на веру именно цифру А. К. Баиова, который не имел возможности подсчитать количество офицеров в Красной армии. Между тем А. Г. Кавтарадзе по документам установил количество генералов и офицеров Генерального штаба, служивших в Красной армии (преобладающее большинство из них предстает в его книге даже поименно), и выяснилось, что отнюдь не 20, а 33 процента их общего количества оказались в Красной армии{53}. Если же говорить об офицерском корпусе вообще, в целом, то в Красной армии служили, по подсчетам А. Г. Кавтарадзе, 70 000–75 000 человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава (меньшая доля, чем из числа генштабистов, — что имело свою многозначительную причину). Однако и эта цифра — 30 процентов — в сущности, дезориентирует. Ибо, как доказывает А. Г. Кавтарадзе, еще 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо армейской службы вообще (указ. соч., с. 117). А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, в Белой же — 57 процентов (примерно 100 000 человек). Но особенно выразителен тот факт, что из «самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии — корпуса офицеров Генерального штаба» (с. 181) в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов — то есть в самом деле около половины — продолжавших служить после октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек (цит. соч., с. 196–197). Итак, почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии! До последнего времени приведенные цифры никому не были известны: этот исторический факт не хотели признавать ни белые, ни красные (поскольку тем самым выявлялась одна из истинных, но не делающих им чести причин их победы над белыми); однако это все же непреложный факт. Между прочим, его достаточно весомо воссоздавала художественная литература; вспомним хотя бы образ полковника Генштаба Рощина в «Хождении по мукам» А. Н. Толстого. Но этот всецело характерный для эпохи образ воспринимался большинством читателей как некое исключение, как отклонение от «нормы». Конечно, можно попытаться утверждать, что генералы и офицеры шли в Красную армию по принуждению, или с голодухи, или для последующего перехода к белым (впрочем, из Белой армии в Красную перешло гораздо больше офицеров, чем наоборот). Но, когда речь идет о выборе, который сделали десятки тысяч человек, подобные объяснения не представляются достоверными. Дело обстоит, без сомнения, значительно сложнее. Между прочим, недавно был опубликован подсчет, согласно которому (цитирую) «общее количество кадровых офицеров, участвовавших в Гражданской войне в рядах регулярной Красной армии, более чем в 2 раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых» («Вопросы истории», 1993, № 6, с. 189). Но это, очевидно, преувеличение. «Достаточно» и того, что количество офицеров в Белой армии не намного превышало их количество в Красной. Размышляя об этом — могущем показаться парадоксом — историческом факте, следует прежде всего осознать, что служа — нередко на самых высоких и ответственных постах (например, из 100 командиров армий у красных в 1918–1922 годах 82 были «царскими» генералами и офицерами) — в Красной армии, эти офицеры и генералы сами не становились «красными». А. Г. Кавтарадзе подчеркивает, например, говоря о кадровых офицерах, что «среди них членов партии большевиков насчитывались буквально единицы. Реввоенсовет Республики отмечал в 1919 году, что, «чем выше была командная категория, тем меньшее число коммунистов мы могли для нее найти…» (с. 211). Все говорит о том, что русские офицеры и генералы, «избиравшие» для себя Красную армию (или, по крайней мере, большинство из них), делали тем самым выбор из двух зол в пользу зла, представлявшегося им меньшим. Это были люди, которые, надо думать, хорошо знали своих коллег по воинской службе и отчетливо видели, что во главе Белой армии стоят исключительно «дети Февраля», его нераскаявшиеся до самого конца выдвиженцы. Явно не хотели иметь дела с Белой армией те офицеры, которые с самого начала восприняли Февраль как разрушение государства (и прежде всего — армии) или же вовремя «прозрели». Между тем главные деятели Белой армии если и прозревали, то уже в эмиграции (как, например, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский). Сейчас даже как-то странно читать, например, недавно впервые опубликованный дневник одного из наиболее видных деятелей Белой армии — дворянина из донских казаков, генерал-лейтенанта А. П. Богаевского. Он был ближайшим сподвижником А. И. Деникина (а позднее — П. Н. Врангеля) и в феврале 1919 года стал войсковым атаманом Войска Донского (сменив на этом посту более «консервативного» П. Н. Краснова); некоторое время он был даже председателем «Правительства Юга России». В советской историографии Африкан Богаевский нередко изображался как «ярый реакционер», «монархист» и т. п. Но вот его задушевная запись в дневнике, сделанная в Екатеринодаре 1 марта 1920 года: «…сформировано Южнорусское правительство… вместе дружно работают — социалист П. М. Агеев (министр земледелия) и кадет В. Ф. Зеелер (министр внутренних дел, видный масон; кроме него, в последнее деникинское правительство вошли масоны М. В. Бернацкий, Н. В. Чайковский и др. — В.К.). Я очень рад, что мой совет А. И. Деникину и Мельникову (новый глава правительства. — В.К.) назначить Агеева министром сделал свое дело… Итак, Глава есть. Правительство — тоже. Дело стало за Парламентом, как полагается во всех благовоспитанных демократических государствах»{54}. И это пишется всего за 12 дней до того момента, когда Богаевский на одном из последних пароходов отчалил из Новороссийского порта «под огнем красных…» (там же, с. 33)! Не менее примечательна запись, сделанная Богаевским через месяц, 30 марта 1920 года, в последнем пристанище Белой армии — Севастополе. Вспоминая об обороне Севастополя в 1854–1855 годах, Богаевский начинает свою запись так: «Суровый царь был — Император Николай Первый… тяжкой памятью в истории России останутся годы бесчеловечного рабства… жесток был гнет полицейско-жандармского режима и управления «40 тысяч чиновников»…»{55} (последнее выражение, по-видимому, видоизмененная цитата из монолога Хлестакова, хотя Богаевский этого не осознает…). Словом, перед нами человек, насквозь пропитанный либеральным прекраснодушием и пустословием, человек, от которого нельзя было ожидать реальной созидательной деятельности в армии и государстве… И вполне естественно, что исполненных государственно-патриотическим сознанием офицеров и генералов не привлекала Белая армия. Было точно подсчитано, что 14 390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (то есть каждый седьмой){56}. Чтобы еще яснее понять, почему почти половина офицеров и генералов Генерального штаба оказалась в Красной армии, стоит вдуматься в слова из «Книги воспоминаний» деятельнейшего русского адмирала — великого князя Александра Михайловича, о котором уже шла речь выше. Еще раз скажу, что это был выдающийся представитель семейства Романовых, человек подлинно высокой и многогранной культуры, профессионально владевший морским и авиационным делом и в то же время вовсе не чуждый искусству и философии (чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с его суждениями о творчестве Н. С. Лескова и В. В. Розанова). В отличие от нелепо либеральничавших великих князей Николая Николаевича, Кирилла Владимировича, Павла Александровича, Николая, Сергея и Георгия Михайловичей (последние трое были его родными братьями), он ясно понимал суть Февраля. Прежде чем процитировать его слова, следует напомнить, что более двадцати его родственников были зверски убиты большевиками вместе с его двоюродным племянником и родным братом его жены Ксении Александровны Николаем II; в числе убитых и трое его родных братьев («либеральных»). Тем не менее вот какое заявление сделал он в эпилоге «Книги воспоминаний» накануне своей кончины (он умер в 1933 году в Париже) как своего рода завещание: «По-видимому, «союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию», — писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом (британский «нефтяной король». — В.К.) или же следуя просто старой программе Дизраэли — Биконсфилда (влиятельнейший государственный деятель Великобритании в 1840–1870-х годах. — В.К.), британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар… Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своею собственною изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи…»{57} Нынешнее модное поклонение (в частности, по закону контраста) Белой армии привело к тому, что в царских офицерах и генералах, служивших в Красной армии, хотят видеть корыстных приспособленцев. Однако у умиравшего в Париже великого князя Александра Михайловича не было, да и не могло быть никаких «практических» мотивов для подлаживания к большевикам. Он думал только о судьбе России, во главе которой триста лет находились его предки, включая его родного деда Николая I (как мы видели, «разоблачаемого» даже и в 1920 году белым генералом Африканом Богаевским). И к его приведенным только что словам, без сомнения, с чистой совестью присоединились бы многие из десятков тысяч служивших в Красной армии генералов и офицеров. Необходимо со всей определенностью сказать, что дело было не только в очевидном настоятельном стремлении большевиков сохранить — по мере возможности — государственное пространство России. Не менее существенно было и целенаправленное созидание прочной государственной структуры начиная с самой армии. И здесь следует вспомнить приведенные выше суждения «черносотенца» Б. В. Никольского (октябрь 1918 года) о том, что большевики созидают «вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают», выступая как «орудие исторической неизбежности», притом осуществляют эту неизбежность «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей» (в первую очередь, конечно, из деятелей Февраля, в том числе и стоявших тогда, осенью 1918 года, во главе Белой армии). Вполне понятно, что Б. В. Никольский был абсолютно не согласен с большевистскими планами строительства социализма-коммунизма и с программой «мировой революции». Речь шла только о том, что можно определить как восстановление «костяка», «скелета» России (что на нем будет наращиваться — это уже следующий, второй вопрос). Но деятели Февраля были явно не способны восстановить хотя бы этот самый костяк… И потому-то отношение к укрепляющейся большевистской власти, которое выразилось в размышлениях Б. В. Никольского и великого князя Александра Михайловича, а также в жизненном выборе почти половины генералов и офицеров Генерального штаба и т. д. и т. п., было проявлением истинного патриотизма, мучительно озабоченного вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент… Мне могут с недоумением — и возмущением — напомнить о том, что очень значительная часть генералов и офицеров, служивших в Красной армии, позднее была безжалостно репрессирована. Их участь может показаться неопровержимым аргументом в пользу мнения о том, что «выбор», сделанный этими людьми, был их заведомой и страшной ошибкой. Однако еще более значительная часть собственно большевистских командиров Красной армии также подверглась жестоким репрессиям. Во всех революциях неумолимо действует своего рода закон: подобно мифологическому титану Кроносу, они пожирают своих собственных детей. Ныне весьма популярно представление, согласно которому в «красной» России власть захватили «иудо-масоны», или, быть может, правильнее выражаясь, «иудеомасоны» (огрубленный вариант — «жидомасоны»). Но это словечко, если основываться на действительном, реальном положении вещей, приходится разделить надвое. В составе «красной» власти в самом деле было исключительно много иудеев или, точнее, евреев. Но что касается масонов, они-то находились как раз в составе «белой», а вовсе не «красной»{58} власти (влиятельных же евреев среди белых, напротив, было очень мало — М. М. Винавер, А. И. Каминка, М. С. Маргулиес, Д. С. Пасманик, М. Л. Слоним и еще немногие люди, которых можно было бы занести в рубрику «иудеомасоны»). Правда, почти все наиболее знаменитые деятели-масоны, из которых состояло Временное правительство, а также президиум и секретариат Совета рабочих и солдатских депутатов, не могли действовать непосредственно в Белой армии; они были слишком скомпрометированы. Но множество менее «одиозных» лиц играли решающую политическую роль в Белом движении, о чем говорится, в частности, в указанной выше книге Лоллия Замойского «За фасадом масонского храма» (с. 265–267). М. В. Назаров справедливо утверждает, что именно масоны «взяли на себя (при поддержке западных эмиссаров) организационно-политические дела в тылу Белых армий, обещая поддержку Антанты… Особенно заметно участие масонов в антибольшевистских правительствах: Н. Д. Авксентьев (он, кстати сказать, побывал и в министрах Временного правительства. — В.К.) во главе Уфимской директории, Н. В. Чайковский во главе Северного правительства в Архангельске, не говоря уже о многих их министрах и сотрудниках. Северо-Западное правительство при ген. Юдениче возглавил С. Г. Лианозов. («Думаю, все это правительство составлялось «союзниками» из масонов», — писал Р. Гуль). Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина. У Врангеля их, кажется, было меньше, поскольку он свел гражданскую администрацию к минимуму». И заключает М. В. Назаров так: «…о масонской принадлежности своих правителей-тыловиков, конечно, вряд ли могли знать белые бойцы да и сами их генералы» (цит. изд., с. 115). Все это в целом совершенно верно, но необходимы и некоторые уточнения. Начну с конца. Да, «бойцы» и даже генералы Белой армии едва ли знали, что делавшие политику в их стане люди принадлежат к масонству. Но направленность этой политики все же осознавалась. Так, один из наиболее выдающихся военачальников Белой армии генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский (он — единственный среди белых — получил такого рода «именование», призванное поставить его в один ряд с Потемкиным, Суворовым, Кутузовым) 5 апреля 1920 года писал в своем «рапорте» П. Н. Врангелю (с пометой «Секретно в собственные руки»): «Сейчас в Вашем штабе остались лица Керенского направления… к этому присоединяются карьеризм и переменчивость взглядов некоторых старших начальников». Генерал назвал даже и вполне конкретное имя, утверждая, что начальники-карьеристы «портят все дело… проведением на государственные должности «лиц», подобных Оболенскому»{59}. Князь В. А. Оболенский (1869–1950) был одним из влиятельнейших деятелей масонства, членом его немногочисленного «Верховного совета». И, надо думать, именно понимание политической сути Белого движения не в последнюю очередь определило уход Я. А. Слащова в отставку 2 августа 1920 года (то есть менее через четыре месяца после процитированного «рапорта») и его позднейшую — в ноябре 1921 года — просьбу о принятии его в Красную армию… Характерно заглавие статьи Я. А. Слащова о смысле борьбы Белой армии, — заглавие, в которое стоит вдуматься: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». Но вернемся к рассуждению М. В. Назарова. Сказав о том, что главные политические руководители Белого движения в Уфе, Архангельске и Ревеле (Таллине) являлись масонами, он пишет: «Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина». Эту фразу вполне можно понять в том смысле, что в основных центрах Белой армии роль масонов была не очень уж значительной. А между тем дело обстояло по-иному. Так, скажем, в июле 1919 года — в период наибольшего подъема Деникина — его правительство («Особое совещание») состояло из 24 человек. Шестеро из них — это генералы (а военные, как уже сказано, почти не вступали в масонство), но из остальных 18 человек 8 «начальников управлений» (то есть министерств), притом важнейших, были масонами: начальник управления внутренних дел Н. Н. Чебышев, юстиции В. Н. Челищев, земледелия В. Н. Колокольцев, финансов М. В. Бернацкий, вероисповеданий Г. Н. Трубецкой, государственного контроля В. А. Степанов и наиболее важные «министры без портфеля» Н. И. Астров и М. М. Федоров{60}. Словом, Деникин, как и Гучков в феврале, «был, — пользуясь определением В. И. Старцева, — окружен масонами со всех сторон», и его политика «была все-таки масонской»… И дело здесь, разумеется, не в самом этом ярлыке «масонство», но в стоящей за ним программе, которая отнюдь не определялась подлинными интересами России — как ее государства, так и ее народа. Мне возразят, что и «красная» политика не определялась этими интересами, — хотя бы уже в силу неслыханных жертв и разрушений, к которым она привела страну. Но эту исключительно сложную и острую тему мы еще будем исследовать. P.S. Когда эта глава моего сочинения уже была сдана в набор, на прилавках появилась книга не раз упомянутого выше У. Лакера «Черная сотня. Происхождение русского фашизма», изданная в Москве «при поддержке» пресловутого «Фонда Сороса». Благодаря этой «поддержке» книга вышла немалым в нынешних условиях тиражом и продается по весьма низкой цене. Поэтому было бы неправильным умолчать о ней в этом сочинении. Нечто подобное фашизму, без сомнения, имело место в России XX века. Так, например, 17 сентября 1918 года в одной из влиятельнейших тогда газет, «Северная коммуна», было опубликовано следующее беспрецедентное требование члена ЦК РКП(б) и председателя Петросовета Г. Е. Зиновьева (с 1919-го — глава Коминтерна): «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать»{61}. И, как было показано выше, за последующие четыре года жертвами стало даже в два раза больше людей — примерно 20 (а не 10) миллионов… Но Лакер об этом даже не упоминает и пытается углядеть фашизм в совсем иных явлениях; к тому же он определяет его уже в самом заглавии книги как «русский». Основы этого фашизма заложил, как утверждает Лакер, Союз русского народа, который, оказывается, исповедовал «расизм»{62}, как и впоследствии германские фашисты. Написав об этом, Лакер, по всей вероятности, испугался, что лживость его утверждения будет слишком очевидна, и счел нужным сделать оговорку: «Чистокровный, примитивный расизм нельзя было внедрять в стране, где половина населения была нерусского происхождения… Можно было еще взять курс на изгнание или уничтожение всех нерусских, однако такое решение было бы чересчур радикальным для партии, которая хотя и шла к фашизму, но была еще далека от этих неясных целей» (с. 64–65). Итак, Союз русского народа вообще-то жаждал изгнать или уничтожить «всех нерусских», однако еще не дозрел до этого; к тому же было, так сказать, и объективное препятствие: половину населения Империи составляли-де «нерусские». Что сказать по этому поводу? Провозглашение половины населения Империи «нерусским» — это фальсификация, грубая даже и для уровня Лакера. Ведь любой чуть-чуть знакомый с проблемой человек знает, что для Союза русского народа «русскими» являлись в равной мере все три восточнославянских племени, более того, самыми многочисленными сторонниками Союз располагал среди малороссов-украинцев. И потому русские (великороссы, малороссы и белорусы) составляли не 50, а около 70 процентов населения страны. Но, может быть, Лакер прав по отношению к остальным 30 процентам, и Союз русского народа если и не уничтожал их, то, во всяком случае, относился к ним как к враждебным чужакам? Забавно, что сам Лакер тут же себя опровергает. Ему хочется дискредитировать «черносотенцев» во всех возможных аспектах, и, стремясь показать их национальную «несостоятельность», он сообщает, что немало видных «черносотенных» деятелей «было нерусского происхождения: Пуришкевич, Грингмут, Бутми де Кацман, Крушеван, генерал Каульбарс, Левендаль, Энгельгардт, Плеве, Пеликан, генерал Ранд, Рихтер-Шванебах и другие» (с. 69). Перечень таких нерусских лидеров «черносотенства» можно продолжать и продолжать. Но как это совместить с «расизмом» — или хотя бы с национализмом — Союза русского народа? Что это за националисты, которые избирают в качестве вожаков многочисленных людей иного национального происхождения? Впрочем, к насквозь лживой книге Лакера мы еще вернемся; здесь же нельзя не сказать об его рассуждении о российском масонстве XX века, поскольку я подробно рассматривал эту тему. Лакер не отрицает (да это и невозможно) существование масонов в революционной России, но без всяких аргументов утверждает, что они не играли хоть сколько-нибудь существенной роли. Их «миссия» в Феврале — это-де выдумка нескольких эмигрантов и современных русских историков. Трудно поверить, что Лакер ничего не знает о целом ряде работ западных историков (Л. Хаймсон, Б. Нортон, Н. Смит, Б. Элкин и др.){63}, пришедших, в сущности, к тем же выводам, что и их русские коллеги. Словом, перед нами опять заведомая ложь. Впрочем, это обычный «прием» Лакера. Так, например, он упоминает коллективный труд «Погромы: противоеврейское насилие в новейшей русской истории», изданный в 1992 году Кембриджским университетом (я писал о нем; см. «Наш современник», 1994, № 8, с. 138–140), и даже дает ему высокую оценку: «Глубокое исследование причин и обстоятельств погромов» (с. 56). В этом труде показано, в частности, что «черносотенцы» отнюдь не устраивали погромов. Однако Лакер всего через две страницы беспардонно пишет, что-де Н. Е. Марков планировал, как «в грядущих погромах погибнут все евреи, до последнего» (с. 59). Но на каких же основаниях Лакер отвергает все многочисленные исследования о роли масонства в Февральской революции? А крайне просто: он ссылается на написанную еще в 1981 году книгу воинствующего советского историка А. Я. Авреха «Масонство и революция», которая якобы содержит истину в последней инстанции (с. 20). Из книги Авреха можно узнать, что историки, говорящие о роли масонства, «практически отвергают марксистско-ленинскую концепцию развития революционного процесса в России»{64}. Это в самом деле так, и Аврех — вслед за «академиком И. И. Минцем», на статью которого он почтительно ссылается в своей книге, — ринулся отстаивать сию концепцию. Так что Лакер — хочет он того или не хочет — оказывается единомышленником Авреха и Минца. Могут возразить, что в книге Лакера есть нападки на тех или иных коммунистов. Это действительно так, но с одним в высшей степени многозначительным уточнением: Лакеру не нравятся те коммунисты, которые хоть в какой-либо мере склонны к патриотизму. Истинный враг для Лакера — вовсе не коммунизм (в любом смысле этого слова), но Россия. И это необходимо осознать каждому, кто возьмет в руки его книгу, — как, кстати сказать, и многие другие западные сочинения о России…. >ИСТОРИОСОФСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: О византийском и монгольском «наследствах» в судьбе России >Размышление о «черносотенцах» и Революции было сосредоточено на очень кратком — хотя и поистине перенасыщенном событиями и конфликтами — периоде русской истории: это всего лишь полтора десятилетия — с 1905 по 1921 год. Но в силу беспримерной динамики и обостренности этого периода, в нем, надо думать, должны были так или иначе воплотиться основные, сущностные особенности всего русского бытия, каким оно складывалось в течение веков. И для более глубокого и полного понимания того, что происходило в начале XX века, необходимо хоть в какой-то мере иметь в виду эти тысячелетние основы России, — для чего следует обратиться даже не к русской истории как таковой (то есть многовековой цепи событий), но к «смыслу» русской истории, то есть, пользуясь давно существующим, но до последнего времени прочно забытым и, более того, «запрещенным» термином, — к русской историософии. Вместе с тем невозможно, разумеется, изложить эту историософию во всем ее объеме сколько-нибудь кратко. Поэтому я избираю для рассмотрения две стороны, две координаты исторического пути Руси-России — ее взаимосвязи с Византийской и Монгольской империями — взаимосвязи, которые, несомненно, играли громадную судьбоносную роль (чего не отрицал, пожалуй, ни один из авторитетных мыслителей, касавшихся этих взаимосвязей, хотя их роль толковалась и оценивалась принципиально различным образом). Размышляя о двух указанных. взаимосвязях, можно, как представляется, сделать существенные выводы об основах русского пути вообще, в целом (например, об его идеократическом и евразийском характере; понятия эти будут уяснены в дальнейшем изложении). То, что произошло в России в 1905–1921 годах, имеет самые что ни есть глубокие исторические корни, и предлагаемое «Историософское приложение» призвано так или иначе выяснить неотвратимую «закономерность» пережитого нашей страной катаклизма. >Русь и «Царство ромеев» Понимание и ценностное восприятие Византийской империи в русском самосознании допетровского времени и, с другой стороны, в идеологии XIX–XX вв. очень существенно, даже принципиально расходятся. Говоря кратко и просто, до XVIII века Византия воспринималась на Руси — в общем и целом — в самом положительном духе, а в последующее время для наиболее влиятельных идеологов характерно негативное отношение к ней. Правда, в конце XIX — начале XX в. начинает складываться и противоположная тенденция (особенно ярко выразившаяся в течении евразийства), но она, в свою очередь, наталкивается на сильное сопротивление, и можно без преувеличения утверждать, что и сегодня очень широко распространена более или менее «отрицательная» оценка роли Византийской империи в истории России. Тут мне почти наверняка возразят, что дело обстоит не совсем так, ибо общепризнано позитивное значение приятия Русью христианства от византийской церкви. Однако, рассматривая проблему во всей ее многосторонности, мы убедимся, что она значительно более сложна и противоречива. Во-первых, существует и в последнее время усиливается стремление переоценить уже и само по себе обращение к христианству, подавившему восточнославянские языческие верования, которые, по убеждению сторонников этого взгляда, воплощали в себе подлинно самобытные начала Руси. С другой стороны, многие историки — и это не случайно — пытались и пытаются доказать, что русские в действительности восприняли христианство не из Византии, но либо из Болгарии (см., например, работы влиятельного в свое время историка М. Д. Приселкова), либо из Моравии (Н. К. Никольский), либо от норманнов-варягов (Е. Е. Голубинский); в последнее время была выдвинута еще особая версия об ирландском происхождении русского христианства (наш современник А. Г. Кузьмин). Наконец, очень многие из тех историков и идеологов, которые признают византийские истоки христианской Руси, вместе с тем стремились и стремятся утвердить представление о том, что древнерусская церковь — как и Древняя Русь в целом — с самого начала находилась будто бы в состоянии упорной борьбы с Византией за свою независимость, каковой, мол, постоянно угрожал Константинополь. Так, великий деятель Русской Церкви и культуры XI века, митрополит Киевский Иларион преподносится в качестве своего рода непримиримого борца с византийской церковью, и созданное Иларионом гениальное «Слово о Законе и Благодати» с XIX века и до нашего времени пытаются толковать как якобы противовизантийское по своей основной цели и смыслу выступление. Между тем подобное истолкование поистине нелепо; чтобы убедиться в этом, достаточно беспристрастно вдуматься хотя бы в следующее суждение митрополита Илариона — в его слова о «благоверении земли Греческе, христолюбии же и сильне Верою, како единого Бога в Троици чтут и кланяются, како в них деются силы и чудеса и знамения, како церкви люди исполнены, како вси града благоверени, вси в молитвах предъстоят и вси Богови простоят…» Или слова о Владимире Святославиче, который «принесъша крсть (крест) от Новага Иерусалима — Константина града». Выдающийся историк М. Н. Тихомиров не без иронии заметил в свое время: «В таких словах нельзя было говорить против Византии»{1}… Но и до сего дня Илариона тщатся изобразить неким принципиальным врагом Византии и ее Церкви… Все это не могло не иметь существенной причины. И дело здесь, как я буду стремиться доказать, в том, что начиная со времени Петра I Россия и вполне реально, практически устремилась на Запад, и в своем самосознании испытывала мощнейшее воздействие западной идеологии. А Запад издавна, — можно даже сказать извечно, — непримиримо противостоял Византии. …В V веке «варварские» племена, создавшие впоследствии современную западноевропейскую цивилизацию и культуру, беспощадно разгромили ослабевший Рим. Словно предвидя эту участь великого города, римский император Константин I Великий еще в 20-е годы предыдущего, IV века перенес центр Империи на 1300 км к Востоку, в древний греческий город Византии, получивший затем имена «Новый Рим» и «Город Константина» (Константинополь). Этот город, в отличие от Рима, сумел отстоять себя в борьбе с «варварами», и Византия явилась единственной прямой наследницей античного мира и прожила свою богатую и сложную историю, длившуюся более тысячи ста лет. Правда, в 1204 году — через восемь столетий после разгрома Рима — в «Новый Рим» вторглись далекие потомки тех самых варваров — крестоносцы. В основанной на многолетних разысканиях книге М. А. Заборова «Крестоносцы на Востоке» (1980) сообщается, в частности: «В разрушительных оргиях погибли… замечательные произведения античных художников и скульпторов, сотни лет хранившиеся в Константинополе. Варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. Они умели ценить только металл. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитектурные и скульптурные памятники, подвергались полному уничтожению. Впрочем, и металл получил у них своеобразную оценку. Для того чтобы удобнее было определить стоимость добычи, крестоносцы превратили в слитки массу расхищенных ими художественных изделий из металла. Такая участь постигла, например, великолепную бронзовую статую богини Геры Самосской… Был сброшен с постамента и разбит гигантский бронзовый Геркулес, творение гениального Лисиппа (придворного художника Александра Македонского)… Западных вандалов не остановили ни статуя волчицы, вскармливавшей Ромула и Рема… ни даже изваяние Девы Марии, находившееся в центре города… В 1204 г. западные варвары… уничтожили не только памятники искусства. В пепел были обращены богатейшие константинопольские книгохранилища… произведения древних философов и писателей, религиозные тексты, иллюминованные евангелия… Они жгли их запросто, как и все прочее… Византийская столица никогда уже не смогла оправиться от последствий нашествия латинских крестоносцев»{2}. Картина впечатляющая, но необходимо осознать, что едва ли сколько-нибудь уместны употребленные в этом тексте слова «варвары» и «вандалы»; к XIII веку западноевропейская средневековая культура была уже достаточно высоко развита, — ведь это время Проторенессанса; архитектура, церковная живопись и скульптура, прикладное искусство, письменность Западной Европы переживали период расцвета, — что показано, например, в классической работе О. А. Добиаш-Рождественской «Западное средневековое искусство» (1929). Словом, поведение крестоносцев диктовалось не их чуждостью культуре вообще, но чуждостью и, более того, враждебностью по отношению именно к Византии и ее культуре, — потому и вели они себя примерно так же, как их действительно еще «варварские» предки, захватившие Рим в далеком V столетии… Чтобы признать справедливость этого утверждения, достаточно, полагаю, познакомиться с «позицией» основоположника ренессансной культуры Запада — Франческо Петрарки. Через полтора столетия после захвата Константинополя крестоносцами, в 1352 году, Византии в очередной раз нанесли тяжелейший ущерб генуэзские купцы-пираты (генуэзцы и венецианцы вообще сыграли главную роль в крушении Византии; турки в 1453 году захватили уже почти бессильный к тому времени Константинополь). И Петрарка (которого не заподозришь в недостатке культуры!) писал в своем послании «Дожу и Совету Генуи», что он «очень доволен» разгромом «лукавых малодушных гречишек» и хочет, «чтобы позорная их империя и гнездо заблуждений были выкорчеваны вашими (то есть генуэзскими. — В.К.) руками, если только Христос изберет вас отмстителями за Свое поношение и вам поручит возмездие, не к добру затянутое (даже так! — В.К.) всем католическим народом» (Ф. Петрарка. Книга о делах повседневных. XIV, 5. Перевод В. В. Бибихина). Но вернемся еще раз к «крестоносному» разгрому Константинополя в 1204 году. При мысли о нем естественно напрашивается чрезвычайно выразительное сопоставление. В 988 или 989 году, то есть еще за два столетия с лишним до нашествия крестоносцев, русский князь Владимир Святославич овладел главным византийским городом в Крыму — Херсонесом (по-русски — Корсунью). Как и Константинополь, Херсонес был создан еще в древнегреческую эпоху и являл собой подобное же совокупное воплощение античной и собственно византийской культуры. До недавнего времени в историографии господствовало мнение, согласно которому русское войско, войдя в Херсонес, будто бы обошлось с городом так же, как крестоносцы с Константинополем, — разрушило и сожгло все до основания и дотла. Однако в новейших исследованиях вполне убедительно доказано, что никакого урона Херсонес тогда не претерпел (см. «Византийский Временник» на 1989 и 1990 гг. — то есть тома 50 и 51), — о чем свидетельствует, кстати, и русский летописный рассказ о взятии Корсуни. Правда, Владимир Святославич увез в Киев ценные трофеи; как сказано в летописи, «взя же ида, 2 капища медяны и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за Святою Богородицею, якоже несведуще мнятъ я мрамаряны суща» («взял с собой, уходя, двух бронзовых идолов и четырех бронзовых коней, что и теперь стоят за церковью Святой Богородицы и которых невежды считают мраморными»). Сама детальность рассказа убеждает, что в начале XII века (когда создавалась «Повесть временных лет») бронзовые фигуры людей и коней все еще красовались в центре Киева. И это отношение русских (еще в X веке!) к ценностям культуры Византии о многом говорит. Мне, правда, могут напомнить, что и фактический руководитель похода крестоносцев в 1204 году, венецианский дож Энрико Дандоло спас от уничтожения четверку бронзовых коней, изваянных тем же Лисиппом, и ее привезли из Константинополя в Венецию. Но это было все же исключением на фоне тотального уничтожения византийских культурных сокровищ… А поскольку, как уже отмечено, ровно никаких достоверных сведений о «варварском» поведении русских в Херсонесе нет, приходится сделать вывод, что версия о мнимом разорении этого византийского города в 988 (или 989) году сконструирована историками XIX века «по образцу» опустошения Константинополя в 1204 году… На деле отношение Запада и Руси к Византии было принципиально различным. Здесь невозможно охарактеризовать всю многовековую историю взаимоотношений Руси и Византии начиная с хождения в Константинополь первого (правившего на рубеже VIII–IX вв.) киевского князя Кия, который, по летописи, «велику честь приял» от византийского императора. Остановимся только на первом военном столкновении русских и византийцев. 18 июня 860 года войско Руси осадило Константинополь (сведения о более ранних подобных атаках недостоверны). Новейшие исследования показали, что этот поход был совершен под диктатом Хазарского каганата. Это неоспоримо явствует, в частности, из того факта, что в том же 860 году Византия отправила посольство во главе со святыми Кириллом и Мефодием не в Киев, а в тогдашнюю столицу Хазарского каганата — Семендер на Северном Кавказе (есть, правда, серьезные основания полагать, что на обратном пути это посольство посетило и Киев). Отмечу еще, что в одном из позднейших византийских сочинений предводитель похода на Константинополь (это был, очевидно, киевский князь Аскольд) точно определен как «воевода кагана» (то есть властитель Хазарии). Особенное, даже исключительное значение имеют для нас рассказы непосредственного свидетеля и прямого участника событий — одного из наиболее выдающихся деятелей Византии за всю ее историю, константинопольского патриарха св. Фотия (он, кстати сказать, называет русских «рабствующим» народом, — имея в виду, как полагают, тогдашнюю подчиненность Руси Хазарскому каганату; именно по его инициативе и было отправлено к хазарам посольство его великих учеников свв. Кирилла и Мефодия). Св. Фотий свидетельствовал, что в июне 860 года Константинополь «едва не был поднят на копье», что русским «легко было взять его, а жителям невозможно защищать», что «спасение города находилось в руках врагов и сохранение его зависело от их великодушия… город не взят по их милости» и т. п. Фотия даже уязвило, как он отметил, «бесславие от этого великодушия». Но так или иначе 25 июня жители Константинополя неожиданно «увидели врагов… удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения». Впоследствии, в XI веке, византийские хронисты, не желая, по всей вероятности, признавать это русское «великодушие», выдумали, что будто бы буря по божественной воле разметала атакующий флот (эта выдумка была воспринята и нашей летописью). Между тем очевидец событий Фотий недвусмысленно сообщает, что во время нашествия русских «море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание». Позже патриарх Фотий писал, что «россы» восприняли «чистую и неподдельную Веру Христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей, вместо грабления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго»{3}. Правда, это свершившееся в 860-х годах приобщение русских христианству не было широким и прочным; действительное Крещение Руси совершилось только через столетие с лишним. Но речь сейчас идет о другом — о том, что можно назвать «архетипом», изначальным прообразом отношения Руси к Византии. Нелегко или даже невозможно дать вполне определенный ответ на вопрос, почему в 860 году русские, уже почти захватив Константинополь, по своей воле сняли осаду и вскоре — пусть пока в лице немногих — обратились к религии византийцев. Но во всяком случае ясно, что в IX веке русские вели себя в отношении Второго Рима совершенно иначе, чем западные народы в V веке в отношении Первого и в XIII — Второго Рима. Могут напомнить, что после 860 года Русь не раз вступала в военные конфликты с Византией (походы Олега и Игоря, затем Святослава и, наконец, в 1043 году — Владимира, сына Ярослава Мудрого); однако новейшие исследования доказали, что каждый раз дело обстояло гораздо сложнее, чем это представлялось до недавнего времени (так, и Святослав, и Владимир Ярославич отправлялись в свои походы по приглашению определенных сил самой Византии). Но здесь, разумеется, нет места для освещения этих многообразных исторических ситуаций и их истинного значения. Вернемся к теме «Византия и Запад». Наиболее существен именно тот факт, что Запад воспринимал и поныне воспринимает иные — даже и самые высокоразвитые — цивилизации планеты только как не обладающие собственной безусловной ценностью «объекты» приложения своих сил. Это присуще мироощущению и «среднего» человека Запада, и крупнейших его мыслителей. Так, в 1820 году Гегель в своей «Философии истории» утверждал, что, мол, «самим Провидением» именно и только на Запад «возложена задача… свободно творить в мире исходя из субъективного самосознания», и что-де в тех случаях, когда «западный мир устремлялся в иные страны в Крестовых походах, при открытии и завоевании Америки… он не соприкасался с предшествовавшим ему всемирно-историческим народом» (то есть народами, имеющими «самоценное» значение в истории мира) — и потому имел полное право «творить» все по-своему во всех «иных странах», в частности в Византии (тут же Гегель без каких-либо доказательств заявил, что «история высокообразованной Восточной Римской империи…. представляет нам тысячелетний ряд беспрестанных преступлений, слабостей, низостей и проявлений бесхарактерности, ужаснейшую и потому всего менее интересную картину»{4}; естественно, что разбой крестоносцев получает при этом полное оправдание…). Вместе с тем, несомненно, что лишь благодаря этому своему геополитическому «эгоцентризму» и «эгоизму» Запад смог сыграть грандиозную роль на планете. И было бы заведомо неправильным воспринимать его роль в мировой истории только критически, только «отрицательно». Уже само по себе стремление «свободно творить в мире исходя из субъективного самосознания», — беря таким образом на себя всю полноту ответственности, — являет подлинно героическую суть Запада. С этой точки зрения Запад в самом деле не имеет себе равных, и его последовательное овладение всей планетой — до самых дальних континентов и даже затерянных в Мировом океане островков — одно из ярчайших выражений человеческого героизма вообще. Необходимо только сознавать, что понятие «героическое», которое безоговорочно покоряет души юношей, вовсе не сводится к «положительному» содержанию и отнюдь не совпадает с критериями нравственности. Для «объектов» героического деяния оно вполне может предстать как нечто крайне негативное. Еще более важно понять, что, вполне обоснованно восхищаясь героикой Запада, ни в коем случае не следует разделять его восприятие и оценку остального мира, иных цивилизаций и культур. В высшей степени прискорбно, что в русском самосознании Запад слишком часто и прочно представал и предстает в качестве непререкаемой, даже единственной «меры вещей». Западное непризнание всемирно-исторической ценности всего «другого», «иного», чем он сам, с особенной ясностью выступает в отношении Византийской империи. Даже такой, казалось бы, широкий и терпимый (в сравнении, например, с французскими просветителями, говорившими о Византии в жанре грубой брани) западный идеолог, как Гердер, писал в своем фундаментальном трактате «Идеи к философии истории человечества» (1782–1788), что Византия предстает-де в качестве «двуглавого чудовища, которое именовалось духовной и светской властью, дразнило и подавляло другие народы и… едва может отдать себе спокойный отчет в том, для чего нужны людям религия и для чего правительство… Отсюда пошли все пороки, все жестокости омерзительной (даже так! — В.К.) византийской истории…»{5}. Мне могут возразить, что такое отрицание чуть ли не самого права на существование Византии имело место два столетия назад, а ныне Запад понимает, дело иначе, ибо в его идеологии в XX веке начало утверждаться представление о равноправности или даже равноценности различных цивилизаций и культур. Это вроде бы действительно так: во-первых, в новейшее время на Западе было создано немало более или менее объективных исследований истории Византии (и других «незападных» государств), а во-вторых, западная историософия в лице Шпенглера и Тойнби так или иначе провозгласила равенство цивилизаций (здесь стоит напомнить, что в России это было осуществлено еще в XIX веке — в историософии Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева). Да, казалось бы, крупнейший представитель английской историософии Арнольд Тойнби (1889–1975) уже в 1920–1930-х годах искупил грех западной идеологии, утвердив представление о десятках вполне «суверенных» и равно достойных внимания цивилизаций, существовавших и существующих на Земле и в том числе православных — византийской, а затем российской. Однако при обращении к конкретным рассуждениям Тойнби о Византии мы сталкиваемся с поистине поразительными противоречиями. С одной стороны, британский мыслитель утверждает, что «первоначально у православия были более многообещающие перспективы, чем у Запада» и что Византия вообще «опередила западное христианство на семь или восемь столетий, ибо ни одно государство на Западе не могло сравниться с Восточной Римской империей вплоть до XV–XVI вв.» (это, в сущности, простая констатация фактов, изученных западными историками Византии в течение XIX — начала XX в.). И тем не менее столь «лестные» для Византии суждения тут же, по сути дела, полностью опровергаются. После первой из процитированных фраз Тойнби заявляет, что «византийские императоры неустанно искажали и уродовали свое истинное наследие», а в связи со второй фразой выражает решительное недовольство по тому поводу, что уже в VIII веке византийский император Лев III «смог повернуть православно-христианскую историю на совершенно не западный путь»{6}. Здесь важно заметить, что, рассуждая о ряде других цивилизаций, Тойнби не попрекает их за их явно «незападный» путь. Но о Византии он неожиданно (ведь именно он последовательнее, чем какой-либо другой представитель западной историософии, провозгласил равенство всех самостоятельных цивилизаций!) начинает говорить точно так же, как те идеологи, для которых Запад — это, в сущности, как бы единственная имеющая безусловное право на существование цивилизация. И в заключение параграфа «Восточная Римская империя…» Тойнби без обиняков клеймит, по его словам, «извращенную и греховную природу» этой империи. Объясняется все это достаточно просто. Византия была единственной прямой соперницей Запада. Это совершенно наглядно отразилось в том, что в X веке (точно — в 962 году) на Западе была провозглашена «Священная Римская империя» (то есть как бы другой «Новый Рим»), надолго ставшая основой всего западного устройства. И впоследствии Запад (как мы еще увидим) стремился отнять у своей восточной соперницы даже и само это имя «Римская»… При этом соперничество складывалось сначала явно не в пользу Запада. Тойнби в приведенном выше высказывании напомнил, что «вплоть до XV–XVI вв.» Византия «опережала» Запад… Немаловажно заметить, что Тойнби, который в общетеоретическом плане так или иначе отказывается от прямолинейного понятия «прогресс», не смог в данном случае преодолеть западный соблазн; ведь в глубоком смысле Византия не «опережала» кого-либо, а развертывала свое самостоятельное, своеобразное культурное творчество, мерить которое по шкале «прогресса» — занятие, прямо скажем, примитивное (вот выразительный пример: Франческо Петрарка и преподобный Сергий Радонежский были современниками, но решать, кто кого из них «опережал», — дело не только неблагодарное, но и просто нелепое, — хотя сопоставление этих двух личностей может многое прояснить). Впрочем, Тойнби говорит и о своеобразии Византии, — правда, тут же толкуя его в сущности как «безобразие». Он сопоставляет Запад и Византию в следующем рассуждении: «История отношений между церковью и государством указывает на самое большое и самое серьезное расхождение между католическим Западом и православным Востоком»; на Западе эти отношения сложились в виде «системы подчинения множества местных государств единой вселенской церкви» (пребывающей в Риме). Между тем в Византии имело место слияние церкви и государства, слияние, которое Тойнби едва ли адекватно определил как «подчинение церкви государству», ибо для истории Византии не менее характерно и обратное — подчинение государства церкви. Тойнби стремится представить империю, в которой было-де установлено безоговорочное «подчинение церкви государству», как заведомо деспотическую, всецело основанную на голом насилии. В его рассуждениях о Византии постоянно говорится о «жестком контроле», «нещадном подавлении», «государственных репрессиях», даже «свирепости» и т. п. Однако, поскольку ко времени создания его историософии западные исследователи более или менее объективно осветили фактическую, реальную историю Византии, Тойнби, явно противореча своим собственным общим оценкам, говорит, например, что в Византии «использование политической власти в религиозных целях было, следует отметить, весьма тактичным по сравнению с кровопролитными религиозными войнами, которые вел Карл Великий в аналогичной ситуации». В отличие от Византии, констатирует также Тойнби, «западное христианство… прибрало к рукам… все европейские земли… вплоть до Эльбы». К тому же, пишет он, «на Западе безоговорочно считали, что латынь является единственным и всеобщим языком литургии… Разительным контрастом этой латинской тирании выглядит удивительный либерализм православных. Они не предприняли ни одной попытки придать греческому языку статус монопольного» (в связи с этим стоит вспомнить, что в IX веке свв. Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность, а в XIV веке — как бы продолжая их дело — русский святой Стефан Пермский создал зырянскую, т. е. коми). Итак, существуют два совершенно различных «представления» о Византии, одно из которых — всецело тенденциозная западная идеологема, мрачный и нередко даже зловещий миф о Византии, а другое — так или иначе просвечивающая сквозь этот миф реальность византийской истории. Исходя из фактов Тойнби пишет, например, что «восточноримское правительство традиционно отличалось умеренностью». Но он же, подвергая резкой критике византийское монашество за недостаточную «активность», противопоставляет ему в качестве своего рода идеала западноевропейское монашество: «Франциск и Доминик вывели монахов из сельских монастырей в широкий мир… Напрасно мы будем искать какую-либо параллель этому движению в православии». Но ведь это «выведение» западного монашества в «широкий мир» выразилось «ярче» всего в создании доминиканцами (и, отчасти, францисканцами) Святой инквизиции, которая отправила на пытки и казни сотни тысяч «еретиков»! А в истории Византии действительно не было «какой-либо параллели» этому явлению. Не менее характерна и судьба иудеев на Западе и, с другой стороны, в Византии. В западноевропейских странах в XII–XVI веках было уничтожено, согласно сведениям «Еврейской энциклопедии», примерно 400 тысяч приверженцев иудаизма — то есть 40 процентов тогдашнего мирового иудейства… А многие из уцелевших нашли убежище в Византии, где, несмотря на все конфликты христиан и иудеев, ничего подобного западноевропейскому «геноциду» все же не произошло. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что Византия являла собой совершенство. Но, безусловно, необходимо преодолеть навязанное западной идеологией представление о Византийской империи как о некоем «уродстве». Ведь даже обладающий репутацией апологета равноценности цивилизаций Тойнби постоянно употребляет по отношению к Византии такие «термины», как «уродование», «искажение», «дисгармония», «извращение» и т. п. Ясно, что в качестве якобы беспристрастного «критерия» берется здесь цивилизация и культура Запада. И в самом деле: Тойнби с какой-то даже наивной откровенностью утверждает, что единственным «спасением» для Византии было бы превращение ее в прямое подобие Запада. Он пишет, например, что в Византии «в VII в. появились некоторые признаки… возвращения на путь, избранный для Запада папой Григорием Великим (590–604)». Однако «развитие вселенского патриарха в духе папства» все же не свершилось, и в результате, мол, «православное христианство выглядело болезненно дисгармоничным, что было платой за выбор неверного пути». Вполне понятно, что на «неверном пути» нельзя было достичь никаких действительно ценных результатов… В 1984–1991 годах в Москве вышел в свет фундаментальный (объемом около 180 авт. листов) трехтомный труд «Культура Византии», созданный первоклассными современными специалистами России. Со всей доказательностью раскрывается здесь богатейшее — чрезвычайно многообразное и глубоко самобытное — культурное творчество, совершавшееся в продолжение более чем тысячелетия в Византии. Но проштудировали этот труд немногие, и в сознании большинства из тех, кто так или иначе касается проблемы «византийского наследства», по-прежнему господствует заведомо ложное и по самой своей сути негативное «мнение» об этом наследстве — мнение, в конечном счете восходящее к идеологам Запада. Очень характерно, что в России — под воздействием западноевропейских представлений — принято относить Византию к «Востоку», хотя Константинополь расположен западнее Киева и тем более Москвы… Еще раз повторю, что нельзя, да и ни к чему «идеализировать» Византию (хотя такая тенденция — правда, весьма узкая — имела место в русской мысли) и усматривать в ее истории — в противовес идеологам Запада — «превосходство» над западной цивилизацией и культурой. Речь может и должна идти только об имеющем полное право на существование своеобразии. Если на Западе с давних времен средоточие церкви существовало (о чем говорит, в частности, Тойнби) само по себе, «отдельно», — как специфическое теократическое государство (Stato Pontifico — т. е. Государство Первосвященника, в Папской области, возникшей еще в VIII веке), то в Византии так или иначе сложилось единство церкви и государства. Византийскую империю вполне уместно поэтому определить как идеократическое (имея в виду власть православных идей) государство, между тем Западу присуще то, что следует определить термином «номократия» — власть закона (от греч. номос — закон); с этой точки зрения азиатские общества уместно определить термином «этократия» — от греч. etos — обычай. И именно об этом неприязненно и саркастически писал Гердер. В Византии, согласно его по-своему достаточно метким характеристикам, христианская идея «сбила с толку ум человеческий («ум», конечно, понимается в чисто западном смысле. — В.К.), — вместо того чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху… долг людей по отношению к государству путали с чистыми отношениями людей к Богу и, сами не ведая того, положили в основу Византийской христианской империи… религию монахов, как же могли не утратиться верные соотношения… между обязанностями и правами, наконец, даже и между сословиями государства?… Здесь, конечно, произносили речи бого-вдохновенные мужи патриархи, епископы, священники, но к кому они обращали свои речи, о чем говорили?… Перед безумной, испорченной, несдержанной толпой должны были изъяснять они Царство Божие… О как жалею я тебя, о Златоуст, о Хризостом!..»{7} (великий деятель византийской церкви IV–V вв. Иоанн Златоуст). Все это, повторю, по-своему метко и даже — не побоюсь сказать — верно. И западные государства, цель которых в конечном счете сводилась к установлению строго упорядоченных соотношений «между правами и обязанностями» и «между сословиями», к четкому утверждению «долга людей по отношению к государству» и т. п., предстают в сравнении с Византией действительно как нечто принципиально более «рациональное», всецело направленное на устроение реальной, земной человеческой жизни. И нельзя не видеть, что большинство русских идеологов (да и вообще русских людей) XIX–XX веков относились к «благоустроенности» западной цивилизации с глубоким уважением или даже преклонением и, более того, с острой завистью. Правда, в России не столь уж редко раздавались голоса, обличавшие «бездуховность» этой цивилизации, но можно со всей основательностью утверждать, что подобные нападки чаще всего порождало стремление противостоять господствующему в России безоговорочному пиетету перед Западом. Между тем в западной идеологии не только царило принципиально негативное восприятие Византии (и — о чем еще пойдет речь — ее наследницы России), но и, как мы видели, отрицалось, по сути дела, само ее право на существование. И поглощение Византии в XV веке Османской империей Запад воспринимал как совершенно естественный итог. Гердер говорил даже об «удивлении», вызываемом у него тем фактом, что «империя, так устроенная, не пала еще гораздо раньше» (ту же точку зрения отстаивал через полтораста лет и Тойнби, утверждая, что Византия была «тяжелобольным обществом… задолго до того, как на исторической сцене появились тюрки», — то есть задолго до XI века!). Как уже сказано, фактическая, реальная история Византии подчас все же заставляла Гердера и других западных идеологов впадать в прямое противоречие с утверждаемым ими мифом о ней. Так, например, Гердер, для своего времени неплохо знавший византийскую историю, признавал, что главную роль в падении Константинополя сыграли чрезвычайно динамичные и мощные западные силы — Венецианская (она, кстати, нанесла Византии наибольший урон еще во время крестовых походов) и Генуэзская республики; их атаки и грабеж (Гердер даже назвал его «позорным») продолжались в течение нескольких веков, и (цитирую Гердера) «империя была в итоге так ослаблена, что Константинополь без труда достался турецким ордам» (вспомним, что еще Петрарка столетием ранее призывал генуэзцев и вообще Запад поскорее «выкорчевать» Византию…). Короче говоря, Византийская империя прекратила существование не в силу некой своей внутренней, имманентной несостоятельности; она была раздавлена между беспощадными жерновами Запада и Востока: такому двустороннему давлению едва ли бы смогло противостоять какое-либо государство вообще… Предпринятое мною своего рода оправдание Византийской империи продиктовано стремлением «противустать» отнюдь не цивилизации и культуре Запада, имеющим свою великую самобытную ценность, но навязываемой западными идеологами тенденциозной дискредитации Византии — дискредитации, объясняемой тем, что эта сыгравшая громадную роль в истории — в том числе и в истории самой Западной Европы! — цивилизация шла по принципиально «незападному» пути. Кстати сказать, тот факт, что Византия сыграла грандиозную и необходимую роль в развитии самого Запада, не могут полностью игнорировать никакие ее критики. Так, по словам того же Гердера, «благодеянием для всего образованного мира было то, что греческий язык и литература так долго сохранялись в Византийской империи, пока Западная Европа не созрела для того, чтобы принять их из рук константинопольских беженцев», и даже «венецианцы и генуэзцы научились в Константинополе вести более крупную торговлю… и оттуда перенесли в Европу множество полезных вещей». Впрочем, и признавая «заслуги» Византии в развитии Запада и мира в целом (эти заслуги, конечно, не сводятся к указанным Гердером фактам), западные идеологи тем не менее всегда были готовы объявить ее тысячелетнюю историю в целом «уродливой» и бесперспективной. И это западное неприятие Византии основывалось не только на том, что она была идеократическим государством; Запад отталкивала и евразийская суть Византийской империи. Ибо даже самые «гуманистические» идеологи не были свободны от своего рода «западного расизма». Вот выразительный пример. В 1362–1368 годах Петрарка жил в Венеции, куда пираты-купцы свозили тогда из Причерноморья множество рабов; это были, как нам известно, люди, принадлежавшие к различным народам Кавказа, половцы и — в меньшей мере — русские. Многие из этих людей (что также хорошо известно) были христианами. Но Петрарка, чей гуманизм простирался только на народы Запада (он ведь и самих греков именовал «малодушными гречишками»), писал об этих людях как о неких полуживотных: «Диковинного вида толпа мужчин и женщин наводнила скифскими мордами прекрасный город…» (Венецию). И выражал свое настоятельное пожелание, чтобы «не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы… а в своей Скифии… по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы»{8}. В Византии же никто не усматривал в людях, принадлежавших к народам Азии и Восточной Европы, «недочеловеков», и, в частности, любой человек, исповедовавший христианство, мог занять в империи любой пост и достичь высшего признания: так, император Лев III Великий (VIII век) был сирийцем, Роман I Лакапин (X век) — армянином, а патриарх Константинопольский Филофей (XIV век) — евреем. Между тем тот же прославленный западный гуманист Петрарка отказывал в высшем «благородстве» даже и самим грекам, утверждая, в частности, что-де «никакой самый наглый и бесстыжий грек не посмеет сказать ничего подобного», а «если кто такое скажет, пусть уж говорит заодно, что благородней быть рабом, чем господином»… Гердер, живший через четыре столетия после Петрарки, не был склонен к такому неприкрытому «расизму», но, рассуждая об «омерзительной византийской истории», он все же счел необходимым сказать, что в основу этой истории легла «та злосчастная путаница, которая бросила в один кипящий котел… и варваров, и римлян» (византийские греки называли себя «ромеями», то есть римлянами). Таким образом, и для западного идеолога XVIII века был неприемлем многоплеменный евразийский «котел» Византии… Россия — единственное из государств — в сущности унаследовала евразийскую природу Византии. Характерно в этом отношении «крылатое» словцо, приписываемое двум совершенно разным (это важно отметить, ибо, значит, мы имеем дело с западной ментальностью вообще) европейцам — Наполеону и его непримиримому противнику графу Жозефу де Местру: «Поскоблите русского и вы найдете татарина». Отсюда уже не так далеко до нацистской концепции «неарийства» русских. Не могу не сказать в связи с этим, что меня ни в коей мере, абсолютно не волнует проблема расовой и этнической «чистоты» русских людей, ибо тезис об особой ценности этой самой чистоты не имеет никакого реального обоснования; это только один из характерных западных мифов. Едва ли уместны, например, сомнения в высшем человеческом совершенстве Пушкина, а между тем, если обратиться к третьему (прадедовскому) поколению его предков, то пятеро из восьми его прадедов и прабабок, возможно, были «чисто русского» — или, шире, славянского — происхождения (хотя и в них не исключена столь характерная для России «примесь» тюркской или финской «крови»): Александр Петрович Пушкин (дед отца поэта), его племянник — Алексей Федорович Пушкин (дед матери поэта, Надежды Осиповны Ганнибал), Евдокия Ивановна Головина, Лукерья Васильевна Приклонская и Сарра Юрьевна Ржевская. Однако остальными предками Пушкина в этом поколении были эфиоп Абрам Ганнибал, немка Христина-Регина фон Шеберг и имеющий тюркское (по гораздо менее достоверной версии — итальянское) происхождение Василий Иванович Чичерин. Кстати сказать, есть все основания утверждать, что в далекие — «доисторические» — времена и население самой Западной Европы представляло собой именно «кипящий котел», в котором сваривались воедино самые разные этносы и расы; своеобразие Византии (и, позднее, России) состояло лишь в том, что они являли собой такие «котлы» в уже историческое время, на глазах уже сформировавшейся цивилизации Запада, которая неодобрительно или просто с презрением взирала на эту евразийскую «путаницу» (по слову Гердера). Подводя итог рассмотрению проблемы «Запад и Византия», обращу внимание на, казалось бы, «формальное», но, если вдуматься, чрезвычайно многозначительное явление: уже само название «Византия» было (о чем ныне знают немногие) присвоено Западом государству, называвшему себя «Империей ромеев» (то есть римлян), в качестве, по сути дела, принижающего прозвища (исходящего из древнего названия Константинополя). С. С. Аверинцев пишет об этом так: «Примерно через сто лет после ее (Империи ромеев. — В.К.) гибели западноевропейские эрудиты, не жаловавшие ее, прозвали ее Византийской; ученая кличка… вошла в обиход, время от времени возвращая себе статуе бранного слова (например, в либеральной публицистике прошлого века)»{9}. Нет смысла призывать к отказу от давно и прочно утвердившегося названия, но поистине необходимо освободить его от того негативного заряда, который был внедрен в это название — и особенно в производные от него термины «византизм» (или «византинизм») и «византийство» — западными, а по их примеру и российскими либеральными идеологами. Еще в 1875 году К. Н. Леонтьев писал в своем трактате «Византизм и славянство»: «В нашей образованной публике распространены о Византии самые превратные, или, лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия… Византия представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым». Между тем, говорил далее Леонтьев, даже и малого, но действительного ознакомления с наследием империи «достаточно, чтобы убедиться, сколько в византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии»{10}. Как раз тогда, когда Леонтьев писал эти строки, достигли своей научной зрелости выдающиеся творцы русского византиноведения — академики В. Г. Васильевский (1838–1899), Ф. И. Успенский (1845–1928) и Н. П. Кондаков (1844–1925), труды которых подтверждали полную правоту Леонтьева. Но мало кто из российских идеологов изучил или хотя бы имел желание изучить эти труды. И слова «византизм» и «византийство» по-прежнему имели в их устах, по сути дела, «бранный» смысл… Но вот иной факт. 12 апреля 1918 года в петроградской эсеровской газете «Воля народа» было опубликовано стихотворение Анны Ахматовой, говорящее о трагическом крушении прежней России в таких словах: Когда в тоске самоубийства Это звучало явным диссонансом по отношению к «общепринятому» в интеллигентских кругах (кстати сказать, после 1918 года эти строки были снова опубликованы в России лишь в 1990 году); можно предположить, что уважение к «духу византийства» поэтесса восприняла от своего отца А. А. Горенко (1848–1915), действительного члена Русского собрания — православно-монархической (в бранном словоупотреблении — «черносотенной») организации, существовавшей с 1901-го до февраля 1917 года. Однако в наше время из журнала «Вопросы философии» читатели могут «узнать», что Ахматову и других давил-де «сталинский византизм» (1989, № 9, с. 78). Едва ли русская поэтесса согласилась бы с подобным употреблением этого термина, хотя она и сказала о «суровости» духа византийства. Дело в том, что действительно суровые проповеди св. Иоанна Кронштадтского и, скажем, «Злые заметки» Бухарина о Есенине или страницы доклада Жданова, «обличавшие» Ахматову, — это вещи не просто различные, но несовместимые. Нельзя исключить, что св. Иоанн Кронштадтский мог бы осудить те или иные мотивы ахматовской поэзии (как в свое время осудил — в стихотворной форме — пушкинское «Дар напрасный, дар случайный…» митрополит Московский Филарет), но это был бы суд не во имя интересов власти, а совсем иной, подобный тому суду, правомерность которого явно признавала в своем стихотворении 1913 года сама Ахматова: … И осуждающие взоры Россия, подобно Византии, сложилась и как евразийское, и как идеократическое государство. В евразийстве Руси-России нередко видят следствие ее долгого пребывания в составе Монгольской империи. Однако в действительности эта пора была закреплением и углублением уже давно присущего Руси качества. 862 годом (на самом деле событие, по-видимому, произошло несколько раньше) помечено в летописи известие о создании государственности Руси, и в этом акте, согласно летописи, вместе со славянами равноправно участвуют «уральские» (финноугорские) племена («Реша… — сообщает летопись — чудь, словене, и кривичи, и весь…»). В X веке в походах князя Игоря принимают участие и европейцы-скандинавы, и азиаты-печенеги, а среди высших лиц русского государства XI века представлены и те же скандинавы, и люди из различных тюркских и финноугорских племен и т. д. Да, еще задолго до монгольского нашествия существует и постоянно возрастает «азийский компонент» русской истории. Это, в частности, ясно выразилось в династических браках, имевших прямое и непосредственное государственное значение. Если сыновья Ярослава Мудрого обручаются с невестами из династий Запада (Франции, Германии, Дании, Норвегии и т. д.), а также Византии, то по меньшей мере трое из девяти сыновей Ярославова внука (и вместе с тем внука византийского императора Константина VIII) Владимира Мономаха породнились (в начале XII века) с восточными династиями — половецкими и ясской (осетинской), и с тех пор это стало на Руси прочной традицией. Правда, глубокий смысл заключен не в самих по себе подобных брачных союзах; они — только одно из наглядных проявлений русского «евразийства». Примитивно и в конечном счете просто ложно представление, согласно которому это евразийство толкуется прежде всего и главным образом как взаимодействие русского и, скажем, тюркских народов. Если сказать о сути дела со всей определенностью, русские — эти наследники византийских греков — как бы изначально, по самому своему определению были евразийским народом, способным вступить в органические взаимоотношения и с европейскими, и с азиатскими этносами, которые — если они действительно включались в магнитное поле Руси-России — и сами обретали евразийские черты. Между тем в случае их выхода из этого поля они опять должны были в конечном счете стать «чисто» европейскими или «чисто» азиатскими народами; русские же не могут не быть народом именно евразийским. Евразийская суть Руси ярко отразилась в летописном рассказе о том, как Владимир Святославич, не предрешая заранее итога, избирал одну веру из четырех — западного и византийского христианства и, с другой стороны, азиатских мусульманства и иудаизма (выбор — что было вполне закономерно — пал на религию «евразийской» Византии). Притом в данном случае не столь уж важно, имеем ли мы дело с легендой или же с сообщением о реально состоявшемся выборе; действительно существенно то, что летописец, воплощавший так или иначе в своем рассказе представления русских людей XI — начала XII в., не усматривал ничего противоестественного в подобном акте, явно подразумевающем, что западные и восточные религии равноправны (хотя избрание именно византийской веры было, повторяю, закономерным итогом). И если не забывать о верховном и всестороннем значении религии в бытии тогдашних обществ, станет ясно, что это восприятие верований Европы и Азии как равно достойных внимания имеет чрезвычайно существенный смысл: «евразийская» природа русского духа выступает тут с наибольшей несомненностью. Но не менее важно и характерно и другое: будучи воспринятым, христианство становится на Руси определяющим и всепроницающим стержнем бытия. Ведь невозможно, например, переоценить тот факт, что не позднее XIV века основная часть населения Руси обрела название — и самоназвание — крестьяне (вариант слова «христиане»). Более того, уже из памятника начала XII века явствует, что слово «христианин» («хръстиянинъ») имело, помимо обозначения принадлежности к определенной религии, смысл «житель Русской земли» (см. И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка, т. III, с. 1410). Естественно, и сам государственный строй Руси, подобно византийскому, представал как идеократический. Выше приводились иронические слова Гердера о Византии, где «вместо того, чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху» и т. д. Следует всецело, безоговорочно признать эту «критику»: и в Византии, и, впоследствии, на Руси люди в самом деле не создали, да и никак не могли бы создать такое совершенное земное устройство, как на Западе. И русские идеологи, как уже отмечалось, остро, подчас даже мучительно осознавали «неблагоустроенность» (в самом широком смысле — от установлений государства до домашнего быта) России. Именно это осознание породило сыгравшее огромную роль крайне резкое «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в 1836 году. Глубоко изучив западное бытие (он объехал в течение трех лет — в 1823–1826 годах — весь Запад от Англии до Италии), Чаадаев предпринял острейшее сопоставление двух цивилизаций, которое вызвало негодование людей «патриотического» склада и восхищение тех, кого несколько позднее назвали «западниками». Но обе реакции на чаадаевскую статью были, в сущности, всецело ложными. Возражая «патриотам», Чаадаев писал в следующем, 1837 году, что появившаяся годом ранее «статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением» — введением в большой труд, «который остался неоконченным… Без сомнения, была нетерпеливость в ее (статьи. — В.К.) выражениях, резкость в мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не враждебно Отечеству»{11}. Однако это «пояснение» было опубликовано лишь в 1913 году (впрочем, и тогда почти никто в него не вдумывался), и «введение» явилось, по сути дела, единственным источником общепринятых представлений о чаадаевской историософии России… В результате многие «патриоты» проклинали и проклинают доныне этого гениального философского сподвижника Пушкина, а «антипатриоты», с точки зрения которых единственно возможный путь для России — превращение ее в страну западного типа (пусть даже «второсортную»), считают Чаадаева своим славнейшим предшественником. Между тем еще в 1835 году (то есть еще до опубликования «злополучной» — это определение самого мыслителя — «вводной» статьи) Чаадаев с полной определенностью писал (слова эти, увы, были опубликованы в России опять-таки только в 1913 году и также остаются неосмысленными): «… Мы не Запад… Россия… не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы… И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно такое представление лежит в основе заведомо утопического российского западничества! — В.К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. X., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов… Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед…» (т. 2, с. 96, 98). Позднее, в 1846 году, Чаадаев вновь обратился к этой историософской теме. И — как это ни неожиданно для всех, поверивших в «западничество» мыслителя! — сказал в письме к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру о засилье «чужеземных идей» как о тяжком препятствии, которое необходимо преодолеть для плодотворного развития России. Он констатировал: «Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне… является… существенной чертой нашего нрава, — и тут же призывал: «этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свойство… путем непредубежденного и искреннего уразумения нашей истории». И далее совсем уж парадоксальный с точки зрения «западников» ход рассуждения. Принято считать, что «традиционный» дефицит свободы слова в России мешал прежде всего воспринимать «прогрессивные» идеи Запада. Чаадаев же, сам испытавший тяжкое давление российского «деспотизма», писал о как раз прямо противоположном прискорбном результате: «Можно ли ожидать, что при таком… социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей (напомню: Чаадаев обращается к европейцу Сиркуру. — В.К.) культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек… Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь…» (т. 2, с. 188, 191, 192). Чаадаев глубоко сознавал, что Россия, в отличие от стран Запада, держава идеократическая («великий народ, — писал Чаадаев, — образовавшийся всецело под влиянием религии Христа»; что же касается номократии, то есть законовластия, Чаадаев недвусмысленно утверждал: «Идея законности, идея права для русского народа — бессмыслица», — притом последнее слово выделено им самим) и евразийская (чаадаевская мысль такова: «стихии азиатские и европейские переработаются в оригинальную Русскую цивилизацию»). Впрочем, историософское содержание сочинений Чаадаева очень богато и сложно; его анализу необходимо посвятить специальную статью. Здесь же я преследовал только одну цель: показать, насколько ложны господствующие представления об этом основоположнике новейшей (XIX–XX вв.) русской философской культуры. Нельзя, впрочем, не сказать еще о том, что Чаадаев — в отличие и от западников, и от славянофилов — стремился понять Россию не как нечто, говоря попросту, «худшее» или, напротив, «лучшее» по сравнению с Западом, но именно как самостоятельную цивилизацию, в которой есть и свое зло, и свое добро, своя ложь и своя истина. Он ни в коей мере не закрывал глаза на самые прискорбные «последствия» и российской идеократии, и российского евразийства, но он же написал в 1837 году: «…у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны… завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества» (т. 1, с. 534). Всего лишь через полвека наиболее проницательные западные наблюдатели, в сущности, именно так оценили великие свершения русской литературы (неразрывно связанные с наиболее глубокими исканиями русской мысли). И тут, вполне естественно, встает вопрос: если идеократическая и евразийская Россия была столь несовершенна в сравнении со странами Запада, каким образом она смогла создать духовные ценности всемирного значения? Ведь давно общепризнано, что величайшие эпохи в истории культуры — это классическая Греция, западноевропейское Возрождение и русский XIX век. В этом отношении весьма показателен трактат современного представителя еврейско-иудаистской историософии — американского раввина Макса Даймонта «Евреи, Бог и история» (1960). Россия вообще изображена здесь, надо прямо сказать, в крайне негативном свете. Хотя бы один характерный иронический тезис: «Пять Романовых правили Россией в 19 веке. Они ухитрились приостановить в России развитие просвещения и благополучно вернуть страну в лоно феодального деспотизма» и т. д. Именно поэтому, резюмирует Даймонд, «когда пять белых армий вторглись в советскую Россию, чтобы восстановить власть царя (едва ли цель белых армий была таковой. — В.К.), евреи вступили в Красную армию, созданную Львом Троцким». Однако в этом же трактате читаем: «За пять тысяч лет своего существования мировая литература знала всего четыре великие литературные эпохи. Первой была эпоха книг пророков в библейские дни (это вполне понятно, а далее — две эпохи, названные выше. — В.К.)… Наконец, четвертой была эпоха русского психологического (едва ли уместное «ограничение». — В.К.) романа 19 века. Всего за пятьдесят лет Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой создали одну из величайших литератур мира»{12} (и это — несмотря на приостановку «развития просвещения» и «феодальный деспотизм»…). Необходимо только уточнить, что для человека, действительно изучившего историю России и ее культуру, не подлежит никакому сомнению, что русская литература XIX столетия — естественный плод тысячелетнего развития, и ствол, на котором пышно разрослась в прошлом веке поразившая весь мир крона, существовал уже в X–XI веках, когда были созданы русский богатырский эпос, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Сказание о святых Борисе и Глебе». В этих творениях уже ясно воплотились те основные духовные начала, которые имели решающее значение для творчества Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого (а также, конечно, для философского творчества Чаадаева, Константина Леонтьева и других). Итак, принципиально «незападный» путь России не лишил ее возможности воздвигнуть одну из трех (или четырех) высочайших вершин литературы. Впрочем, прагматически мыслящие люди могут возразить, что литература — это все же «только» слово, а держава должна мериться и делом, или, говоря торжественнее, деяниями. Странно, но многие склонны — особенно в последние годы — забывать или, вернее, не помнить, что за тысячу двести лет существования Руси-России было три попытки трех народов — монголов, французов и немцев — завоевать и подчинить себе остальной мир, и — этого все же никак не оспорить — все три мощнейшие армады завоевателей были остановлены именно в России… На Западе — да и у нас (особенно сегодня) — есть, правда, охотники оспаривать эти факты: монголы, мол, сами вдруг решили не идти дальше Руси, французов погубили непривычные им северные морозы (хотя беспорядочное бегство наполеоновской армии началось сразу после ее поражения под Малоярославцем 14/26 октября, когда, как точно известно, температура не опускалась ниже 5 градусов тепла, и даже позднее, 1 ноября, Наполеон заметил: «Осень в России такая же, как в Фонтенбло»){13}, а немцы-де проиграли войну из-за налетов англо-американской авиации на их города… Но все это, конечно, несерьезно, хотя вместе с тем нельзя не сказать, что исход трагических эпопей XIII, начала XIX и середины XX в. не так легко понять, и то и дело заходит речь об иррациональном «русском чуде». В самом последнем своем стихотворении Пушкин так сказал о 1812 годе: …Русь обняла кичливого врага, Это вроде бы неуместное «обняла» еще более, пожалуй, подходит для характеристики отношений Руси к полчищам Батыя и его преемников. Все три беспримерные армады, стремившиеся завоевать мир (других в этом тысячелетии и не было), утратили свою мощь именно в «русских объятиях»… Естественно вспомнить и строки Александра Блока: …Хрустнет ваш скелет Итак, первостепенная, выдерживающая сравнение с чем угодно роль России во всемирно-историческом бытии и сознании выявляется с полной неопровержимостью на двух самых разных «полюсах» — от грандиозного деяния русского народного тела — конечно же, не бездуховного — до высочайшего духовного творчества в русском слове (многие плоды этого творчества давно нашли свое инобытие на всех языках мира), — хотя мировое значение России, разумеется, не исчерпывается этими двумя аспектами. Поэтому любая самая резкая «критика» (безусловно, имеющая свою обоснованность) идеократической и евразийской природы Руси-России никак не может поколебать высшего (сопоставимого, повторю, с чем угодно в мире) значения ее цивилизации и культуры. Правда, и «критика» России действительно имеет веские основания; это с очевидностью выявляется, например, в своего рода уникальной, беспрецедентной уязвимости русского государства. Так, в начале XVII и в начале XX века оно рушилось прямо-таки подобно карточному домику, — что было обусловлено, как явствует из непреложных фактов, именно его идеократичностью, а также его многоэтничным евразийством. В. В. Розанов констатировал в 1917 году с характерной своей «удалью» (речь шла о Февральском перевороте): «Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Даже «Новое время» (эта «черносотенная» газета выходила до 26 октября. — В.К.) нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска… Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего»{14}. И тогда же Розанов вопрошал: «Как же это мы просмотрели всю Россию и развалили всю Россию, делая точь-в-точь с нею то же самое, что с нею сделали поляки когда-то в Смутное время, в 1613-й год!..» Василий Васильевич был не вполне точен, говоря о Смутном времени: поляки пришли в страну с уже рухнувшим государством. Но он всецело прав в своем беспощадном диагнозе: русская государственность во всех своих сторонах и гранях перестала существовать в 1917 году прямо-таки мгновенно, ибо для ее краха достаточно было решительно дискредитировать властвующую идею (те же «православие, самодержавие, народность»…). В начале XVII века властвующая идея как бы исчезла потому, что пресеклась — в силу поочередной смерти всех трех сыновей скончавшегося в 1584 году Ивана Грозного — воплощавшая ее в себе (для того времени это было своего рода необходимостью) династия Рюриковичей. Могут сказать, что пресечение династии «наложилось» на имевший место в стране глубокий социальный кризис. Однако подобные кризисы бывали ведь и в другие времена (и раньше, и позже), но наличие воплощающего (буквально — в своей «царственной плоти») идею Божьего помазанника препятствовало полному краху государства. Для понимания идеократической сущности России многое дает сопоставление судьбы большевиков и их противников, возглавивших Белую армию. Последние — при всех возможных оговорках — ставили своей задачей создать в России номократическое государство западного типа (характернейшей чертой программы Белой армии было так называемое «непредрешенство», подразумевающее не какую-либо государственную идею, а «законное» решение «законно» избранного Учредительного собрания). И это заранее обрекало на поражение врагов большевизма, для которого, напротив, власть — в полном соответствии с тысячелетней судьбой России (хотя большевики явно и не помышляли о таком соответствии) — была властью идеи (пусть и совершенно иной, чем ранее), идеократией. И в высшей степени закономерно, что дискредитация этой новой идеи к 1991 году опять-таки привела к мгновенному краху… Короче говоря, идеократическое государство — заведомо «рискованная» вещь. И это так или иначе выявляется вовсе не только в периоды острейших кризисов. Все помнят и часто твердят тютчевскую строку: «В Россию можно только верить». Строка эта нередко воспринимается как некая сугубо «оригинальная» постановка вопроса. Но, между прочим, на Западе почти в одно время с появлением тютчевского стихотворения было опубликовано следующее многозначительное рассуждение: Россия «является единственным в истории примером огромной империи, само могущество которой, даже после достижения мировых успехов, всегда скорее принималось на веру (выделено мною. — В.К.), чем признавалось фактом. С начала XVIII столетия и до наших дней (писано в 1857 году. — В.К.) ни один из авторов, собирался ли он превозносить или хулить Россию, не считал возможным обойтись без того, чтобы сначала доказать само ее существование»{15}. Это рассуждение принадлежит Карлу Марксу, но следует иметь в виду, что в своем отношении к России он предстает чаще всего, в сущности, не как марксист, а как западный идеолог вообще, — весьма проницательный, но характерно тенденциозный (Маркс, например, говорит там же, что «чарам, исходящим от России, сопутствует скептическое отношение к ней, которое… издевается над самим ее величием как над театральной позой, принятой, чтобы поразить и обмануть зрителей», о принципиальном «актерстве» русских рассуждал еще до Маркса известный маркиз де Кюстин). Утверждение, согласно которому Россия не «факт», а только объект «веры», может показаться чисто риторическим вывертом (ведь перед нами как-никак шестая часть планеты, миллионы людей и т. п.!). И все же в этом есть глубокая правда, ибо при крахе идеи мгновенно как бы превращаются в ничто вся мощь и все богатство громадной страны и, помимо прочего, распадается на куски ее евразийская многоэтничность… И ощущение, что Россия держится на идее, порождает то ее переживание, которое схвачено знаменитой тютчевской строкой. Едва ли можно усомниться в том, что именно идеократическая и евразийская суть России определяла ее беспрецедентные крахи и падения; однако не стоит сомневаться и в том, что именно эта суть выражалась в ее великих победах и взлетах, в ее, по словам отнюдь не благоволившего к России Маркса, «мировых успехах». Маркс, между прочим, более всего нападал на Россию, даже прямо проклинал ее за ее взаимоотношения с монголами — взаимоотношения, которые, согласно его — в общем верной — мысли, именно и определили ее очередной «подъем» в XV веке. К этой теме мы теперь и переходим. >Монголы и Русь Здесь перед нами до сего дня и в очень многом загадочная эпоха русской истории. Монгольская армада нанесла первое поражение Руси в 1223 году, а в 1237–1240 годах прошла по почти всей ее территории огнем и мечом. И около четверти тысячелетия Русь являлась монгольским улусом, только в 1480 году Иван III отверг свое подчинение ее повелителям. Но, как верно констатировал тот же Карл Маркс, «изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита»{16}. Не правда ли, по меньшей мере странный итог двух с половиной столетий «монгольского ига», о которых и западные, и вторившие им русские историки повествовали как о времени полнейшего упадка Руси? Разбираясь в существе дела, пришлось бы, между прочим, повторить многое из того, что сказано в начале этой статьи о восприятии Византийской империи в допетровской Руси и, с другой стороны, в России XIX–XX веков, на историческое сознание которой оказывала сильнейшее воздействие западная идеология. Гегель в своей «Философии истории» сказал о монголах (имея в виду, как он пояснил, и другие «кочевые» азиатские народы), что они-де живут, в сущности, бессодержательной «патриархальной жизнью», но «часто они собираются большими массами и благодаря какому-нибудь импульсу приходят в движение. Прежде мирно настроенные, они внезапно, как опустошительный поток, нападают на культурные страны, и вызываемый ими переворот не приводит ни к каким иным результатам, кроме разорения и опустошения. Такие движения народов происходили под предводительством Чингиз-хана и Тамерлана: они все растаптывали, а затем опять исчезали, как сбегает опустошительный лесной поток, так как в нем нет подлинного жизненного начала»{17}. Подобное представление о монголах, несмотря на все возможные оговорки и уточнения, присуще Западу и доныне. Так, через столетие после Гегеля Арнольд Тойнби писал, что «евразийские кочевники» — и в том числе монголы — являлись-де «не хозяевами, а рабами степи… Время от времени они покидали свои земли и врывались во владения соседних оседлых цивилизаций. Однако кочевник выходил из степи и опустошал сады цивилизованного общества не потому, что он решил изменить маршрут своего привычного годового климатико-вегетационного перемещения… Это происходило под воздействием внешних сил, которым кочевник подчинялся механически. Кочевника выталкивало из степи резкое изменение климата, либо его засасывал внешний вакуум, который образовывался в смежной области местного оседлого общества… Таким образом, несмотря на нерегулярные набеги на оседлые цивилизации, временно включающие кочевников в поле исторических событий, общество кочевников является обществом, у которого нет истории (выделено мною. — В.К.). Судьба империй, основанных номадическими (то есть кочевническими. — В.К.) завоевателями, покорившими оседлые народы, заставляет вспомнить притчу о семени, которое «упало на места каменистые… и, как не имело корня, засохло» (Матф. 13, 5–6)»{18}. Внешнее «наукообразие» смягчает характеристику Тойнби, но по своей сути она вполне совпадает с гегелевской, которая, собственно говоря, отказывала Монгольской империи в самом праве на существование. Имеет смысл тут же привести суждения выдающегося азиатского идеолога — Дж. Неру, который в одно время с Тойнби писал в своем сочинении «Взгляд на всемирную историю» (1930–1933 гг.): «Монголы были кочевниками… Многие думают, что, поскольку они были кочевниками, они должны были быть варварами. Но это ошибочное представление… у них был развитый собственный уклад жизни, и они обладали сложной организацией… Чингис, без сомнения, был величайшим военным гением и вождем в истории. Александр Македонский и Цезарь кажутся незначительными в сравнении с ним… Он был в высшей степени способным организатором и достаточно мудрым человеком… Его империя, возникшая так быстро, не распалась с его смертью… Его изображают крайне жестоким человеком. Он, без сомнения, и был жесток, но он не слишком отличался от многих других властителей того времени… Когда умер Чингисхан, Великим ханом стал его сын Угедей (при нем его племянник Батый и покорил Русь. — В.К.)… он был гуманным и миролюбивым человеком… Спокойствие и порядок установились на всем огромном протяжении монгольской империи… Европа и Азия вступили в более тесный контакт друг с другом…»{19} (это можно определить и как создание евразийской империи). Конечно, не исключено возражение, что «азиат» Неру слишком благосклонно оценил империю, созданную азиатом, и следует внести в его рассуждение определенные коррективы. Но вот что наиболее существенно: западные идеологи, как правило, применяют откровенный — даже, прошу извинения за резкость, наглый — двойной счет в отношении западных и, с другой стороны, восточных империй. Приведу только один, но выразительнейший образчик такого двойного счета. Дискредитируя Монгольскую империю, которая-де занималась только тем, что «опустошала» цивилизованные общества, Тойнби в то же время поет дифирамбы западным империям. Он пишет, например, о деятельности короля, а затем императора франков Карла Великого и его преемников, которые совершали дранг нах Остен, жесточайшим образом покоряя земли саксов, вендов (венедов), пруссов и т. п.: «Восемнадцать саксонских кампаний Карла могут сравниться лишь с военными успехами Тамерлана (выделено мною. — В.К.). За военными и политическими достижениями Карла последовали первые слабые проявления интеллектуальной энергии западного мира… Оттон уничтожил вендов… как Карл Великий уничтожил своих собственных саксонских предков… И только обитатели континентального побережья Балтийского моря оставались непокорными. На этом участке саксонский форпост призван был продолжить борьбу Отгона против вендов, которые в упорных сражениях продержались два столетия… Окончательная победа была достигнута… уничтожением непокорных в Бранденбурге и Мейсене… Города Ганзы и походы тевтонских рыцарей обеспечили продвижение границы западного христианства от линии Одера до линии Двины… к концу XIV в. континентальные европейские варвары… исчезли с лица земли»{20}. С явным торжеством перечисляя факты уничтожения племен, не желавших добровольно стать частью Западной империи, Тойнби по-своему прямо-таки замечательно говорит, что только Тамерлан достиг таких же «успехов», как Карл Великий! Впрочем, если учесть, что «уничтожение», начатое этим Карлом, длилось, по сообщению самого Тойнби, с конца VIII до конца XIV века (шестьсот лет!), западноевропейская империя далеко превзошла и Чингисхана, и Тамерлана со всеми их преемниками… Но вернемся к «двойному счету». Западная империя — это прекрасно, а восточные-де не только чудовищны, но и вообще не имеют права на существование (они ведь только «опустошение»). Таков приговор западноевропейской идеологии, которая, увы, во многом определяла и определяет русскую идеологию XIX–XX веков. Наиболее известный современный английский историк России Джон Феннел писал в своей книге «Кризис средневековой Руси» (1983), что, мол, «находиться в вассальной зависимости» от Монгольской империи «было позорно и бессмысленно»{21}. Совершенно иначе оценивают западные историки вассальную зависимость тех или иных народов от империй Карла Великого или Карла V (XVI век); эта зависимость, по их убеждению, вводила каждый покоряемый народ в истинную цивилизацию. К сожалению, многие русские историки и идеологи утверждают подобно Феннелу, что зависимость от Монгольской империи — это только «позор» и «бессмыслица». Воздействию западной идеологии в этом отношении не подчинялись лишь подлинно глубокие и самостоятельные люди, — такие, как уже не раз упомянутый Чаадаев, который писал в 1843 году, что «продолжительное владычество татар (вернее, монголов. — В.К.) — это величайшей важности событие… как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того, чтобы разрушить народность, оно только помогло ей развиться и созреть… оно сделало возможными и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание» (т. 2, с. 161). В XX веке чаадаевская постановка вопроса была развита и обоснована «евразийцами», показавшими, что Монгольская империя явилась окончательным утверждением Евразии как таковой — Евразии, основой которой позднее, после упадка империи, стало Московское царство, чьи границы уже во второй четверти XVII века достигли Тихого океана (как ранее — границы Монгольской империи). Но в этой статье речь идет не об историософском наследии евразийцев (его освоением и так заняты сейчас многие и многие авторы), но о реальном историческом «наследстве» самой Монгольской (как и Византийской) империи. При достаточно углубленном изучении русских исторических источников XIII–XVII столетий неопровержимо выясняется, что выразившиеся в них восприятие и оценка Монгольской (как и Византийской) империи решительно отличается от того восприятия и той оценки, которые господствуют в русской историографии и идеологии XIX–XX веков. Мне могут напомнить, что в русском фольклоре — от исторических песен до пословиц — имеет место весьма или даже крайне негативное отношение к «татарам». Однако не столь уж трудно доказать, что здесь перед нами отражение намного более поздней исторической реальности; дело идет в данном случае о татарах Крымского ханства, об их, по существу, разбойничьем образе жизни: опираясь на мощную поддержку Турецкой империи, они с середины XVI до конца XVIII века совершали постоянные грабительские набеги на русские земли и, в частности, увели сотни тысяч русских людей в рабство. Принципиально по-иному (чем позднейшее Крымское ханство) воспринимали и оценивали на Руси Монгольскую империю и ее — в русском словоупотреблении — царей. Обратимся хотя бы к сочинениям одного из виднейших церковных деятелей и писателей XIII века, архимандрита прославленного Киево-Печерского монастыря, а затем епископа Владимирского Серапиона. Он ни в коей мере не закрывал глаза на страшные бедствия монгольского нашествия, пережитого им вместе со всеми в юности. Около 1275 года он в высоком риторическом слоге вопрошал: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взята ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены быхом оставшеи горькою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лет приближает томление и мука…» Но вот что Серапион писал о монголах, нелицеприятно сопоставляя их со своими одноплеменниками. Хотя они, писал он, «погании (то есть язычники. — В.К.) бо Закона Божия не ведуще, не убивают единоверних своих, ни ограбляют, ни обадят, ни поклеплют (оба слова означают «клеветать», «оговаривать». — В.К.), ни украдут, не запряться (зарятся) чужого; всяк поганый своего брата не продаст; но кого в них постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему… а мы творимся, вернии, во имя Божие крещени есмы и заповеди его слышаще, всегда неправды есмы исполнени и зависти, немилосердья; братью свою ограбляем, убиваем, в погань продаем; обадами, завистью, аще бы можно, снеди (съели. — В.К.) друг друга, но вся Бог боронит…» Явное утверждение нравственного превосходства монголов (даже несмотря на их язычество) — не некий странный, «исключительный» образ мысли; напротив, перед нами типичная для той эпохи русская оценка создателей Монгольской империи. И вассальная зависимость Руси от этой империи отнюдь не рассматривалась как нечто заведомо «позорное и бессмысленное» (точно так же на Западе никто не считал «позором и бессмыслицей» зависимость тех или иных народов от Священной Римской империи германской нации, в рамках которой развивалась западная цивилизация). И потому, в частности, нет ничего неожиданного в том, что наивысшим признанием пользовались на Руси те «руководители» XIII–XIV веков, которые всецело «покорялись» вассалитету — св. Александр Невский, Иван Калита, свв. митрополиты Петр и Алексий и т. п. (историки начали «критиковать» их за «покорство» монголам лишь в XIX веке). Тут, конечно, встает вопрос о времени конца XIV века, о Дмитрии Донском, святых Сергии Радонежском и митрополите Киприане, решившихся на Куликовскую битву. Однако существо этого события начало действительно открываться нам лишь в самое последнее время. Александр Блок, создавший замечательный поэтический цикл «На поле Куликовом», отнес битву 1380 года к таинственным «символическим» событиям и прозорливо сказал о таких событиях: «Разгадка их еще впереди». Куликовская битва, свершившаяся почти через полтора века после монгольского нашествия и за сто лет до конца «монгольского ига», требует отдельного и тщательного рассмотрения. Но один аспект дела уместно затронуть и здесь. Всем известно, что преп. Сергий Радонежский благословил св. Дмитрия Донского на бой и победу, сказав ему (как сообщено в житии этого величайшего русского святого): «Пойди противу безбожных, и Богу помогающи ти, победиши…» Однако в древних рукописях жития преп. Сергия сохранился и совершенно иной ответ святого на просьбу великого князя Дмитрия о благословлении на битву с Мамаем: «… пошлина (то есть давно установленный порядок. — В.К.) твоя держит (препятствует. — В.К.), покорятися ордынскому царю должно»{22}. Существует точка зрения, согласно которой этот ответ преп. Сергий дал не в 1380 году, но ранее, в 1378-м — перед битвой (11 августа) на реке Боже (недалеко от старой Рязани) с войском Бегича. Но так или иначе едва ли есть основания сомневаться, что преп. Сергий не предлагал идти на битву с «царем», то есть с повелителем Монгольской империи. В том тексте жития, где рассказано о безоговорочном благословлении святого, Мамай назван не «царем», но «князем». И для того времени это было исключительно существенным различием. «Великий князь» (а он назывался именно так) Дмитрий вышел на бой не с царем, а, собственно говоря, с самозванцем, который был заклятым врагом и самой Монгольской империи. Как сообщается в наиболее подробных летописях (см., напр., ПСРЛ, т. XV, вып. 1), сразу после победы над Мамаем, «на ту же осень (то есть 1380 года. — В.К.) князь великий отпустил в Орду своих киличеев (послов. — В.К.) Толбугу да Мокшея к новому царю (имеется в виду недавно воцарившийся Тохтамыш. — В.К.) с дары и поминки» (стб. 142). Сообщает летопись и о том, что в конце 1380-го или начале 1381 года «царь Тохтамыш победи Мамая» — то есть окончательно добил его, — и «послы своя отпусти к князю Дмитрию и ко всем князьям русским, поведая… како супротивника своего и их врага Мамая победи… Князи же русстии послов его (царя. — В.К.) отпустиша в Орду с честию и с дары, а сами на зиму ту и на весну (1381 года. — В.К.), за ними, отпустиша своих киличеев с многыми дары ко царю Токтамышю» (стб. 141). Итак, Дмитрий Донской сообщил монгольскому царю о своей победе на Куликовом поле как о заслуге и перед ним, царем, затем царь известил князя Руси об осуществленном им окончательном разгроме Мамая, и, наконец, Русь поблагодарила царя за эту его победу. Об этих существеннейших фактах историки, как правило, полностью умалчивают, ибо они никоим образом не вписываются в предлагаемую ими картину взаимоотношений Руси и Монгольской империи. Ведь из приведенных сообщений, в достоверности которых у нас нет никаких оснований усомниться, ясно, что Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле отнюдь не против Монгольской империи, и преп. Сергий Радонежский благословил его на эту битву, надо думать, лишь тогда, когда стало очевидно, что Мамай — враг и Руси, и всей империи. Конечно, все это нуждается в подробном и масштабном анализе и осмыслении; в частности, как непонятное — без специального исследования — противоречие предстает последующий набег царя Тохтамыша на Москву (23 августа 1382 года). Но во всяком случае едва ли можно утверждать (хотя это постоянно делается), что Куликовская битва являла собой выступление Руси против Монгольской империи. Не менее важно правильно понять само окончание вассалитета Руси по отношению к империи. Здесь опять-таки дело вовсе не сводилось к борьбе: в XV веке Москва, выражаясь вполне точно, переняла эстафету власти над Евразией у ослабевшей и распадающейся империи и постепенно присоединяла к себе ее «куски» — Казанское, Астраханское, Сибирское ханства. Только ханство Крымское, ставшее, по сути дела, частью Турецкой империи, сохранялось вплоть до конца XVIII века. О том, что события XV–XVI веков являли собой не столько войну с остатками Монгольской империи, сколько именно переход власти в руки Москвы, убедительно писали историки-евразийцы, прежде всего Г. В. Вернадский (речь идет здесь не об его идеях, а об освоенных им исторических фактах). В своем «Начертании русской истории» (1927) он показал, в частности, как целый ряд знатнейших потомков Чингисхана — таких, как Шах-Али (Шигалей), Саин-Булат (Симеон Бекбулатович), Симеон Касаевич, — добровольно перешли на службу московского царя и обрели здесь самое высокое признание. Так, Шах-Али являлся главнокомандующим русским войском в Ливонской и Литовской войнах 1550–1560-х годов, а крестившийся Саин-Булат (Симеон) был даже провозглашен в 1573 году «великим князем Всея Руси» и после кончины царя Федора Иоанновича (1598 г.) считался одним из главных претендентов на русский престол. Нельзя не сказать еще, что переход в Москву тех или иных людей из монгольских верхов начался раньше и даже намного раньше того 1480 года, когда Иван III отверг вассалитет. Уже в XIII веке племянник Батыя принял христианство с именем Петра и стал так верно служить Руси, что был причислен к лику святых (преп. Петр, царевич Ордынский; его потомком, между прочим, был величайший иконописец эпохи Ивана III Дионисий). Одним из приближенных Дмитрия Донского был царевич-чингизид Черкиз; его сын Андрей Черкизов командовал одним из шести русских полков, пришедших на Куликово поле. Когда в 1476 году — то есть еще до «свержения ига» — итальянский дипломат Амброджо Контарини приехал в Москву, он столкнулся с парадоксальной, но вполне типичной для Руси того времени ситуацией. Великий князь Иван III, сообщал Контарини (надо думать, не без удивления), имеет «обычай ежегодно посещать… одного татарина (по-видимому, речь шла о хане Касимовском. — В.К.), который на княжеское жалованье держал пятьсот всадников… они стоят на границах с владениями татар, дабы те не причиняли вреда стране великого князя»{23}. Нельзя не коснуться в связи с этим акта присоединения к России Казанского ханства, ибо его смысл явно неосновательно толкуется и русскими историками (точнее, большинством из них), в глазах которых взаимоотношения Руси и Монгольской империи (и ее остатков) предстают как непримиримая война, и некоторыми (к счастью, далеко не всеми) историками Татарстана, усматривающими во взятии русскими войсками Казани акт порабощения и даже чуть ли не геноцида своего дотоле свободного народа. Казань (точнее, «Старая Казань»), по-видимому, еще в конце XII века стала столицей существовавшего с X века государства волжско-камских булгар. Но вскоре Булгария (почти в одно время с Русью) была завоевана Батыем и до тридцатых годов XV века являлась, по сути дела, таким же вассалом Монгольской империи, как и Русь; булгарские князья, подобно русским, платили дань и исполняли вассальные обязанности. Но к середине XV века, после фактического распада государства монголов, бывший его царь Уду-Мухаммед, изгнанный соперниками из Сарая и затем из Крыма и оставшийся, таким образом, без владения, захватил Казань, убил ее булгарского владетеля Али-Бека (иначе — Алибея) и сел на его место (согласно другой, менее достоверной, версии, это сделал сын Уду-Мухаммеда, Махмутек). Есть, между прочим, достаточные основания полагать, что вначале Уду-Мухаммед имел намерение «сесть» подобным же образом не в Казани, а в Москве, но, по-видимому, счел этот план нереальным. В дальнейшем Казанское ханство существовало — наряду с Крымским, Астраханским, Сибирским — как своего рода осколок империи; ханства уже никак не могли объединиться, подчас активно соперничали, но нередко — в трудные моменты так или иначе поддерживали друг друга. В частности, после смерти в 1518 году правнука Уду-Мухаммеда, не оставившего сыновей, из Крыма в Казань был прислан с войском и свитой младший брат тамошнего хана, Сагиб-Гирей; особенно знаменательно, что позднее он вернулся в Крым, а в Казань прислал оттуда своего племянника Сафа-Гирея, правившего до своей кончины в 1549 году — за три года до взятия Казани русским войском. Двухлетний сын Сафа-Гирея, Утемыш-Гирей, естественно, не мог править, и помощь Казанскому ханству на этот раз пришла уже не из Крыма, а из Астрахани. В начале 1552 года в Казань явился царевич Едигер — сын хана Астраханского правнук Ахмата (который пытался в 1480 году заставить подчиниться ему Ивана III). Он пришел, сообщает составленный вскоре после событий их непосредственным очевидцем «Казанский летописец», и «с ним прийде в Казань 10 000 варвар (то есть нехристиан. — В.К.), кочевных самоволных, гуляющих в поле». Цифру эту, могущую показаться произвольной, подтверждает другой очевидец — князь Курбский в своем рассказе о взятии Казани (в его сочинении 1573 года «История о великом князе Московском»), сообщая, что во время последней решающей схватки хана Едигера окружали именно 10 000 отборных воинов. Из этого, естественно, следует вывод, что битва за Казань шла — хотя бы прежде всего, главным образом — не между русскими и коренным населением ханства, а между боевыми силами чингизида Едигера, которые он привел из Астрахани, и московским войском. При любых возможных оговорках все же никак нельзя считать правление Едигера и его воинов воплощением национальной государственности народа, жившего вокруг Казани, — хотя это и делают некоторые татарские историки. Итак, судьба Москвы и Казани со времен монгольского нашествия и до 1430–1440-х годов была аналогичной: правившие в этих городах князья являлись вассалами монгольского хана — «царя». Но с момента захвата Казани Уду-Мухаммедом, убившим принадлежавшего к коренному населению князя Алибея, положение стало принципиально иным: представим себе, что чингизид Уду-Мухаммед смог захватить не Казань, а Москву, убить княжившего тогда Василия II (отца Ивана III) и править в Москве вместе со своим войском и свитой… Поэтому, повторяю, по меньшей мере некорректно усматривать во взятии Казани московским войском в 1552 году подавление национальной государственности. Впрочем, и вопрос о борьбе Москвы с чингизидами и их войсками, основу которых составляли люди, называвшиеся к тому времени «татарами», не так прост, как чаще всего думают. Дело в том, что московское войско, пришедшее в Казань, включало в себя больше татар, нежели войско Едигера. Неверное представление о всей исторической ситуации эпохи заставляет закрыть глаза даже на предельно выразительные факты. Уже упомянутый «Казанский летописец» рассказывает о том, как царь Иван Васильевич (Грозный) по пути на Казань, в Муроме, «благоразумно… учиняет началники воев»: «В преднем же полку началных воевод устави над своею силою: татарского крымского царевича Тактамыша и царевича шибанского Кудаита… В правой руце началных воевод устави: касимовского царя Шигалея… В левой же руце началные воеводы: астороханский царевич Кайбула… В сторожевом же полце началныя воеводы: царевич Дербыш-Алей». К этому необходимо добавить, что ранее в «Летописце» сообщено следующее: «прийде в Муром град царь Шигалей ис предела своего, ис Касимова, с ним же силы его варвар 30 000; и два царевичя Астраханской Орды… Кайбула именем, другой же — Дербыш-Алей… дающиеся волею своею в послужение царю великому князю, а с ними татар их дватцать тысяш»{24}. Разумеется, основу войска составляли русские (я опустил в цитатах имена русских воевод), но летописец на первые места везде ставил чингизидов, — хотя бы потому, что русские военачальники никак не могли сравниться с чингизидами с точки зрения знатности. Как же все это понять? При верном общем представлении о том, что совершалось в XV–XVI веках, здесь нет никаких загадок. Власть на тех территориях, которые принадлежали Монгольской империи, переходила в руки Москвы, поскольку — в силу многих причин — чингизиды уже не могли удержать эту власть. Наиболее дальновидные чингизиды постепенно переходили на московскую службу, получая очень высокое положение в русском государстве и обществе. Конечно, это был не простой процесс. Так, тот самый астраханский царевич Едигер, который в 1552 году стал ханом Казанским, десятью годами ранее прибыл в Москву, а в 1547-м во время неудачного похода на Казань был одним из русских «началных воевод». Но чаша весов еще, казалось, колеблется, и через пять лет Едигер, став ханом Казанским, отвергал все предложения подчиниться Москве. Впрочем, оказавшись в плену, он через какое-то время принял Крещение с именем Симеона Касаевича (сын Касима), сохранил титул «царь Казанский» и занял высшее положение при Московском дворе и государстве в целом (так, в летописных описаниях церемоний царь Казанский Симеон стоит на втором месте после Ивана Грозного). Ярко раскрывается судьба «монгольского наследства» и в участи потомков всем известного сибирского хана Кучума. Сибирь дольше других областей (исключая занятый турками Крым) переходила под руку Москвы. Только в январе 1555 года тогдашний хан Сибири Едигер (тезка хана Казанского) признал себя вассалом московского царя. Однако в 1563-м потомок старшего сына Чингисхана Джучи (старшим сыном этого Джучи был, кстати сказать, и сам Батый) хан Кучум разгромил и убил Едигера и вскоре порвал отношения с Москвой. В 1582 году он потерпел поражение от Ермака, а в 1585-м, напротив, Ермак погиб в бою с Кучумом, который до 1598 года продолжал отстаивать свою власть над Сибирью. Впрочем, широко распространенное представление о Кучуме как бы исчерпывается словами явно не очень осведомленного в сибирских делах Кондратия Рылеева: «Кучум, презренный царь Сибири…» Итак, потомок Чингисхана Кучум не пожелал подчиниться московскому царю. Тем не менее его сыновья Алей (который, кстати сказать, долго воевал против Москвы вместе с отцом), Абулхаир, Алтапай, Кумыш сохранили титулы «царевичи Сибирские» и пользовались на Руси самым высоким почетом. Сын Алея, Алп-Арслан в 1614–1627 годах был правителем относительно автономного Касимовского ханства. А сын последнего, Сеид-Бурхан, принял христианство с именем «Василий, царевич Сибирский» и выдал свою дочь (то есть праправнучку Кучума) царевну Сибирскую Евдокию Васильевну ни много ни мало за брата русской царицы (супруги Алексея Михайловича и матери Петра I), Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Другой праправнук Кучума (правнук его сына Кумыша), также названный Василием (по-видимому, царевичи Сибирские уже знали, что по-гречески «Василий» означает «царь»), стал близким сподвижником русского царевича — сына Петра I, злополучного наследника престола Алексея. Из-за этого пострадали все царевичи (вместе с ними, конечно, подверглось гонениям немало и русских людей из окружения царевича Алексея): с 1718 года им было повелено считаться отныне только князьями Сибирскими. Тем не менее внук опального царевича Василия, князь Василий Федорович Сибирский, живший уже во второй половине XVIII — начале XIX века, стал генералом от инфантерии (чингизидская военная косточка!) и сенатором при Александре I; он едва ли мог без возмущения воспринимать рылеевскую балладу… Этот генеалогический экскурс, как мне представляется, небезынтересен и сам по себе, но важнее всего осознать, что ложные и в конечном счете внушенные западной идеологией понятия о роли Монгольской империи и ее наследства в России как бы вычеркивают подобные факты из нашего внимания. А между тем факты такого рода поистине неисчислимы, и они ясно говорят о том, что господствующие представления об отношениях Руси и Монгольской империи (и ее наследии) совершенно не соответствуют исторической реальности. Как уже сказано, восприятие Русью монгольского наследства окончательно сделало ее евразийской державой и, в частности, исключало какое-либо «высокомерие» русского национального сознания в отношении азиатских народов. В связи с этим стоит привести два очень весомых высказывания крупнейших политических деятелей Запада. Один из них — князь Отто фон Бисмарк (1815–1898), посланник Пруссии в Петербурге, затем прусский министр-президент и министр иностранных дел и, наконец, канцлер Германии. Он со знанием дела писал: «Англичане ведут себя в Азии менее цивилизованно, чем русские; они слишком презрительно относятся к коренному населению и держатся на расстоянии от него… Русские же, напротив, привлекают к себе народы, которые они включают в свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними»{25}. Характерно, что это подтвердил позднее и виднейший английский политик, лорд Джордж Керзон (1859–1925), вице-король Индии, а затем министр иностранных дел Великобритании: «Россия, — писал он, — бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами… Я вспоминаю церемонию встречи царя (Николая II. — В.К.) в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии… Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов»{26}. В этих, можно сказать, «завистливых» высказываниях крупнейших политиков Запада существенны не только верные наблюдения, но и — в равной мере — довольно грубые неточности. Во-первых, и Бисмарк, и Керзон едва ли правильно характеризуют поведение русских в Азии только как выражение осознанной политической линии; евразийство России — органическое качество, естественно сложившееся в течение тысячелетия (хотя, конечно, имела место и политическая стратегия и тактика). Далее, ошибочно бисмарковское положение о большей, в сравнению с англичанами, «цивилизованности» поведения русских в Азии; речь должна идти не о количественной мере цивилизованности, но о качественно иной цивилизации. И уж совсем ложны слова Керзона о том, что русские не уклоняются от общения с «низшими расами»: в русской ментальности (какие-либо «исключения» здесь только подтверждают правило) просто нет самого этого — сложившегося на Западе — представления о «низших» (и «высших») расах и т. д. Нельзя не предвидеть, впрочем, что все сказанное мной о евразийском «составе» России может вызвать резкое возражение такого характера: к чему все эти благодушные рассуждения, если Россия была и остается «тюрьмой народов»?… «Формула» эта восходит, как полагают, еще к книге маркиза де Кюстина{27}, — то есть опять-таки к западной идеологии, но она давно стала обязательной и в устах всех туземных «критиков» Российского государства. Необходимым исходным пунктом данной формулы является (хотя это не очень уж осознается) тот факт, что основные страны современного Запада, в отличие от России, предстают в качестве мононациональных. Вот, мол, французы, англичане, немцы создали свои государства на своих же территориях, не захватывая земель, принадлежавших иным народам, а русские, не ограничиваясь «собственными» землями, поработили множество других народов и племен… Между тем это сопоставление стран Запада и России, вне которого и не могла бы возникнуть формула «тюрьма народов», основано на поистине странной слепоте или, скажем так, забывчивости. Ибо не надо быть специалистом в области этнографии, дабы знать, что в силу уникально благоприятных для жизни людей географических условий (гораздо более благоприятных, чем российские) Западная Европа с давних времен влекла к себе массу различных племен, и к тому историческому моменту, когда французы, англичане и немцы начали создавать свои государства, на землях, где воздвигались эти государства, жило великое множество различных этносов — кельтских, иллирийских, балтских, славянских и т. д. Их имелось не меньше (если не больше), чем на территории России. Однако в течение веков они были стерты с лица земли посредством самого жесткого давления со стороны трех господствующих этносов или даже прямого физического уничтожения, — о чем, кстати, не без более чем сомнительного воодушевления сообщается в приводившихся выше высказываниях Арнольда Тойнби… Не секрет, что преобладающая часть всей топонимики (названий местностей, рек, гор, даже городов и селений и т. д.) Франции, Великобритании и Германии не является французской, английской и немецкой. Более того, даже общее название «Великобритания» происходит от кельтского народа бриттов (а не германского — англов); точно так же самая обширная часть Германии — Пруссия — это территория стертого с лица земли наиболее значительного и культурного балтского народа — пруссов. И, между прочим, нет никакого сомнения, что если бы немцы в давние времена смогли надолго подчинить себе и земли восточнее Немана, то и от других балтских этносов — литовцев и латышей — уцелели бы в лучшем случае только названия (стоит в связи с этим подумать о судьбе данных народов в составе России…). Невозможно излагать здесь всю этническую историю стран Запада, но для уяснения проблемы достаточно в самых общих чертах сравнить ее с этнической историей России — той России, даже в центральной части которой на протяжении веков жили, росли и крепли вроде бы совсем «чужие» русским народы — башкиры, коми, марийцы, мордва, татары, удмурты, чуваши и т. д., а на окраинах столетиями сохранялись даже и самые малочисленные этносы в несколько тысяч или даже в несколько сот (!) человек. На Западе же многие десятки народов либо вообще исчезали, либо превратились к нашему времени в своего рода этнические реликты (как шотландцы, валлийцы, бретонцы, гасконцы, лужичане и т. п.). Ныне всего только два народа, живущие на территориях крупных западноевропейских стран, продолжают отстаивать себя как еще живые силы — ирландцы (в британском Ольстере) и баски (в Испании и Франции). Много лет они ведут кровавую войну за элементарную национальную автономию… И если уж называть Россию «тюрьмой народов», то, в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны Запада не иначе как «кладбищами народов», а потом уж решать, что «лучше» — тюрьма или кладбища… Во всяком случае, совершенно неосновательна «критика» России, продиктованная, в сущности, самим тем фактом, что в ее пределах (в отличие от основных стран Запада) жило и живет сегодня множество различных народов; при всех возможных оговорках этот факт должен бы вызывать восхищение, а не поношение… На этом я завершаю свое — конечно же, ни в коей мере не исчерпывающее проблему, — размышление, хотя вполне естественно встает вопрос: как же понимать в свете идеократической и евразийской природы России все то, что происходит с нашей страной в наше время? Но не надо, полагаю, доказывать и то, что эта тема нуждается в специальном развернутом осмыслении… >ПРИМЕЧАНИЯ >К главе первой «Кто такие «черносотенцы»? id="c1_1">1) Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. М., 1959, т. VI, с. 157, 159, 165. id="c1_2">2) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 9. id="c1_3">3) Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 18. id="c1_4">4) Степанов С. А., указ. соч., с. 226. id="c1_5">5) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М., Л., 1963, т. 7, с. 14. id="c1_6">6) Звенья. Исторический альманах. Выпуск 2. М. — СПб., 1992, с. 342. id="c1_7">7) Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 15, 16. id="c1_8">8) Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973, с. 69. id="c1_9">9) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 230. id="c1_10">10) Гиппиус Зинаида. Живые лица. Воспоминания. Тб., 1991, с. 26, 28. id="c1_11">11) Интеллигенция в России. Сборник статей. СПб., 1910, с. 130, 113, 171, 191. id="c1_12">12) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 302, 300. id="c1_13">13) Цит. по кн.: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 182. id="c1_14">14) Булгаков С. цит. изд., с. 310, 300, 302, 313. id="c1_15">15) Булгаков Сергей, прот. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991, с. 121, 137. id="c1_16">16) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. Очерки и публицистика. М., 1991, с. 58, 49. id="c1_17">17) Бердяев H. Л. Новое средневековье. М., 1991, с. 46. id="c1_18">18) См.: «Наш современник», 1990, № 10, с. 112. id="c1_19">19) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 183. id="c1_20">20) Нестеров М. В. Письма. Избранное. М., 1988, с. 198. id="c1_21">21) Никонова И. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1962, с. 101. id="c1_22">22) Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 92. id="c1_23">23) Михаил Васильевич Нестеров. 1862–1942. М., 1990, с. 92. id="c1_24">24) Франк С. Л. Сочинения. М., 1990, с. 154. id="c1_25">25) Столпнер Б. Г. (1871–1967) — лектор и переводчик в области философии, с 1920 г. — профессор. id="c1_26">26) Розанов В. В. Мимолетное, 1915. См.: «Начала», 1992, № 3, с. 21. >К главе второй «Что такое Революция?» id="c2_1">1) Розанов В. В. Из воспоминаний и мыслей об А. С. Суворине. М., 1992, с. 18. id="c2_2">2) Тэри Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор. Paris, 1986, с. 1. id="c2_3">3) Назаров А. И. Книга в советском обществе. М., 1964, с. 28. id="c2_4">4) «Вопросы философии», 1990, № 8, с. 133, 134–135, 136. id="c2_5">5) Федотов Г. П. Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989, с. 99–100. id="c2_6">6) Там же, с. 91. id="c2_7">7) Бердяев H. Душа России. М., 1990, с. 12, 14. id="c2_8">8) Токвиль. Старый порядок и Революция. М., 1905, с. 196–197. id="c2_9">9) См.: Миронов Б. H. История в цифрах. Л., 1992, с. 136. id="c2_10">10) Там же, с. 82, 83. id="c2_11">11) «Вопросы истории», 1992, № 2–3, с. 82. id="c2_12">12) Родионов И. А. Два доклада. СПб., 1912, с. 79, 77, 71. id="c2_13">13) Цит. по кн.: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. Мюнхен, 1949, т. II, с. 256, 257. id="c2_14">14) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. М., 1990, с. 40. id="c2_15">15) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. М., 1988, с. 30. id="c2_16">16) Деникин А. И. Поход на Москву. М., 1989, с. 75, 76. id="c2_17">17) Разгром Колчака. Воспоминания. М., 1969, с. 242. >К главе третьей «Неправедный суд» id="c3_1">1) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 270. id="c3_2">2) Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977, с. 280. id="c3_3">3) Булгаков С. Н., цит. изд., с. 28. id="c3_4">4) Палеолог Морис. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 265, 291. id="c3_5">5) Цит. по кн.: Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 334. id="c3_6">6) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914). М., 1992, с. 91. id="c3_7">7) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 172. id="c3_8">8) Журн. «Родина», 1992, № 2, с. 20. id="c3_9">9) Обнинский В. П. Новый строй. М., 1909, с. 18. id="c3_10">10) Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991, с. 281–283. id="c3_11">11) «Исторические записки». М., 1971, т. 91, с. 269–270. id="c3_12">12) Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…» СПб., 1992, с. 234. id="c3_13">13) Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991, с. 150. Эти воспоминания известны С. А. Степанову только по цитатам в других работах (ср. с. 92 и 118 его книги). id="c3_14">14) Шульгин В. В. цит. соч., с. 235. id="c3_15">15) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 325. id="c3_16">16) Цит. по кн.: Яковлев Н. 1 августа 1914. М., 1974, с. 141. id="c3_17">17) Милюков П. Н. цит. соч., с. 445. id="c3_18">18) Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920). М., 1982, с. ПО, 114, 117. Историк, правда, назвала здесь великого герцога Гессенского и Рейнского «принцем». id="c3_19">19) Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е издание, т. 34, с. 348. id="c3_20">20) «Вопросы истории», 1991, № 7–8, с. 154. id="c3_21">21) Цит. по кн.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 136. id="c3_22">22) Цит. по кн.: Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 267. id="c3_23">23) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 335–336. id="c3_24">24) Аврех А. цит. соч., с. 134–135. id="c3_25">25) Булгаков С. Н. цит. соч., с. 300, 308. (Выделено мною. — В.К.) id="c3_26">26) Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989, с.153. id="c3_27">27) Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной Думы. М., 1932, с. 284. >К главе четвертой «Правда о погромах» id="c4_1">1) Inquisition and Society in Early Modern Europe. London, 1987, p. 10–25. id="c4_2">2) Гессен Ю. История еврейского народа в России. Москва-Иерусалим, 1993, с. 217–218; Он же. Погромы в России. ЕЭ, т. 12, с. 612 и след. id="c4_3">3) См.: Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. II. Восьмидесятые годы. Прг. —М., 1923, с. 529–542. id="c4_4">4) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I. Прг., 1919, с. 135–137. id="c4_5">5) «Литературная учеба», 1992, № 1–3, с. 114–115. id="c4_6">6) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. 1,с. 354–355. id="c4_7">7) Сироткин В. Так кто же раскручивает «кровавую карусель»? В кн.: Резник С Кровавая карусель. М., 1991, с. 209, 214. (Курсив мой. — В.К.) id="c4_8">8) Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 68. id="c4_9">9) Малая Советская Энциклопедия. М., 1931, т. 6, с. 627–628. id="c4_10">10) Еврейская Энциклопедия, т. 12, с. 618, 622; в последней цитируемой фразе я опустил упоминание о том, что погром произошел в 1906 году еще и в Гомеле — притом здесь же дана такая отсылка: «см. Гомельский процесс, Евр. Энц., т. 6, с. 666–667». По-видимому, слово «Гомель» вставил не автор статьи — весьма точный человек, — а какой-нибудь редактор, не обративший внимание на тот факт, что в 1906 году завершился судебный процесс по делу о гомельском погроме, а сам-то погром состоялся еще в 1903 году (см. указанную статью в 6-м томе ЕЭ). id="c4_11">11) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 8. id="c4_12">12) Левицкий В. Правые партии. В кн.: Общественное движение в России в начале XX века. СПб., 1914, т. III, кн. 5, с. 392. id="c4_13">13) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I, с. XII. id="c4_14">14) Малая Советская Энциклопедия, т. 6, с. 628. id="c4_15">15) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 92, 171. id="c4_16">16) «Родина», 1992, № 2, с. 19. id="c4_17">17) Laqueur Walter. Stalin. The Glasnost Revelations. N.Y., 1990, p. 247. id="c4_18">18) Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 120. id="c4_19">19) Государственная Дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия IV. СПб., 1911, ч. III, стб. 3146. id="c4_20">20) Цит. по кн.: Кузьмичев А., Петров Р. Русские миллионщики. Семейные хроники. М., 1993, с. 108. >К главе пятой «Истинная причина травли «черносотенцев» id="c5_1">1) Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History. Cambridge University Press, 1992. id="c5_2">2) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 2, с. 232. id="c5_3">3) Там же, с. 233. (Курсив мой. — В.К.) id="c5_4">4) «Родина», 1994, № 1, с. 25. id="c5_5">5) Цит. по кн.: Марков Н. Е. Войны темных сил. М., 1993, с. 147. id="c5_6">6) См.: Минувшее. Исторический альманах, 14. М. — СПб., 1993, с. 145–225. id="c5_7">7) См.: Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 146. id="c5_8">8) «Наш современник», 1991, № 9, с. 90, 93. id="c5_9">9) Жаботинский Владимир (Зеев). Избранное. Иерусалим-Санкт-Петербург, 1992, с. 74–75. id="c5_10">10) «Исторический архив», 1993, № 4, с. 220. id="c5_11">11) «Российский архив», IV. М., 1993, с. 6. id="c5_12">12) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 271. id="c5_13">13) Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991, с. 237. id="c5_14">14) Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992, Т. 2, с. 43. id="c5_15">15) Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981, с. 227. id="c5_16">16) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 213. id="c5_17">17) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 147. id="c5_18">18) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 104. id="c5_19">19) Русские писатели… Т. 2, с. 44. id="c5_20">20) Цит. по кн.: Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978, с. 132. id="c5_21">21) Цит. по журн.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 152. id="c5_22">22) Аврех А. Я. П. А. Столыпин…, с. 226–227. id="c5_23">23) Жаботинский., цит. соч., с. 72, 73. id="c5_24">24) См.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 151. id="c5_25">25) Жаботинский, цит. соч., с. 122. id="c5_26">26) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. М., 1991, с. 52. id="c5_27">27) Карсавин Л. П. Россия и евреи. В кн.: Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX века. СПб, 1993, с. 407. В 1928 году статья впервые опубликована в эмигрантском журнале «Версты», одним из редакторов которого был муж М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрон. id="c5_28">28) Шафаревин И. Р. Сочинения. В трех томах. М., 1994, т. 2, с. 142–143, 158. id="c5_29">29) Нежный Александр. Комиссар дьявола. М., 1993, с. 7. id="c5_30">30) Марков Н. Е., цит. соч., с. 121. id="c5_31">31) Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 61. id="c5_32">32) Альбац Евгения. Мина замедленного действия. (Политический портрет КГБ). М., 1992, с. 129–130. id="c5_33">33) Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав. М., 1992, с. 162, 204. id="c5_34">34) Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1983, т. 25, с. 86. (Выделено автором.) id="c5_35">35) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1994, № 1, с. 42. id="c5_36">36) СССР в цифрах. М., 1935, с. 273. id="c5_37">37) Бела Моте. Мир Жаботинского. Иерусалим — Москва, 1992, с. 153. id="c5_38">38) См., напр.: «Наш современник», № 6 за 1990 г. и № 9 за 1991 г. и мою книгу «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» (М., 1990, с. 221–246). >К глава шестой «Что же в действительности произошло в 1917 году?» id="c6_1">1) Войсковые комитеты действующей армии. Март 1917 г. — март 1918 г. М., 1981, с. 18. id="c6_2">2) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 207. id="c6_3">3) Цит по кн.: Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 69. id="c6_4">4) Деникин А. И. Очерки русской смуты. «Вопросы истории», 1990, № 8, с. 78. id="c6_5">5) Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1990, т. 1, с. 53. id="c6_6">6) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М.-Л., 1963, т. 8, с. 498. id="c6_7">7) Блок Александр. Записные книжки 1901–1920. М., 1965, с. 379, 380. id="c6_8">8) См.: Бонч-Бруевич Вл. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине. Журн. «Звезда», 1930, с. 182–183 (перепечатано в кн.: «За кулисами видимой власти». М., 1984, с. 94–96); Яковлев H. 1 августа 1914. М., 1974; Старцев В. И. Революция и власть. М., 1978; Он же. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980; За кулисами видимой власти. М., 1984; Старцев В. И. Российские масоны XX века. «Вопросы истории», 1989, № 6; Русское политическое масонство. 1906–1918 гг. (Документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира). «История СССР», 1989, № 6 и 1990, № 1; Замойский Лоллий. За фасадом масонского храма. Взгляд на проблему. М., 1990; Старцев Виталий. Что могут масоны. Газ. «Экономика сегодня и завтра». М., 1992, № 1, 1993, № 1. Определенные итоги изучения масонства подведены в издании: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; здесь освещена масонская принадлежность многих главных «героев Февраля». Основная эмигрантская и иностранная литература о российском масонстве XX века указана в статье В. И. Старцева в журн. «Вопросы истории», 1989, № 6 (см. сноски к с. 34–38). id="c6_9">9) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 94, 96. id="c6_10">10) Так, виднейшие русские историки В. О. Ключевский и, вслед за ним, С. Ф. Платонов убедительно объяснили явление пугачевщины указами Петра III и Екатерины II о «вольности дворянской», которые расшатали наиболее широкую опору власти и, с другой стороны, породили «законное» стремление к вольности в крестьянстве. id="c6_11">11) В ноябре 1824 года Пушкин писал своему брату Льву из Михайловского: «…пришли мне… Жизнь Емельки Пугачева» (Пушкин А. С. Письма. М.-Л., 1926, т. 1, с. 96); имелась в виду единственная тогда книга о Пугачеве (переведенная с немецкого), которую, впрочем, Пушкин позднее назвал «глупым романом». id="c6_12">12) «Вопросы истории», 1990, № 9, с. 103–104. id="c6_13">13) Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983, с. 233. id="c6_14">14) Цит. по журн.: «Согласие», 1993, № 2, с. 213–214. id="c6_15">15) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 421–422. id="c6_16">16) Бунин И. А. Собрание сочинений. Берлин, 1935, т. X, с. 165. id="c6_17">17) Блок Александр. Собрание сочинений. Т. 7, с. 330. id="c6_18">18) Блок Александр. Записные книжки… с. 394. id="c6_19">19) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 102. id="c6_20">20) Станкевич В. Б. Революция. В кн.: Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991, с. 239. id="c6_21">21) Бернштам Михаил. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992, с. 21. id="c6_22">22) Бернштам Михаил., цит. соч., с. 41; Спирин Л. М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.). М., 1968, с. 180. id="c6_23">23) Иллерицкая Е. В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России. М., 1981, с. 119. id="c6_24">24) Минувшее. Исторический альманах. I. М., 1990, с. 309. id="c6_25">25) Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993, с. 307, 308, 309. id="c6_26">26) Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М. — СПб., 1992, с. 354. id="c6_27">27) Цит. по кн.: Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. Свердловск, 1991, с. 90. id="c6_28">28) Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 1927, с. 163. id="c6_29">29) Дневники императора Николая II. М., 1991, с. 625. id="c6_30">30) Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986, с. 36–39, 58–60. id="c6_31">31) «История СССР», 1990, № 1, с. 153. id="c6_32">32) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 92. id="c6_33">33) Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991, с. 213. Необходимо отметить, что и самого великого князя Александра Михайловича Н. Н. Берберова причислила к масонству; в действительности же он участвовал в своего рода придворной игре — «Ложе филалетов», в которую, как сообщала сама Н. Н. Берберова, «принимали всех, кто хотел» (с. 23). Никакого отношения к политике эта «ложа» не имела и не могла иметь. id="c6_34">34) Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993, с. 9. id="c6_35">35) «Военно-исторический журнал», 1967, № 5, с. 113. id="c6_36">36) Командующий Балтийским флотом адмирал А. И. Непенин считал себя продолжателем дела декабристов и готовился к перевороту; по известной логике «за что боролись…» он был уже 4 марта 1917 года убит взбунтовавшимися матросами… id="c6_37">37) Старцев В. Я. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 248. id="c6_38">38) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 118, 169, 233–234. id="c6_39">39) Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1933, с. 166. id="c6_40">40) Белая Россия. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937 г. Репринт — СПб., 1991, с. 123, 11, 17, 60. id="c6_41">41) Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992, с. 40. id="c6_42">42) «Вопросы истории», 1993, № 10, с. 113–114. id="c6_43">43) Леховин Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992, с. 22. id="c6_44">44) Цит. по кн.: Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983, с. 16. id="c6_45">45) См.: Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак. «Вопросы истории», 1991, № 1, с. 61. id="c6_46">46) Гуль Р. Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Будберг А. Дневник. М., 1990, с. 252. id="c6_47">47) Цит. по кн.: Думова H. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.). М., 1982, с. 337. id="c6_48">48) Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 54. id="c6_49">49) Поскольку в 1918–1922 годах не велась статистика новорожденных, невозможно достоверно выяснить количество умерших детей. id="c6_50">50) Кожинов Вадим. Жертвы насилия. Истинные наши потери с 1917 по 1941 год. «Москва», 1994, № 6, с. 126–129. id="c6_51">51) Малая Советская Энциклопедия. М., 1929, т. 1, с. 703. id="c6_52">52) Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. СПб., 1992, с. 123. id="c6_53">53) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг. М., 1988, с. 196. id="c6_54">54) Источник. Документы русской истории. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». М., 1993, № 2, с. 27. id="c6_55">55) Цит. изд., 1993, № 3, с. 13. id="c6_56">56) См.: Кавтарадзе А. Г., цит. соч., с. 174. id="c6_57">57) Великий князь Александр Михайлович, цит. соч., с. 256–257. id="c6_58">58) Как пишет, основываясь на многолетнем исследовании проблемы, В. И. Старцев, в масонство — разумеется, еще до 1917 года — входили только «двое большевиков — вероятно, в качестве наблюдателей. Это были С. П. Середа из Рязани и И. И. Скворцов-Степанов из Москвы» («Экономика сегодня и завтра», 1993, № 1, с. 28). После же Октября никаких реальных контактов большевиков и масонов не обнаруживается. id="c6_59">59) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы (с предисловием А. Г. Кавтарадзе). М., 1990, с. 146, 147. id="c6_60">60) Деникин А. И. Поход на Москву…, с. 48. id="c6_61">61) Цит. по кн.: История советской литературы. Новый взгляд. М., 1990, ч. 2, с. 28. id="c6_62">62) Лакер Уолтер. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994, с. 64. id="c6_63">63) См. библиографию в журн.: «Вопросы истории», 1989, № 6, с. 35–38. id="c6_64">64) Аврех А. Я. Масонство и революция. М., 1990, с. 18. >Примечания к историософскому приложению: О визаитийском и монгольском «наследствах» в судьбе России id="c7_1">1) Тихомиров М. И. Русская культура X–XVIII вв. М., 1968, с. 131. id="c7_2">2) Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980, с. 250–252. id="c7_3">3) Из произведений патриарха Фотия. — В кн.: Материалы по истории СССР. Вып. 1. М., 1985, с. 267–270. id="c7_4">4) Гегель. Сочинения. М., 1935, т. VIII, с. 323, 318 (далее — по этому же изданию). id="c7_5">5) Гердер Иоганн Готфрид. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 499 (далее — по этому же изданию). id="c7_6">6) Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991, с. 317 (далее — по этому же изданию). id="c7_7">7) Цит. изд., с. 499. id="c7_8">8) Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза. М., 1989, с. 322. id="c7_9">9) Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности. «Новый мир», 1988, № 7, с. 214. id="c7_10">10) Леонтьев Константин. Записки отшельника. М., 1992, с. 29, 32, 33. id="c7_11">11) Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991, т. 1, с. 533 (далее — по этому же изданию). id="c7_12">12) Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994, с. 392, 398, 443. id="c7_13">13) Коленкур Арманд. Поход Наполеона в Россию. М., 1943, с. 220. id="c7_14">14) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 579. id="c7_15">15) Маркс Карл. Разоблачение дипломатической истории XVIII века. «Вопросы истории», 1989, № 4, с. 3. id="c7_16">16) Там же. id="c7_17">17) Гегель, цит. изд., с. 85. id="c7_18">18) Там же, с. 110. id="c7_19">19) Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1975, т. 1, с. 314. id="c7_20">20) Тойнби, цит. изд., с. 250. id="c7_21">21) Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М, 1989, с. 213. id="c7_22">22) Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М, 1892 с. 137. id="c7_23">23) Барбаро и Контарини о России. Л., 1971, с. 226. id="c7_24">24) Казанская история. В кн.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М, 1985, с. 462. Эти сведения из «Казанской истории» или, иначе, «Казанского летописца», кажутся некоторым исследователям недостоверными, ибо господствует мнение о непримиримой борьбе Руси с остатками Монгольской империи. Так, комментаторы новейшего издания «Казанского летописца» Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева утверждают, что упомянутые царевичи-чингизиды «на самом деле в походе на Казань не участвовали». Они не отрицают, что чингизид Шигалей (Шах-Али) принимал участие в походе, ибо об этом сообщают многие источники. Но об остальных чингизидах сведения есть только в наиболее обстоятельном «Казанском летописце», и потому комментаторы подвергают их сомнению. Между тем этот летописец создавался вскоре после событий (в 1564–1565 гг.), когда большинство участников похода еще были живы, и неосновательно предполагать, что в рассказ о Казанском походе 1552 года вошли заведомо ложные сведения о целом ряде всем известных людей. Такое случалось только в произведениях, создававшихся намного позже описываемых событий. Словом, сомнение комментаторов продиктовано, очевидно, неверным представлением о характере взаимоотношений Руси и сходившей с исторической сцены монгольской власти над Евразией. id="c7_25">25) «Вопросы истории», 1994, № 1, с. 182 (перевод видного историка В. Н. Виноградова). id="c7_26">26) Цит. по кн.: Нестеров Ф. Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., 1980, с. 107–108. id="c7_27">27) 27. См.: Ашукин Н. С.,Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1966, с. 676–677. Как-то так получилось, что слово «черносотенцы» («черная сотня») стало бранным. А ведь это словосочетание вошло в русские летописи с начала XII века. Черные, или земские, сотни не раз защищали Отечество наше в тяжкие времена. Было так на Куликовом поле, было и в 1612 году, когда, собравшись вокруг Минина, они спасали Москву и всю Россию от поляков и изменников. Не пора ли реабилитировать их сейчас, когда Россия снова оказалась у черты, за которой бездна небытия? Книга выдающегося мыслителя, писателя, историка Вадима Кожинова (1930–2001) призвана выполнить такую миссию. 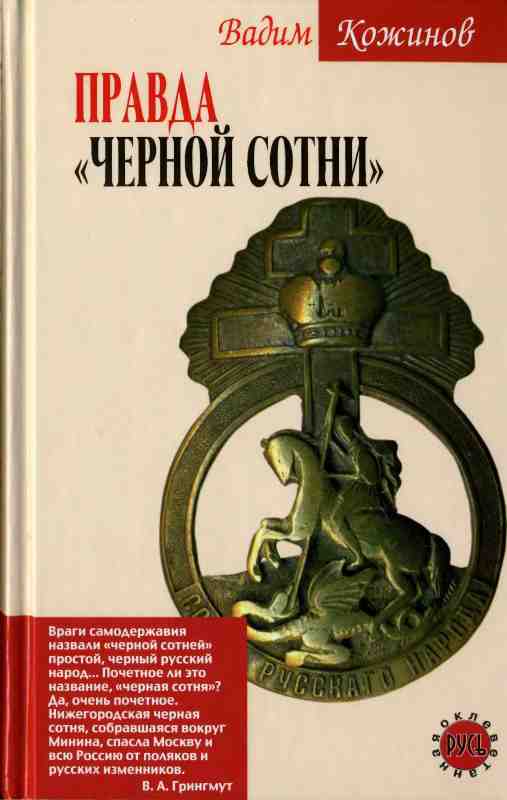 1.0 — создание файла В. В. Кожинов Правда «Черной сотни» >ВВЕДЕНИЕ О возможной точке зрения на Российскую революцию История России в нашем столетии являет собой прежде всего историю Революции. Я пишу это слово с заглавной буквы (так, между прочим, писал его полтора столетия назад в своих историософских стихотворениях и статьях Ф. И. Тютчев, хотя он имел в виду, понятно, европейскую — прежде всего французскую — Революцию, развертывавшуюся с 1780-х по 1870-е годы), ибо речь идет не о каких-либо, пусть значительнейших, но все же отдельных революционных событиях, свершившихся в 1905, 1917, 1929-м и т. п. годах, а о многосторонней, но в конечном счете целостной исторической динамике, определившей путь России с самого начала нашего века и до сего дня. Два года назад исполнилось 80 лет со времени «пика» Революции — Февральского и Октябрьского переворотов 1917 года; срок немалый, но едва ли есть основания утверждать, что историки выработали действительно объективное, беспристрастное понимание хода событий. И, конечно, мое сочинение — это именно и только опыт исследования, но, надеюсь, в той или иной степени пролагающий путь к пониманию нашей истории XX века. Революция предстает как результат действий различных и даже, казалось бы, совершенно несовместимых социально-политических сил, ставивших перед собой свои, особенные цели. Общим для этих сил было отвержение российского социально-политического устройства, что выражалось в едином для них лозунге «Свобода! Освобождение!», имевшем в виду ликвидацию исторически сложившихся «ограничений» в сфере экономики, права, политики, идеологии. Характерно, что явившиеся на политическую сцену на рубеже XIX–XX вв. группы предшественников и большевистской, и вроде бы крайне далекой от нее конституционно-демократической (кадетской) партий с самого начала поставили этот лозунг во главу угла, назвав себя «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» (его возглавил будущий вождь большевиков В. И. Ленин) и «Союзом Освобождения» (его глава И. И. Петрункевич впоследствии стал председателем ЦК кадетской партии). Сегодня большевики и кадеты кажутся абсолютно чуждыми друг другу, но вспомним, что видный политический деятель того времени П. Б. Струве сначала тесно сотрудничал с В. И. Лениным и даже составлял Манифест Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП; в ее рамках в 1903 году сформировался большевизм), а в 1905 году стал одним из лидеров кадетской партии. Или другой — менее известный — факт: С. М. Киров (Костриков), вначале связанный с РСДРП, в 1909 году на долгое время оказался в русле кадетской партии, став даже ведущим сотрудником северокавказской кадетской газеты «Терек», и лишь накануне Октябрьского переворота «вернулся» в РСДРП(б), а впоследствии был одним из главных ее «вождей» (см. об этом, например: Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 1930-е годы. М., 1996, с. 120–121). Вообще необходимо осознать, что почти все политические течения начала XX века были, если выразиться попросту, «за Революцию», и переход Кирова из РСДРП к кадетам вовсе не означал отказа от революционных устремлений. Мне, вероятно, напомнят, что большевики обличали кадетов как «контрреволюционеров». Но ведь и кадеты, в свою очередь, клеймили «контрреволюционерами» самих большевиков. И эти взаимные обвинения вполне закономерны и понятны: дело здесь прежде всего в том, что каждая из партий претендовала на главенство в Революции и, далее, в долженствующем создаться после ее победы новом социально-политическом устройстве. Очень показательно в этом смысле «противоречие», содержащееся в новейшем (3-м) издании «Большой советской энциклопедии». В статье о кадетах (ее авторы — историки А. Я. Аврех и Н. Ф. Славин) эта партия вместе с ее предшественником, «Союзом Освобождения», квалифицирована как «партия контрреволюционной либерально-монархической буржуазии» (т. 11, с. 389), однако в статье той же самой БСЭ «Союз Освобождения», составленной известным специалистом в этой области историографии К. Ф. Шацилло, читаем: «Большевики во главе с В. И. Лениным выступали против попыток «Союза Освобождения» захватить руководство революционно-освободительным движением и одновременно боролись за высвобождение из-под влияния либералов радикального крыла «Союза Освобождения»…» (т. 24, с. 272). Если бы кадеты действительно были контрреволюционной партией, едва ли вообще мог встать вопрос об их «руководстве революционно-освободительным движением» и едва ли в этой партии имелось бы «радикальное (то есть особо «левое») крыло». Тем не менее в сочинениях советских историков кадеты, как правило, предстают в качестве «контрреволюционной» силы, а «антисоветские» (эмигрантские, зарубежные и в настоящее время многие «бывшие советские» или «постсоветские») историки нередко усматривают «контрреволюционность», напротив, в большевиках, которые, захватив власть, не дали «освободить» Россию — к чему, мол, стремились кадеты (а также эсеры, меньшевики и т. д.). Как уже сказано, взаимные обвинения из уст кадетских и большевистских деятелей были естественным порождением политического соперничества. Однако совершенно иной характер имеют подобные обвинения, когда они появляются в позднейших сочинениях историков: эти обвинения означают, что историк, по сути дела, отказывается от беспристрастного анализа, который вроде бы призвана осуществлять историография, и рассматривает ход Революции как бы глазами одной из участвовавших в. ней партий. Сегодня всем ясно, что советская историография, изучавшая Революцию всецело с «точки зрения» большевиков, никак не могла быть действительно объективной (достаточно сказать, что роль большевиков в событиях 1903–1916 годов крайне преувеличивалась; на самом деле они обрели первостепенное значение только летом 1917 года). Но нынешние сочинения историков, фактически избирающих «точкой отсчета» для взгляда на Революцию кадетов либо, скажем, эсеров, в сущности, еще более далеки от объективного понимания хода истории, — более потому, что кадеты и эсеры потерпели поражение, и смотреть на ход Революции их глазами — едва ли плодотворное дело. Необходимо четко осознать принципиальное различие между задачами, встающими перед нами в отношении современности, настоящего, сегодняшней ситуации в политике, экономике и т. д., и, с другой стороны, теми целями, которые встают при нашем обращении к более или менее отдаленному прошлому, к тому, что уже стало историей. Когда мы имеем дело с современностью, у нас есть возможность (разумеется, именно и только возможность, далеко не всегда осуществляемая) оказать реальное воздействие на ход событий, конечный результат которых пока неизвестен и может оказаться различным. Поэтому, в частности, вполне понятны и уместны наша поддержка той или иной политической силы, представляющейся нам наиболее «позитивной» и способной победить в развертывающейся сегодня борьбе, а также наше стремление воспринимать действительность с точки зрения этой силы. Однако в прошлом (что вполне понятно) уже ничего нельзя изменить, результат развертывавшейся в нем борьбы известен, и любая попытка ставить вопрос о том, что результат-де мог быть иным, в конечном счете вредит пониманию реального хода истории: мы неизбежно начинаем размышлять не столько о том, что совершилось, сколько о том, что, по нашему мнению, могло совершиться, и «возможность» в той или иной мере заслоняет от нас историческую действительность. Это, к сожалению, типично для нынешних сочинений о Революции. Вместе с тем нельзя не видеть, что пока еще крайне трудно, пожалуй, даже вообще невозможно изучать ход Революции, полностью отрешившись от нашего отношения к действовавшим с начала XX века политическим силам. В более или менее отдаленном будущем, когда уместно будет сказать словами поэта, что «страсти улеглись», подлинная объективность станет, очевидно, достижимой целью. Но сегодня, в наши дни, когда на политической сцене появляются течения, открыто провозглашающие себя «продолжателями» дела тех или иных возникших в начале века партий (от радикально социалистических до принципиально «капиталистических»), требования смотреть на Революцию с совершенно «нейтральной» точки зрения являются заведомо утопичными. * * *Проблему, встающую сегодня перед историками Революции, можно и важно осмыслить именно в плане соотношения прошлого, настоящего и будущего. Ясно, что любое исследование истории — это взгляд из будущего в прошлое, а исследование настоящего, современности (то есть предпринятое непосредственно в период развертывания исследуемых событий) едва ли способно стать полноценным явлением исторической науки; оно представляет собой скорее явление политической публицистики, цель которой заключается не столько в том, чтобы беспристрастно познать ход событий, сколько в том, чтобы воздействовать на этот ход, стремиться направить его по наиболее «позитивному» (с точки зрения автора того или иного публицистического сочинения) пути. Это, конечно, не значит, что публицистика вообще не может нести в себе объективного понимания хода нынешних событий, но все же главная цель исследования современных событий (конечный итог, «плод» которых еще, так сказать, не созрел) естественно и неизбежно раскрывается как стремление способствовать тому или иному вероятному итогу. Тот очевидный факт, что сегодня так или иначе продолжается политическая и идеологическая борьба, начавшаяся на рубеже XIX–XX веков (например, если выразиться наиболее кратко и просто, борьба между «капитализмом» и «социализмом»), побуждает прийти к существенному выводу: история России XX века (в отличие от истории XIX и предшествующих веков) еще не стала для нас в истинном смысле слова прошлым, мы еще, в сущности, не можем смотреть на нее из действительного будущего — то есть из иной, «новой» исторической эпохи, наступающей тогда, когда итоги предыдущей так или иначе подведены, и о них в самом деле можно судить беспристрастно. Вместе с тем было бы, конечно, нелепо «отложить» на какое-то время изучение этой истории, а, кроме того, даже наиболее политизированное (скажем, догматически советское или заостренно антисоветское) исследование хода Революции все же способно выяснить нечто существенное — пусть и с определенными ограничениями и искажениями. Наконец, нельзя упускать из виду, что у современных историков, которые не отдалены от событий многими десятилетиями и тем более веками, есть и несомненные преимущества перед теми, кто будет изучать Революцию в условиях совсем иной, грядущей эпохи с ее особенными проблемами и настроениями (хотя, конечно, наши потомки обретут, надо думать, такую объективность взгляда на итоги Революции, которая нам недоступна). И, рассуждая о непреодолимой «тенденциозности» нынешних сочинений об еще не ставшей «прошлым» Революции, я отнюдь не перечеркиваю усилия историков, основывающихся на той или иной «точке зрения» («большевистской», «кадетской» и т. п.); в конце концов, эти усилия в своей совокупности способны дать многостороннюю картину. Я только предлагаю подойти к делу более ответственно и прежде всего более осознанно, чем это обычно имеет место. Если вдуматься, главные «недостатки» тех сочинений об истории XX века, которые основываются на «точке зрения» какой-либо из политических сил (большевиков, кадетов и т. д.), проистекают не столько из самой этой — по сути дела, в настоящее время неизбежной — «политизированности», сколько из того факта, что она или не выявлена, или даже вообще не осознана авторами этих сочинений, преподносимых в качестве будто бы вполне «объективных». Открытое признание о сделанном автором такого сочинения выборе «точки зрения» дало бы существенную корректировку его анализа и его выводов. В моем сочинении «точка зрения» или, вернее будет сказать, «точка отсчета» избрана вполне сознательно, и я говорю о ней с полной откровенностью: это крайне «консервативные» политические движения начала века, которые обычно называют «черносотенными». Этот выбор вроде бы означает, что я оказываюсь в точно таком же положении, как и историки, которые сегодня избирают «точкой отсчета» большевиков, кадетов, эсеров и т. д. Ведь в настоящее время действуют если и не в полном — практическом — смысле слова политические, то, по крайней мере, идеологические силы, прямо и непосредственно считающиеся (и даже сами считающие себя) наследниками «черносотенцев» начала века. И, следовательно, мое сочинение будет являть собой не столько исследование истории, сколько выдвижение «черносотенства» в качестве программы для современной, сегодняшней борьбы в сфере идеологии и в конечном счете политики. Однако мое сочинение, надеюсь, убедит каждого читателя в том, что программа «черносотенцев» не может «победить» — как не могла она победить уже и в начале нашего века… Впрочем, и здесь, в предисловии, уместно и должно сказать об этом хотя бы вкратце. «Черносотенцы» начала века исходили из того, что преобладающее большинство населения России нерушимо исповедует христианско-православные, монархически-самодержавные и народно-национальные убеждения, которые составляют самую основу сознания и бытия этого большинства. Однако ход истории со всей несомненностью показал, что такое представление было иллюзорным. Ныне же, в конце века, лишь не желающие оглянуться вокруг, замкнувшиеся в мире чисто умозрительных построений люди могут надеяться на победу «черносотенных» идей (о политиканах, только делающих вид, что они верят в соответствующий дух современного народа, говорить в данном случае незачем). И я избираю «черносотенцев» в качестве точки отсчета для взгляда на историю России XX века отнюдь не потому, что вижу в их идеологии вероятную программу грядущего пути России. События последнего времени (в частности, результаты различных избирательных кампаний) показали, что политические силы, которые в той или иной мере являются «наследниками» большевиков, или кадетов, или эсеров, могли получать более или менее широкую поддержку населения страны. Однако нынешние православно-монархические течения, так или иначе, но действительно «продолжающие» линию «черносотенцев» начала века, явно не имеют такой поддержки и не способны повести за собой значительные слои народа. Едва ли можно назвать хотя бы одного современного политического деятеля, который, открыто выдвинув последовательную православно-монархическую программу, победил на каких-либо выборах. Говоря об этом, я, понятно, отнюдь не имею в виду патриотические устремления вообще, которые в той или иной ситуации были присущи и «советской» эпохе. Идеология «черносотенства» всецело основывалась на безусловной, так сказать, врожденной православной Вере, еще сохранявшейся к началу XX века в душах миллионов русских людей; подлинный монархизм и немыслим без Веры, ибо монарх должен представать как «помазанник Божий», находящийся на троне по Высшей (а не человеческой) воле. * * *Здесь уместно и важно сделать отступление общего характера. Современные русские люди, полагающие, что можно возродить в душе народа — или хотя бы весомой его части — то зиждившееся на православной Вере национальное сознание, которое было реальностью еще в прошлом веке, не принимают во внимание своего рода переворот в самом «строении», «структуре» человеческих душ, совершившийся за последние десятилетия. Утрату людьми убежденной, как бы врожденной Веры обычно истолковывают только как последствие запретов и борьбы с Христианством в советское время. Между тем история мира дает немало доказательств того, что жестокие гонения на христиан нередко вели к противоположному результату — к укреплению и росту Веры; есть подобные примеры и в советские времена. И характерно, что очень многие люди, родившиеся накануне или в первые годы после Революции и под воздействием жестоких гонений и антирелигиозной пропаганды вроде бы совсем отошедшие от Церкви, в пожилом возрасте стали возвращаться в нее; это даже дало серьезные основания говорить (главным образом в так называемом самиздате) о «православном возрождении» конца 1960–1970-х годов. Однако с теми, кто начал жизнь, скажем, в 1950-х годах и тем более позднее, дело обстоит по-иному. Правда, в наши дни, когда все запреты с религии и Церкви сняты, многие из этих людей посещают храмы. Но нередко это, увы, диктуется, — прошу извинить за резкость, — модным поветрием, а не духовным прозрением. Я отнюдь не хочу сказать, что среди сегодняшних посетителей Церкви вообще нет подлинно религиозных людей; речь лишь о том, что они все же составляют меньшинство, и, пожалуй, не очень значительное… И причина утраты глубокой подлинной Веры заключается не столько в воздействии официального атеизма и всякого рода запретов, имевших место до последнего десятилетия (что затрудняло или вообще исключало посещение храмов), сколько в кардинальном изменении самой «структуры» человеческого сознания в условиях современной цивилизации. Еще сравнительно недавно для абсолютного большинства людей их сознание и их деятельная жизнь были чем-то нераздельным, и верующий человек участвовал в религиозных обрядах в храме или в собственном доме, не задумываясь о самой своей Вере, не подвергая ее какому-либо «анализу». Он, в сущности, вообще не мог воспринять свое религиозное сознание как «объект», который можно осмыслять и оценивать. Но в новейшее время совершается широчайшее и стремительное распространение различного рода предметных форм «информации», которые существуют «отдельно» от людей и их непосредственной жизнедеятельности. Если еще сравнительно недавно человеческое сознание было всецело или хотя бы главным образом порождением самой жизни, формировалось как прямое и непосредственное «отражение» реального быта, труда, религиозного обряда, путешествия и т. д., то теперь оно во всевозрастающей степени основывается на том, что явлено в каком-либо «тексте», на различного рода «экранах» и т. п. Могут возразить, что книга и даже газета — «изобретение» давних времен; однако только в XX веке они становятся привычной реальностью для большинства, в пределе — для всех людей. Ранее постоянное чтение было уделом немногих даже из среды владеющих грамотой людей (и, кстати сказать, религиозные сомнения в те давние времена были характерны почти исключительно для «книгочеев»). Человек, обретающий преобладающую или хотя бы очень значительную часть «информации» о мире из «специально» созданных для этой цели «объектов» — текстов, изображений, кино- и телеэкранов и т. п., — тем самым обретает возможность и, более того, привычку — как бы необходимость — воспринимать в качестве объекта свое сознание вообще — в том числе религиозное сознание, которое ранее было неотделимой стороной самого существования человека, — подобной, например, дыханию. А превращение своего собственного религиозного сознания в объект неизбежно ведет к «критическому» отношению к нему (под «критикой» здесь подразумевается не «негативизм», а, так сказать, аналитизм). В свое время человек малым ребенком входил вместе со своей семьей и соседями в храм, вбирал в себя религиозность как органическую часть, как одну из сторон общего и своего собственного бытия, и ему даже не могло прийти в голову «отделить» от цельности бытия свое субъективное переживание религии и анализировать это переживание. Ныне же такое «отделение» в той или иной мере неизбежно, что обусловлено, как уже говорилось, не большей, в сравнении с отцами и дедами, «образованностью» (именно этим нередко пытаются объяснять утрату религиозности), а существенным изменением самого строения душ, для которых собственное сознание становится объектом осмысления и оценки. А осмысление и оценка основ религиозного сознания — это поистине труднейшая и сложнейшая задача, плодотворное решение которой под силу только богато одаренным или исключительно высокоразвитым людям. И сегодня подлинная Вера присуща, надо думать, либо людям особенного духовного склада и своеобразной судьбы, сумевшим сохранить в себе изначальную, первородную религиозность, не поддавшуюся «критике» со стороны «отделившегося» сознания, — либо людям наивысшей культуры, которые, пройдя неизбежную стадию «критики», обрели вполне осознанную Веру — ту, каковая явлена в глубоких размышлениях классиков богословия. Я близко знал такого человека — всемирно известного ныне Михаила Михайловича Бахтина, который, кстати сказать, утверждал, что любой подлинно великий разум — религиозен, ибо нельзя достичь безусловного величия без Веры в Бога, дающей истинную свободу мысли; поскольку люди вообще не могут жить без какой-либо веры (пусть хотя бы веры в правду безверия), отсутствие Веры в Бога, воплощающего в Себе безграничность, с необходимостью означает идолопоклонство, то есть веру в нечто ограниченное (например, гуманизм, обожествляющий человека, социальный идеал, обожествляющий определенную организацию общества, и т. п.). Это, конечно, отнюдь не значит, что подлинная Вера доступна только людям великого разума; речь идет в данном случае о глубоко осознанной Вере, но Вера, впитанная, как говорится, с молоком матери и нерушимо пронесенная через все испытания, являет собой безусловную ценность и свидетельствует об особенной духовной одаренности ее носителя. Другой вопрос — что люди, наделенные таким даром, едва ли составляют значительную часть населения страны, хотя их, очевидно, намного больше, чем людей, обладающих высшим разумом, дающим возможность всецело осознанно обрести Веру. Основная же масса нынешних людей, так или иначе обращающихся к Православию, оказывается на своего рода безвыходном распутье: они уже привыкли к критическому «анализу» своего сознания, но для решения на высшем уровне вопроса о бытии Бога и тем более о бессмертии их собственных душ у них нет ни особенного дара, ни высшей развитости разума… Исходя из этого едва ли можно полагать, что Православие и все неразрывно с ним связанное — в том числе идея истинной монархии — способно возродиться и стать основной опорой бытия страны… Утверждая это, я имею в виду современное положение вещей; нельзя исключить, что в более или менее отдаленном будущем положение в силу каких-либо исторических сдвигов и событий преобразуется. Но сегодня тот духовный фундамент, на который стремилось опереться «черносотенство», менее — и даже гораздо менее — «надежен», чем в начале нашего века… * * *Повторю еще раз: я обращаюсь к «черносотенству» начала века вовсе не потому, что усматриваю в нем некий прообраз нашего будущего пути (по крайней мере — предвидимого сегодня будущего). Как раз напротив! «Черносотенство» в данном случае нужно и важно в качестве воплощения не будущего, а прошлого. Как уже сказано, мы еще, по сути дела, не можем смотреть на Революцию из будущего; она в той или иной степени остается непреодоленным настоящим, которое властно порождает стремление не столько познавать, сколько действовать — хотя бы действовать словом — и создавать скорее «программы», чем исследования хода истории. Но если пока еще крайне труден или вообще немыслим взгляд на Революцию из беспристрастного будущего, есть основания попытаться взглянуть на нее из предшествовавшего ей прошлого, которое как раз и являли собой на политической сцене начала века «черносотенцы». Могут возразить, что воплощением прошлого была прежде всего сама тогдашняя власть — царь и его правительство. Но это едва ли сколько-нибудь верно; понимание российской власти начала века как всецело «реакционного» явления было первоначально внедрено в умы (и, в сущности, остается в них и сегодня) боровшимися с ней силами — от кадетов до большевиков. Одна уже фигура председателя Совета министров П. А. Столыпина, игравшего первостепенную роль в 1906–1911 годах, опровергает подобное понимание, ибо «прогрессизм» явно преобладал в этом правителе над «консерватизмом». Так, осуществленные тогда кардинальные изменения в судьбе миллионов крестьян превосходят по своей значимости все, что предпринимали до Февраля 1917 года другие «прогрессивные» силы. И вполне закономерно, что «черносотенцы», которые поначалу поддерживали политику Столыпина, решительно боровшегося с бунтами и террором 1906–1907 годов, позднее резко и даже очень резко выступали против его реформаторской деятельности, ибо смотрели на современность всецело с точки зрения прошлого России. Я отдаю себе отчет в том, что предложение смотреть на Революцию «из прошлого» может быть воспринято как сомнительный или по меньшей мере парадоксальный «метод». Но подчеркну еще раз, что по отношению к XX веку естественный для историка взгляд на прошлое из будущего вряд ли осуществим в наше время, и историография, так сказать, обречена смотреть на Революцию ее глазами (вернее, глазами той или иной действовавшей в ней политической силы). А обращение к прошлому, к принципиально «реакционной» политической силе дает — при всех вероятных оговорках — возможность увидеть Революцию «сторонним», то есть в какой-то мере объективным взглядом (между тем глазами большевиков, кадетов и т. п. мы неизбежно смотрим на Революцию не извне, а изнутри). И если даже эта постановка вопроса воспринимается с полнейшей недоверчивостью, дальнейшее изложение, надеюсь, в той или иной степени убедит моих читателей в оправданности (пусть хотя бы частичной, относительной) предлагаемого «метода» исследования хода Революции. И еще одно соображение. Уже было отмечено, что взгляд на Революцию, с точки зрения кадетов или эсеров, малопродуктивен, ибо эти партии потерпели сокрушительное поражение — и, значит, оказались недальновидными, не понимали или хотя бы плохо понимали, куда ведут события — в том числе события, вызванные их собственными действиями. Но ведь и «черносотенцев» — скажут мне — постиг полный крах, притом даже раньше, чем тех же кадетов; они фактически сошли с политической сцены уже во время Февральского переворота 1917 года, и (выразительный факт!) один из их известнейших предводителей, В. М. Пуришкевич, летом этого года объявил о своем присоединении к кадетам! Однако в идеологии «черносотенцев» имелся, как будет показано, существеннейший момент: они, в отличие от кадетов, эсеров и т. д., рано (не позднее 1910 года) и достаточно ясно осознали неизбежность своего поражения (я имею в виду, конечно, не всех участников «черносотенного» движения, а его основных идеологов). И это осознание дало им немалые преимущества перед «слепо» рвавшимися к победе кадетами, эсерами и т. д.; они гораздо лучше других политических сил понимали, к чему ведет Революция. >Глава 1 Кто такие «черносотенцы»? Как уже сказано, прописная буква в слове «Революция» употреблена для того, чтобы подчеркнуть: речь идет не о каком-либо революционном взрыве (декабря 1905-го, февраля 1917-го и т. д.), но обо всем грандиозном катаклизме, потрясшем Россию в XX веке. Широкое значение имеет и слово «черносотенцы». Нередко вместо него предпочитают говорить о «членах Союза русского народа», но при этом дело сводится только к одной (пусть и наиболее крупной) патриотической и антиреволюционной организации, существовавшей с 8 ноября 1905-го и до Февральского переворота 1917 года. Между тем «черносотенцами» с полным основанием называли и называют многих и весьма различных деятелей и идеологов, выступивших намного ранее создания Союза русского народа, а также не входивших в этот Союз после его возникновения и даже вообще не состоявших в каких-либо организациях и объединениях. Поэтому слово «черносотенцы», несмотря на его одиозное, то есть имеющее крайне «отрицательное» и, более того, проникнутое ненавистью значение, все же наиболее уместно при исследовании того явления, которому посвящена эта глава моего сочинения. Да, слово «черносотенцы» (производное от «черная сотня») предстает как откровенно бранная кличка. Правда, в новейшем «Словаре русского языка» (1984) была предпринята попытка дать более или менее объективное толкование этого слова (привожу его целиком): «Черносотенец, — ица. Член, участник погромно-монархических организаций в России начала 20 века, деятельность которых была направлена на борьбу с революционным движением». Небесполезно разобраться в этом определении. Странноватый двойной эпитет «погромно-монархические» явно призван сохранить в толковании этого слова бранный (таково уж само это словечко «погромный») привкус. Правильнее было бы сказать «крайне» или «экстремистски монархические» (то есть не признающие никаких ограничений монархической власти); определение «погромные» неуместно здесь уже хотя бы потому, что некоторые заведомо «черносотенные» организации — например, Русское собрание (в отличие от того же Союза русского народа) — никто никогда не связывал с какими-либо насильственными — то есть могущими быть отнесенными к «погромным» — акциями. Во-вторых, в приведенном словарном определении неправомерно ограничение понятием «монархизм»; следовало сказать об «организациях», защищавших традиционный тройственный, триединый принцип — православие, монархия (самодержавие) и народность (то есть самобытные отношения и формы русской жизни). Во имя этой триады «черносотенцы» и вели непримиримую, бескомпромиссную борьбу с Революцией, притом гораздо более последовательную, чем многие тогдашние должностные лица монархического государства, которых «черносотенцы» постоянно и резко критиковали за примирение либо даже прямое приспособленчество к революционным — или хотя бы к сугубо либеральным — тенденциям. Не раз «черносотенная» критика обращалась даже и на самого монарха, и на главу Православной церкви, и на крупнейших творцов национальной культуры (более всего — на Толстого, хотя в свое время именно он создал «Войну и мир» — одно из самых великолепных и полнокровных воплощений того, что обозначается словом «народность»). Далее, разбираемое словарное определение не вполне четко обрисовало те, так сказать, границы, в которых существовали «черносотенцы»; говорится и о «членах», и также об «участниках» соответствующих организаций. В этом видно стремление как-то разграничить прямых, непосредственных «функционеров» этих организаций и, с другой стороны, «сочувствующих» им, в той или иной мере разделяющих их устремления деятелей — то есть скорее «соучастников», чем «участников». Так, например, авторы и сотрудники редакции знаменитой газеты «Новое время» (в отличие, скажем, от сотрудников редакций газет «Московские ведомости» или «Русское знамя») не входили в какие-либо «черносотенные» организации и даже нередко и подчас весьма решительно их критиковали, но тем не менее «нововременцев» все же вполне основательно причисляли и причисляют к лагерю «черносотенцев». Наконец, словарное определение относит к «черносотенцам» только деятелей «начала 20 века»; между тем это обозначение часто — и опять-таки с полным основанием — применяется и ко многим деятелям предыдущего, XIX века, хотя и называют их так, конечно, задним числом. Но, как бы там ни было, начиная по меньшей мере с 1860-х годов на общественной сцене выступали идеологи, которые явно представляли собой прямых предшественников тех «черносотенцев», которые действовали в 1900–1910-х годах. Собственно говоря, убеждения принадлежавших к старшим поколениям виднейших деятелей «черносотенных» организаций — таких, например, как Д. И. Иловайский (1832–1920), К. Ф. Головин (1843–1913), С. Ф. Шарапов (1850–1911), В. А. Грингмут (1851–1907), Л. А. Тихомиров (1852–1923), А. И. Соболевский (1856–1929), — вполне сложились еще до начала XX века. Итак, обрисованы общие контуры явления, известного под названием «черносотенство». Нельзя, впрочем, умолчать о том, что слово это — или, точнее, кличка — последние несколько лет самым активным образом используется по отношению к тем или иным современным, сегодняшним деятелям и идеологам. Но это уже совершенно особый вопрос, о котором можно рассуждать только после уяснения действительного характера дореволюционного «черносотенства». Как сказано, слово «черносотенцы» — а также словосочетание «черная сотня», от которого оно образовано, — употреблялось и употребляется, по сути дела, в качестве бранной клички, своего рода проклятия (хотя в новейших словарях можно найти примеры более «спокойного» толкования). Еще в 1907 году известнейший «Энциклопедический словарь» Брокгауза-Ефрона (2-й дополнительный том) «заложил основы» именно такого словоупотребления (курсив в цитируемом тексте, а также в дальнейшем, кроме специально оговоренных случаев, мой. — В.К.): «Черная сотня — ходячее название, которое в последнее время стало применяться к подонкам населения… Черносотенство под разными наименованиями являлось на историческую сцену (например, в Италии — каморра и мафия)… При культурных формах политической жизни черносотенство обыкновенно исчезает…» И далее: «… сами черносотенцы охотно приняли эту кличку, она делается признанным наименованием всех элементов, принадлежащих к крайне правым партиям и противополагающих себя «красносотенцам». В № 141 «Московских ведомостей» за 1906 год было помещено «Руководство черносотенца-монархиста»… Такой же характер имеет брошюра А. А. Майкова «Революционеры и черносотенцы» (СПб., 1907)…» В этой словарной статье, между прочим, дано и иное, не бранное определение «черносотенцев»: речь идет об «элементах», то есть, попросту говоря, о людях (автор словарной статьи как бы не хотел называть их «людьми»), «принадлежащих к крайне правым партиям»; выражение «крайне правые» можно было бы заменить и более «научным» — «крайне консервативные» или, в конце концов, «реакционные» (правда, и это слово в России давно уже стало «ругательным»). Но словарь относится с явным предпочтением к обозначению «черносотенцы», ловко ссылаясь на то, что «сами черносотенцы охотно приняли эту кличку», — как будто они были готовы принять на себя и такие содержащиеся в словарной статье определения, как «подонки» и «мафия», а также обвинение в полной несовместимости с культурой (ведь, согласно словарю, «при культурных формах политической жизни черносотенство исчезает») и т. п. Сам по себе факт, что «черносотенцы» не возражали против навязываемой им «клички», не столь уж удивителен. Не раз в истории название какого-либо течения принималось из враждебных или хотя бы чуждых уст; так, например, Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Самарин не открещивались от названия «славянофилы», которое употреблялось по отношению к ним в качестве заведомо иронической, издевательской (пусть и не заряженной столь ярой ненавистью, как «черносотенцы») клички. При этом идеологи «черносотенства» хорошо знали действительную историю слова, ставшего их «кличкой», — историю, прослеженную, например, в классическом курсе лекций В. О. Ключевского «Терминология русской истории», литографическое издание которого появилось еще в 1885 году. Словосочетание «черная сотня» вошло в русские летописи начиная с XII века (!) и играло первостепенную роль вплоть до Петровской эпохи. В средневековой Руси, показывал В. О. Ключевский, «общество делилось на два разряда лиц, — это «служилые люди» и «черные». Черные люди… назывались еще земскими… Это были горожане… и сельчане — свободные крестьяне». А «черные сотни — это разряды или местные общества», образованные из «черных», «земских» людей»{1}. Итак, «черные сотни» — это объединения «земских» людей, людей земли, — в отличие от «служилых», чья жизнь была неразрывно связана с учреждениями государства. И, именуя свои организации «черными сотнями», идеологи начала XX века стремились тем самым возродить древний, сугубо «демократический» порядок вещей: в тяжкое для страны время объединения «земских людей» — «черные сотни» — призваны спасти ее главные устои. Основоположник организованного «черносотенства» В. А. Грингмут (о нем еще пойдет речь) в своем уже упомянутом «Руководстве монархиста-черносотенца» (1906) писал: «Враги самодержавия назвали «черной сотней» простой, черный русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почетное ли это название, «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников»{2}. Из этого ясно, в частности, что идеологи «черносотенства» приняли сию «кличку» и даже дорожили ею в силу ее глубоко народного, проникнутого подлинным демократизмом смысла и значения. Кое-кому последнее утверждение может показаться чисто парадоксальным, ибо ведь как раз непримиримые враги, антиподы «черносотенцев» объявляли себя единственными настоящими «демократами». Но вот весьма любопытное признание идеолога, коего никак нельзя заподозрить в стремлении «обелить» крайних противников Революции: «В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий»{3}. Так писал в 1913 году не кто-нибудь, а В. И. Ленин. Притом данное им определение «темный» нужно правильно понять. Речь идет, несомненно, о тех слоях народа, которые еще не затронуты «светом», «просвещением», исходящим со страниц революционных газет и из уст воинственных митинговых агитаторов. Но в наше время уже нетрудно, полагаю, понять, что отсутствие такого «просвещения» обеспечивало и немалые преимущества. Ибо не «просвещенные» в этом плане люди глубже и яснее сознавали или хотя бы чувствовали, к чему приведет разрушение основных устоев русского бытия — то есть православия, самодержавия и народности. Чувствовали и пытались сопротивляться разрушительной работе… Словом, В. И. Ленин был совершенно прав, говоря о «самом глубоком демократизме», присущем «черносотенству». И в то же время ленинское определение «мужицкий» ложно. «Черносотенство» отличалось от всех остальных политических течений своей, если угодно, «общенародностью», оно складывалось поверх границ классов и сословий. В нем с самого начала принимали прямое участие и родовитейшие князья Рюриковичи (например, правнук декабриста М. Н. Волконский и Д. Н. Долгоруков), и рабочие Путиловского завода (1500 из них были членами Союза русского народа){4}, виднейшие деятели культуры (о чем еще пойдет речь) и «неграмотные» крестьяне, предприимчивые купцы и иерархи Церкви и т. д. Эта «всесословность» в обстановке острейшей «классовой борьбы», характерной для начала XX века, уже сама по себе привлекает заинтересованное внимание. Здесь уместно напомнить о том, что речь у нас вообще идет о загадочных страницах истории. И разве не загадочен уже сам по себе факт, что очень многие из нынешних популярных авторов и ораторов, стремящихся как можно более «беззаветно» разоблачить и проклясть Революцию, в то же самое время явно с еще большей яростью проклинают «черносотенцев», которые с самого начала Революции с замечательной, надо сказать, точностью предвидели ее чудовищные последствия и были, в сущности, единственной общественной (то есть не принадлежавшей непосредственно к государственным институтам) силой, действительно стремившейся (пусть и тщетно) остановить ход Революции?… Это достаточно сложная «загадка», которую я буду пытаться прояснить на протяжении всего этого сочинения, но важно, чтобы читатели постоянно имели ее в виду. Стоит еще обратить внимание на то обстоятельство, что чисто бранному употреблению слова «черносотенцы» (и, конечно, «черная сотня») весьма способствует новейшее смысловое наполнение эпитета «черный», присутствующее в нем помимо его прямого значения — то есть значения определенного цвета. Мы видели, что в свое время «черный» было синонимом слова «земский». Войско Дмитрия Донского, как сообщает «Сказание о Мамаевом побоище», сражалось на Куликовом поле под черным знаменем, и это, возможно, означало, что в битве участвуют не только «служилые», но и «земские» люди — то есть вся Русская Земля. Напомню еще, что «чернецами» звались монахи (и по сей день еще употребляется словосочетание «черное духовенство» — то есть монашество). Таким образом, слово «черный» было достаточно многозначным. Однако в новейшее время в нем стали господствовать смысловые оттенки, говорящие о чем-то сугубо «мрачном», «враждебном» или даже «сатанинском»… И эти обертоны значения слова «черный» используются, подчеркиваются интонацией при произнесении слова «черносотенцы», так что в самом деле нелегко «обелить» (невольно напрашивается эта игра слов) обозначаемое им явление. И все же постараемся понять, кто же такие в действительности были «черносотенцы»? * * *Начать целесообразно с того необходимого фундамента, на котором создается любое общественное движение, — проблемы культуры (культуры философской, научной, политической и т. д.). Конечно, есть общественные движения, основывающиеся на весьма или даже крайне небогатом, неразвитом и узком культурном фундаменте, но так или иначе он все же обязательно наличествует. В представлениях о «черносотенцах» господствует оценка их культурного уровня как предельно низкого; они рисуются в качестве этаких «черных-темных» субъектов, живущих набором примитивных догм и трафаретных лозунгов. Именно так истолковывается, например, постоянно упоминаемая — обычно с сугубо иронической интонацией — основополагающая для черносотенцев триада: «православие, самодержавие, народность». Конечно, в сознании тех или иных заурядных людей эта тройственная идея — как, впрочем, и вообще любая идея — существовала в качестве плоского, не обладающего весомым смыслом лозунга. Но едва ли возможно всерьез оспорить утверждение, что в духовном творчестве Ивана Киреевского, Хомякова, Тютчева, Гоголя, Юрия Самарина, Константина и Ивана Аксаковых, Достоевского, Константина Леонтьева многовековые реальности русской Церкви, русского Царства и самого русского Народа предстают как феномены, исполненные богатейшего и глубочайшего исторического содержания, которое по своей культурной и духовной ценности ничуть не уступает, скажем, историческому содержанию, воплощенному в западноевропейском самосознании. Несмотря на это, и на Западе, и в России, разумеется, были и есть многочисленные идеологи, пытающиеся всячески принизить развивавшееся в течение столетий содержание русского исторического пути, объявляя его чем-то заведомо и гораздо менее значительным, нежели содержание, запечатлевшееся в западноевропейском самосознании. Однако такие попытки, повторюсь, попросту не серьезны. Они, в частности, оказываются в поистине нелепом противоречии с тем очевидным фактом, что наследие перечисленных только что русских писателей и мыслителей давно и предельно высоко оценено на Западе, — подчас (пусть это звучит как-то постыдно для русских людей…) более высоко, чем в самой России. И попытки обесценить выраженное в их наследии понимание тройственной идеи «православие — самодержавие — народность» свидетельствуют либо об убогости тех, кто предпринимает подобные попытки, либо об их недобросовестной тенденциозности (кстати сказать, для дискредитации «тройственной идеи» применяется такой прием: вот, мол, Достоевский действительно несравненный гений, но была у него странная ахиллесова пята: вера в Церковь, Царя и Народ). Нельзя не заметить, что наиболее «умные» противники тройственной идеи поступали и поступают по-иному. Они отдают высокие или даже высочайшие почести вдохновлявшимся этой идеей русским мыслителям XIX века, особенно дореформенного периода, но утверждают, что, мол, к XX веку сия идея «разложилась» или «выродилась» и стала-де превращаться в вульгарную догму. Владимир Соловьев, начавший, между прочим, свой путь именно в среде правоверных славянофилов и их наследников, в тесной связи с Иваном Аксаковым, Достоевским, Леонтьевым, к середине 1880-х годов очень резко изменяет свои позиции и все более непримиримо критикует (нередко до удивления легковесно) своих недавних единомышленников. В 1889 году он публикует пространную статью с выразительным названием: «Славянофильство и его вырождение». Здесь он, достаточно высоко оценивая славянофилов 1840–1850-х годов, почти целиком отвергает современных ему продолжателей славянофильства. Далее, лидер либерализма П. Н. Милюков в 1893 году (то есть также ранее появления «черносотенства» в прямом смысле слова) выступает со статьей «Разложение славянофильства»; вне зависимости от намерений автора и это название подразумевало, что в свое время «славянофильство» было чем-то существенным, но к 1893 году оно-де «разложилось» и, следовательно, утратило свое прежнее значение. В 1911 году историк культуры М. О. Гершензон подготовил к изданию сочинения Ивана Киреевского и, объявляя его в своем предисловии одним из глубочайших общечеловеческих мыслителей XIX века, вместе с тем сетовал, что иные его идеи превратились к настоящему времени в нечто ничтожное и возмутительное. Разумеется, за те три четверти века, которые протекли со времени возникновения славянофильства и до этого гершензоновского «обвинения», в русском самосознании многое изменилось. Однако это было обусловлено вовсе не неким «вырождением» идеи, но существеннейшим изменением самой исторической реальности: невозможно было мыслить в России и о России 1900–1910-х годов точно так же, как в 1840–1850-х… Для более полного выявления проблемы отмечу, забегая вперед, что в наше время, в 1990-х годах, обрисованный мною «процесс» продолжает развиваться, и те идеологи, которые с порога отвергают нынешних продолжателей славянофильства, вполне уважительно относятся не только к «классическим» славянофилам первой половины XIX века, но и к таким их наследникам, как Леонтьев или Николай Страхов, а нередко и более поздним — как Розанов или Флоренский. Но идеологи эти по-прежнему начисто «отрицают» любое современное им продолжение славянофильства (в широком смысле слова). Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. Обратимся теперь непосредственно к «черносотенству» начала XX века. Уже и из приведенных соображений ясно, что даже самые решительные противники «черносотенства» так или иначе признавали его прямую связь с долгим и полным значительности предшествующим развитием русской мысли, утверждая, правда, что к XX веку мысль эта «разложилась» и «выродилась». «Выродилась» до такой степени, что как бы вообще утратила культурный статус. И явно господствует представление, согласно которому «черносотенство» начала XX века вообще не имеет отношения к истинной культуре с необходимо присущей ей высотой, богатством, многообразием и утонченностью; культура, мол, абсолютно несовместима с «черносотенством». Это представление настолько утвердилось в умах подавляющего большинства людей, что, знакомясь всерьез с реальными представителями «черносотенства», они испытывают чувство настоящего изумления. Так, например, современный архивист С. В. Шумихин, подготовивший целый ряд интересных публикаций, был, по его собственному признанию, «поражен», когда ему довелось познакомиться с наследием и самой личностью одного из виднейших «черносотенных» деятелей начала века — члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского (1870–1919). Архивисту именно «довелось» узнать об этом человеке, так как изучал-то он ценное наследие полузабытого поэта, прозаика и литературоведа Бориса Садовского (который, впрочем, как оказалось, тоже был «черносотенцем», — правда, не по принадлежности к какой-либо организации, а по внутренним убеждениям), но, обнаружив в архиве Садовского целый ряд писем Б. В. Никольского, С. В. Шумихин невольно увлекся этим близким сотоварищем своего кумира. И вот какое впечатление произвел на архивиста этот человек (отдельные слова выделены в тексте мною): «В первую очередь в этой незаурядной личности поражает то, что идеи, кажущиеся нам (стоило бы уточнить, кто же эти самые «мы»? — В.К.) в исторической ретроспективе несовместимыми, сочетались в Никольском вполне органично, без тени какого-либо душевного дискомфорта. С одной стороны, это был многосторонне одаренный человек: поклонник и глубокий исследователь творчества Фета… крупнейший специалист по творчеству Гая Валерия Катулла; пушкинист, поэт, критик, отмеченный печатью несомненного таланта; вдобавок — один из лучших ораторов своего времени… С другой — перед нами активный член «Союза русского народа» (архивист явно не осмелился сказать: «один из главных руководителей». — В.К.) и не менее одиозного (вот-вот! — В.К.) «Русского собрания»… ортодоксальный монархист»{5} и т. д. (итак, быть монархистом уже само по себе преступление…). К этому можно бы добавить, что Б. В. Никольский был крупным правоведом, глубоко изучавшим римское и современное право, что он собрал одну из самых больших и наиболее ценных частных библиотек того времени, для которой пришлось нанять целую отдельную квартиру, что… впрочем, тут даже трудно все перечислить. Скажу только еще о следующем факте. В 1900 году Александр Блок принес свои юношеские, но уже замечательные стихотворения в имевший вроде бы широкую программу журнал «Мир Божий», где печатались тогда Н. А. Бердяев и Ф. Д. Батюшков, И. А. Бунин и сам В. И. Ленин… Но, познакомившись со стихотворениями, сугубо либеральный редактор журнала В. П. Острогорский заявил Блоку: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает что творится»{6} (речь шла о тогдашней борьбе студентов за «свободу». — В.К.). В следующий раз Блок отдал свои стихи Б. В. Никольскому, и тот (а он тогда уже был одним из активнейших деятелей «черносотенного» Русского собрания), нелицеприятно покритиковав молодого поэта за «декадентщину», все же отправил его талантливые стихи в печать. Этот эпизод бросает свет на уровень эстетической культуры у либерала и «черносотенца». Блок удовлетворенно вспоминал в автобиографии 1915 года, что он со своими стихами после неудачи с Острогорским «долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Б. Никольскому» (там же). Следует подчеркнуть, что восприятие современным архивистом С. В. Шумихиным наследия видного деятеля культуры и вместе с тем активнейшего «черносотенца» Б. В. Никольского — это только один выразительный «пример», помогающий уяснить проблему. Было бы совершенно неправильным понять мои рассуждения как некий упрек или хотя бы полемику, обращенные именно к С. В. Шумихину. Повторяю еще раз, что подавляющее большинство нынешних читателей, столкнувшись с «феноменом» Б. В. Никольского, восприняло бы его точно так же, как названный архивист, ибо большинство это порабощено мифом о «черносотенстве». Словом, С. В. Шумихин — это всего лишь типичный современный читатель (и исследователь) на рандеву, на свидании с «черносотенцем». И вот этот читатель убеждается, что личность члена Главного совета Союза русского народа Б. В. Никольского решительно противоречит всецело господствующему представлению о «черносотенцах». Впрочем, может быть, это только некий исключительный случай, так поразивший современного наблюдателя? И высококультурный Б. В. Никольский — своего рода белая ворона в «черносотенстве», оказавшаяся в его рядах по какой-то нелепой причине? Архивист — хотя он вообще-то человек знающий, осведомленный — воспринимает Б. В. Никольского именно так (это ясно видно из его высказываний). Вбитое в его сознание представление о «черносотенцах» поистине фатально застилает ему глаза, мешает увидеть реальное положение вещей, которое, в сущности, прямо противоположно «общепринятому» взгляду. * * *Выдающиеся деятели культуры (а также Церкви и государства) довольно-таки редко вступали в прямую, непосредственную связь с какими-либо политическими движениями. И тем не менее товарищем (то есть заместителем — вторым по значению лицом) председателя Главного совета Союза русского народа являлся один из двух наиболее выдающихся филологов конца XIX — начала XX века академик А. И. Соболевский (второй из этих двух филологов, академик А. А. Шахматов, был, напротив, членом ЦК кадетской партии). Алексей Иванович Соболевский (1856–1929) имел самое высокое всемирное признание, и после 1917 года, когда очень многие активные «черносотенцы» были — к тому же, как правило, без всякого следствия и суда — расстреляны (в их числе и Б. В. Никольский), его не решились тронуть, а классические труды его издавались в СССР и после его кончины. Деятельнейшим (хотя и не соглашавшимся занимать руководящие посты) участником «черносотенных» организаций был обладавший наиболее высокой духовной культурой из всех тогдашних церковных иерархов епископ, ас 1917 года митрополит Антоний (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1934). В юные годы он был близок с Достоевским и явился — что, конечно, немало о нем говорит, — прототипом образа Алеши Карамазова. Четырехтомное собрание его сочинений, изданное в 1909–1917 годах, предстает как воплощение вершин богословской мысли XX века, — о чем убедительно сказано в фундаментальном трактате о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия», изданном у нас в 1991 году (см. с. 427–438 и особенно с. 565, где Г. В. Флоровский показывает, насколько понимание сущности Церкви в трудах митрополита Антония было глубже и выше, чем в сочинениях на эту тему, принадлежащих прославленному В. С. Соловьеву). Кстати сказать, епископ Антоний постоянно общался и вел переписку с упомянутым Б. В. Никольским. На Всероссийском поместном соборе в ноябре 1917 года архиепископ Антоний был одним из двух главных кандидатов на пост Патриарха Московского и Всея Руси; митрополит Московский Тихон (В. И. Белавин) получил при избрании его Патриархом всего на 12 голосов больше, чем Антоний (соотношение голосов было 162:150). Но Тихон, причисленный ныне (в 1990 году) Церковью к лику святых, был, по-видимому, более готов к тому тяжкому нравственному подвигу, который он совершил, будучи Патриархом в 1917–1925 годах (Антоний же эмигрировал и стал во главе Синода Русской православной церкви Зарубежья). И нельзя не напомнить, что будущий патриарх Тихон, занимая в 1907–1913 годах пост архиепископа Ярославского и Ростовского, одновременно вполне официально возглавлял губернский отдел Союза русского народа (Антоний, как уже сказано, не соглашался занимать руководящее положение в «черносотенных» организациях, хотя весьма активно участвовал в их деятельности). Подвижническая трагедийная судьба святителя Тихона сегодня достаточно широко известна, но при его прославлении замалчивается тот факт, что он был виднейшим «черносотенцем», — так же как и канонизированный одновременно с ним светоносный протоиерей Иоанн Кронштадтский. В. И. Ленин был совершенно точен, когда во время своей жестокой борьбы с патриархом Тихоном и его сподвижниками постоянно называл их «черносотенным духовенством». Как уже говорилось, многие выдающиеся деятели Церкви, государства и культуры России начала XX века не считали возможным или нужным напрямую связывать себя с «черносотенными» организациями. Тем не менее в публиковавшихся в начале XX века списках членов главных из этих организаций — таких, как Русское собрание, Союз русских людей, Русская монархическая партия, Союз русского народа, Русский народный союз имени Михаила Архангела, — мы находим многие имена виднейших тогдашних деятелей культуры (притом некоторые из них даже занимали в этих организациях руководящее положение). Вот хотя бы несколько из этих имен (все они, кстати сказать, представлены в любом современном энциклопедическом словаре): один из авторитетнейших филологов академик К. Я. Грот, выдающийся историк академик Н. П. Лихачев, замечательный музыкант, создатель первого в России оркестра народных инструментов В. В. Андреев, один из крупнейших медиков профессор С. С. Боткин, великая актриса М. Г. Савина, известный всему миру византинист академик Н. П. Кондаков, превосходные поэты Константин Случевский и Михаил Кузмин и не менее превосходные живописцы Константин Маковский и Николай Рерих (позднее прославившийся своими духовными инициативами), один из корифеев ботанической науки академик В. Л. Комаров (впоследствии — президент Академии наук), выдающийся книгоиздатель И. Д. Сытин и т. д. и т. п. Речь, повторю, идет о людях, которые непосредственно входили в «черносотенные» организации. Если же обратиться к именам выдающихся деятелей России начала XX века, которые в той или иной мере разделяли «черносотенную» идеологию, но по тем или иным причинам не вступали в соответствующие организации, придется прийти к неожиданному для многих и многих современных читателей выводу. Целесообразно будет сразу же, еще до представления существенных доказательств, сформулировать этот вывод. Есть все основания утверждать (хотя сие утверждение, конечно, вызовет недоверие и даже, по всей вероятности, прямой протест), что преобладающая часть наиболее глубоких и творческих по своему духу и — это уж совсем бесспорно — наиболее дальновидных в своем понимании хода истории деятелей начала XX века так или иначе оказывалась, по сути дела, в русле «черносотенства». Речь идет, в частности, о людях, которые не только не являлись членами «черносотенных» организаций, но подчас даже отмежевывались от них (что имело свои веские причины). Тем не менее, если «примерять» взгляды и настроения этих людей к имевшимся в то время налицо партиям и политическим движениям, становится совершенно ясно, что единственно близким им было именно и только «черносотенство», и их противники вполне обоснованно не раз заявляли об этом. Начать уместно с вопроса об исторической дальновидности, и здесь я обращусь к поистине замечательному документу — записке, поданной в феврале 1914 года Николаю II. Ее автор, П. Н. Дурново (1845–1915), с 23 октября 1905-го по 22 апреля 1906 года был министром внутренних дел России (его на этом посту сменил П. А. Столыпин), а затем занял гораздо более «спокойное» положение члена Государственного совета (стоит отметить, что П. Н. Дурново, как и почти все российские министры внутренних дел начала XX века, был приговорен левыми террористами к смерти). Уже хотя бы в силу своего официального положения П. Н. Дурново не принадлежал к каким-либо организациям, но никто не сомневался в его «черносотенных» убеждениях. Его записка царю проникнута столь поразительным духом предвидения, что современный историк А. Я. Аврех (1915–1988), автор семи изданных с 1966 по 1991 год обстоятельных книг о политических перипетиях начала XX века — книг, в которых он предстает как беззаветный апологет Революции и столь же беззаветный хулитель всех ее противников, — не смог все же удержаться от своего рода дифирамба по адресу Петра Николаевича Дурново. Заявив, что этот деятель — «крайний реакционер по своим взглядам» (а это, как отмечено выше, синоним «черносотенца»), А. Я. Аврех тут же характеризует его как создателя «документа, который, как показали дальнейшие события, оказался настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». В феврале 1914 года уже была очевидна надвигавшаяся угроза войны с Германией, и П. Н. Дурново, убеждая Николая II любой ценой предотвратить эту войну, писал: «…начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ. …Армия, лишившаяся… за время войны наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Далее П. Н. Дурново пояснял еще: «За нашей оппозицией (имелись в виду думские либералы. — В.К.) нет никого, у нее нет поддержки в народе… наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет»{7}. Это до удивления ясное предвидение всего, что происходило затем в России вплоть до установления большевистской диктатуры (точно сказав о «беспросветной анархии», в самом деле охватившей страну к октябрю 1917 года, П. Н. Дурново не брался предвидеть дальнейшее), прямо-таки посрамляет всех тогдашних «либеральных» и «прогрессивных» идеологов (начиная с более «левого» П. Н. Милюкова и кончая наименее «левым» октябристом А. И. Гучковым), полагавших, что переход власти в их руки — а он действительно свершился в феврале 1917 года — явится прочным залогом решения основных российских проблем (на деле те же Милюков и Гучков удержались у власти всего лишь два месяца…). Итак, историк А. Я. Аврех именует П. Н. Дурново «крайним реакционером по своим взглядам» и вместе с тем называет составленную им записку «настоящим пророчеством, исполнившимся во всех своих главных аспектах». Из контекста ясно, что историк усматривает здесь прямое «противоречие» (точно так же, как С. В. Шумихин противопоставляет высшую культуру Б. В. Никольского и его «черносотенство»). Между тем на деле именно те качества, которые, по терминологии А. Я. Авреха, являли собой «крайнюю реакционность», обусловили пророческую силу П. Н. Дурново и других его единомышленников. Один из главнейших кадетских лидеров, В. А. Маклаков, в отличие от подавляющего большинства его сотоварищей, честно признал в опубликованных в 1929 году парижскими «Современными записками» (т. 38, с. 290) мемуарах, что «в своих предсказаниях правые (правые в целом, а не только П. Н. Дурново или еще кто-нибудь. — В.К.) оказались пророками. Они предрекали, что либералы у власти будут лишь предтечами революции, сдадут ей свои позиции. Это был главный аргумент, почему они так упорно боролись против либерализма». Итак, борьба правых (В. А. Маклаков в данном случае явно постеснялся употребить кличку «черносотенцы») против либерализма определялась, диктовалась истинным пониманием грядущего пути русской истории; кадетский идеолог даже счел возможным возвышенно назвать этих своих непримиримых противников «пророками». Само определение «правые» вдруг приобретает здесь ценнейший смысл: «правые» — это те, кто — в отличие от либералов, которые в той или иной степени принадлежали к «левым», — были правы в своем понимании хода истории. И противники «правых» могут, конечно, находить в них самые разные отрицательные, дурные черты и назвать их «консерваторами», «реакционерами» и, наконец, «черносотенцами», вкладывая в эти названия неприятие и ненависть, но нельзя все же не признавать, что именно и только эти деятели и идеологи действительно понимали, куда двигалась Россия в начале XX века… * * *Прежде чем идти дальше, необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать действительный смысл определения «реакционный». В основе его лежит латинское слово, означающее «противодействие». Лишенные, в сущности, какой-либо конкретности, термины «реакция», «реакционный», «реакционер» и т. п. сложились как антонимы (то есть слова противоположного значения) к терминам «прогресс», «прогрессивный», «прогрессист» и т. д., исходящим из латинского же слова, означающего «движение вперед». Термин «прогресс» в новейшее время стал наиважнейшим для большинства идеологов, вкладывавших в него сугубо «оценочный» смысл: не просто «движение вперед», но движение к принципиально лучшему, в конце концов к совершенному обществу — своего рода земному раю. Идея прогресса утвердилась в период распространения атеизма и стала заменой (или, вернее, подменой) религии. Правда, в последние десятилетия XX века даже безусловные «прогрессисты» как бы оказались вынужденными оговаривать, что «прогресс» имеет более или менее «относительный» характер. Так, в соответствующей статье «Большой советской энциклопедии» (т. 21, издан в 1975 году) сначала заявлено, что прогресс есть «переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному» (с. 28), а потом сказано, что «понятие прогресса неприменимо ко Вселенной в целом, т. к. здесь отсутствует однозначно определенное направление развития» (с. 29). Это вроде бы надо понять так, что в развитии человеческого общества (в отличие от Вселенной в целом) царит одно вполне «определенное» направление развития (к совершенству), однако в другом месте статьи говорится, что «в досоциалистических формациях… одни элементы социального целого систематически прогрессируют за счет других», то есть, говоря попросту, что-то улучшается, а что-то одновременно ухудшается… И даже «социалистическое общество… не отменяет противоречивости развития». Если вдуматься, эти оговорки, по сути дела, отрицают идею прогресса, ибо оказывается, что приобретения в то же самое время ведут к утратам. И крайне сомнительно само уже «выведение» бытия людей из бытия Вселенной в целом, где, даже с точки зрения самих прогрессистов, нет прогресса (в смысле «совершенствования»); ведь люди, в частности, представляют собой не только особенный — общественный, социальный — феномен, но и явление природы, элемент Вселенной в ее целом. И сегодня любому мыслящему человеку ясно, например, что колоссальный прогресс техники поставил на грань катастрофы само существование человечества… Словом, можно рассуждать о прогрессе как определенном развитии, изменении, преобразовании общества, но представление о прогрессе как о некоем принципиальном «улучшении», «совершенствовании» и т. п. — это только миф новейшего времени — с XVII–XVIII веков (основательный повод для размышлений дает тот факт, что ранее в сознании людей господствовал противоположный миф, согласно которому «золотой век» остался в прошлом…). Миф о все нарастающем «совершенствовании» человеческого общества наглядно опровергается простым сопоставлением конкретных и целостных воплощений этого общества на разных — отделенных столетиями и тысячелетиями — стадиях его развития: кто, в самом деле, решится утверждать, что Платон и Фидий, Христовы апостолы и император Марк Аврелий, Сергий Радонежский и Андрей Рублев менее «совершенны», нежели самые «совершенные» люди нашего времени, которому предшествовал столь длительный человеческий «прогресс»? А ведь истинная реальность общества — это все же не количество потребляемой энергии, не характер политического устройства, не система образования и т. п., но сами люди, так или иначе вобравшие в себя все стороны и элементы общественной жизни своего времени. И еще: кто решится доказывать, что люди, живущие в позднейшую, более «прогрессивную» эпоху, более счастливы, чем люди предшествующих эпох? Искусство, запечатлевшее так или иначе духовную и душевную жизнь людей любой эпохи, ни в коей мере не подтвердит подобный тезис… Но, говоря обо всем этом, нельзя умолчать о поистине острейшей проблеме. Несмотря на то что миф о прогрессе в последнее время заметно дискредитировался, он все же остается достоянием большинства (или, пожалуй, даже подавляющего большинства) «цивилизованных» людей. Ведь, как уже сказано, вера в прогресс явилась заменой веры в Бога, а люди не могут жить вообще без веры. И масса людей проникнута всецело иллюзорным убеждением, что, «усовершенствуя» существующее общество, они — или хотя бы их дети — обретут подлинное удовлетворение и счастье. Особенно опасны, конечно, многообразные идеологи, которые убеждены не только в том, что эта цель достижима, но и в том, что они знают, как ее достичь. При этом на первый план выходит, естественно, даже не задача созидания более совершенного общественного устройства, но предварительная радикальная переделка или даже полная ликвидация существующего устройства. Теперь мы можем вернуться непосредственно к нашей теме. В начале XX века в России исключительно активно выступали бесчисленные «прогрессисты» — как либеральные, стремившиеся кардинально реформировать русское общество, так и революционные, убежденные в необходимости его полнейшего разрушения (что-де уже как бы само по себе обеспечит благо и процветание России). Своих противников они называли «реакционерами» (то есть буквально «противодействующими»); слово это, в сущности, стало бранным и непосредственно соседствовало с кличкой «черносотенец». Конечно, среди «реакционеров» были разные люди (ниже об этом еще пойдет речь). Но сосредоточимся на наиболее значительных из них — тех, кого сами «прогрессисты» подчас стеснялись назвать «реакционерами» (и тем более «черносотенцами»), предпочитая не столь резкое обозначение «консерватор», то есть «охранитель» (кстати, этот русский эквивалент слова «консерватор» был намного более «бранным»: «охранитель» как бы смыкался с «царской охранкой»). К «реакционерам» причисляли тех, кто ясно понимал иллюзорность идеи прогресса, отчетливо видел, что ослабление и разрушение вековых устоев России приведут к неисчислимым бедам и страданиям и в конце концов фатально «разочаруют» даже и самих «прогрессистов». * * *Уже шла речь о поразительной силе предвидения, которой обладали «реакционеры». Дело в том, что «прогрессисты», порабощенные своим мифом, заведомо не могли прозреть реальный ход истории. Их взгляд в будущее был как бы заслонен их собственными легковесными прожектами и неизбежно оказывался поверхностным и примитивным. И, конечно, не только предвидение как таковое, но и вообще духовная глубина и богатство чаще всего органически связаны с так называемыми «правыми» убеждениями. Начать уместно с имени величайшего ученого конца XIX — начала XX века Д. И. Менделеева, который в зрелые свои годы исповедовал прочные «правые» убеждения. Об этом любопытно вспоминал один из его весьма «либеральных» учеников — В. И. Вернадский. Сказав о заведомо «консервативных (слово «реакционных» Вернадский употребить не захотел, но достаточно и «охранительных». — В.К.) политических взглядах» Д. И. Менделеева, он вместе с тем свидетельствовал: «…ярко и красиво, образно и сильно рисовал он перед нами бесконечную область точного знания, его значение в жизни и в развитии человечества… Мы как бы освобождались от тисков, входили в новый, чудный мир… Дмитрий Иванович, подымая нас и возбуждая глубочайшие стремления человеческой личности к знанию и его активному приложению, в очень многих возбуждал такие логические выводы и построения, которые были далеки от него самого»{8}. Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с мнимым — навязанным либеральным мифом — «противоречием» между «консерватизмом» и глубиной и богатством духовной культуры. В советское время была популярна даже своего рода «концепция» так называемого вопрекизма, с помощью коей пытались доказывать, что исповедовавшие безусловно «консервативные» и «реакционные» убеждения великие мыслители, писатели, деятели науки — такие, как Кант, Гегель, Гёте, Карлейль, Бальзак, Достоевский, — достигли величия в силу некоего парадокса — «вопреки» своим взглядам. Но эта искусственная «концепция» попросту несерьезна, и дело, конечно, обстоит прямо противоположным образом. «Превосходство» консерватизма особенно ясно выступает тогда, когда речь идет о предвидении будущего (о чем уже говорилось). Русские «правые» с самого начала Революции, и более того, еще в XIX веке, с удивительной прозорливостью предсказали ее результаты. И вполне очевидно следующее: противостоявшие «правым» деятели и идеологи исходили из заведомо несостоятельного и, более того, по сути дела, примитивного миропонимания, согласно которому можно-де, отринув и разрушив вековые устои бытия России, более или менее быстро обрести некую если и не райскую, то уж во всяком случае принципиально более благодатную жизнь; при этом они были убеждены, что их ум и их воля вполне годятся для осуществления сей затеи. И одной из главных причин их прискорбного и в конечном счете рокового для России и для них самих заблуждения был недостаток подлинной культуры самосознания — культуры, заключающейся не в обилии знаний и не в интеллектуальных навыках, но в истинно глубоком переживании исторического бытия — прошедшего и современного; если выразиться кратко, «либералы» были нередко умные, но не мудрые деятели. Позволительно утверждать, что простые крестьяне и рабочие, вступавшие в «черносотенные» организации (а «простолюдины» вступали туда десятками и даже сотнями тысяч — о чем ниже), были мудрее либеральных профессоров типа кадета С. А. Муромцева и радикальных публицистов вроде «народного социалиста» А. В. Пешехонова. Для создания более ясного представления о существе проблемы целесообразно напомнить о российском политическом и партийном «спектре» начала века: 1) «левые» партии: социал-демократы (из которых в 1903 году выделились большевики); социалисты-революционеры (эсеры) и близкие к ним трудовики и народные социалисты; анархисты различного толка; 2) «центристские»: конституционные демократы (кадеты) и так или иначе примыкавшие к ним мирно-обновленцы и прогрессисты; более «правые» (но все же либеральные) — октябристы; 3) «правые»: различные организации «черносотенцев» и более «умеренная» партия националистов. Если проследить пути виднейших деятелей культуры, так или иначе сближавшихся с существовавшими тогда партиями, выяснится, что те из них, которые были способны обрести наиболее глубокую духовную культуру, двигались «слева направо», — и это было, в сущности, постепенным обретением мудрости. Так, знаменитые позднее мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк начали свой путь в социал-демократической партии; как ни странно звучит это теперь, они в свои молодые годы были членами той самой РСДРП, в которой одновременно с ними состояли В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий. Струве, о чем уже говорилось, даже был автором Манифеста РСДРП, принятого на Первом съезде партии в 1898 году (кстати, позднее в РСДРП побывал и видный мыслитель следующего поколения — Г. П. Федотов). Впоследствии, в 1908 году, Бердяев, споря с В. В. Розановым, объяснял свою причастность к РСДРП именно молодостью, незрелостью, — над чем тут же поиздевался его бывший товарищ по партии Троцкий, написавший в фельетоне «Аристотель и Часослов», что Бердяев «ищет для «левости» объяснения в… физиологии возраста. Молодо-зелено, говорит он на эту тему…» И Троцкий «заклеймил» Бердяева таким «афоризмом»: «Русский человек до тридцати лет — радикал, а затем каналья»{9}. Кстати, С. Н. Булгаков также называл свой социал-демократизм «болезнью юности». Здесь невозможно обсуждать соотношение «радикализма» и возраста, но скажу все же, что дело, очевидно, в проблеме созревания духа, а отнюдь не в «физиологии». В. В. Розанов был, по его собственному признанию, вполне «левым» до 22–23-х лет; однако многие достаточно известные и, без сомнения, неглупые люди ухитрялись сохранять крайнюю «левизну» до седых волос; напомню уже сказанное о качественном различии ума и мудрости. В отличие от ума, мудрость способна преодолевать тяжкое давление среды, мнений большинства, в конце концов самой эпохи. Никуда не денешься от того факта, что в начале XX века только не очень уж значительное меньшинство деятелей культуры смогло устоять перед своего рода гипнозом революционности или хотя бы недальновидного прогрессизма и либерализма; даже иные наиболее глубокие люди, как Александр Блок, жили словно на грани этого гипноза и действительного прозрения. Тем не менее близко знавшая поэта «либералка» З. Н. Гиппиус с полным основанием написала, что «если на Блока наклеивать ярлык… то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти было нельзя… Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать… Блок… с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева… так и на нетерпимость новой по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик»{10}. Запомним это «если наклеивать ярлык, то ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему подойти нельзя». То же самое вполне можно сказать о целом ряде самых выдающихся деятелей культуры того времени. И вернемся теперь к названным выше виднейшим мыслителям начала XX века. Преодолев свой юношеский социал-демократизм, они к 1905 году сблизились с центристской кадетской партией, а Струве стал даже членом ее ЦК (впоследствии он заявил о выходе из этого ЦК). Однако их развитие «вправо» продолжалось, и в начале 1909 года они выступили в знаменитом сборнике «Вехи», который произвел на кадетов ошеломляющее впечатление; только в конце следующего, 1910 года они, опомнившись, издали воинствующий антивеховский сборник «Интеллигенция в России» («левые» атаковали «Вехи» сразу же). Полностью порвать с такими недавними сотоварищами, как Бердяев, Булгаков, Струве, кадеты, конечно, не хотели. Поэтому их критика «Вех», при всей ее резкости, была по-своему осторожной; например, они только намекали на перекличку «веховцев» с «черносотенством». П. Н. Милюков, правда, решился прямо сопоставить содержание «веховских» статей и, с другой стороны, речей «черносотенцев» Н. Е. Маркова, В. М. Пуришкевича и «националиста» В. В. Шульгина, хотя и оговорил, что «дело пока так далеко не идет». Он не советовал «слишком спешить с отождествлением проектов «Вех» и предложений крайне правых (то есть «черносотенных». — В.К.) партий. Проповедуя религиозность, государственность и народность, авторы «Вех» тем самым еще не усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и великорусского патриотизма. Однако точки соприкосновения есть — и довольно многочисленные». А в конце статьи, несколько забыв об осторожности, П. Н. Милюков, безоговорочно «клеймя» тех идеологов, которые, по его определению, «основывают национализм на реставрации старой триединой формулы» (то есть «православие, самодержавие, народность»), заявил следующее: «Совершили ли авторы «Вех» и этот шаг, мы пока сказать не решаемся (вот именно «не решаемся»! — В.К.). Но путь их ведет сюда. И они уже стоят на этом пути. Выбор пути уже сделан». И он взывал к веховцам: «Вернитесь же в ряды и станьте на ваше место. Нужно продолжать общую работу русской интеллигенции» (то есть работу по разрушению исторической России…){11}. Итак, веховцы, согласно характеристике кадета, «уже стоят» на пути, ведущем к «черносотенству». Иначе оценивали «Вехи» и левые, и правые идеологи, которые прямо и открыто, без каких-либо обиняков говорили об их фактическом переходе в «черносотенный» лагерь (разумеется, первые говорили об этом с негодованием, а вторые с одобрением или даже с восхищением). И в самом деле: основной смысл статей главных авторов «Вех» никак не вмещался в идеологию центристских (не говоря уже о левых) партий, включая даже наиболее «правую» из них — «октябристскую». Правда, впоследствии те или иные веховцы проделали сложную, извилистую эволюцию; «грехи молодости» (начиная с пребывания в РСДРП) не прошли для них даром. Более или менее прямым был, пожалуй, только путь С. Н. Булгакова, во многом отошедшего даже от остальных веховцев и вступившего в теснейшую связь с вполне «правыми» В. В. Розановым и П. А. Флоренским. Он, например, оценивал и левые партии, и кадетов, и октябристов, в сущности, «по-черносотенному». С. Н. Булгаков писал, в частности, о 2-й Государственной думе, где господствовали «левые» депутаты: «Эта уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных… внушите им, что они спасители России… и вы получите 2-ю Государственную думу. И какими знающими, государственными, дельными представлялись на этом фоне деловые работники ведомств — «бюрократы»…» Но, по сути дела, столь же неприемлемы были для С. Н. Булгакова и кадеты, игравшие ведущую роль ранее, в 1-й Думе: «Первая Государственная дума… обнаружила полное отсутствие государственного разума и особенно воли и достоинства перед революцией, и меньше всего этого достоинства было в руководящей и ответственной кадетской. партии… Вечное равнение налево, трусливое оглядывание по сторонам было органически присуще партии и вождям… и это неудивительно, потому что духовно кадетизм был поражен тем же духом нигилизма и беспочвенности, что революция. В этом, духовном, смысле кадеты были и остаются в моих глазах революционерами в той же степени, как и большевики»{12}. Особое негодование С. Н. Булгакова вызывала позиция «правого» кадета В. А. Маклакова. Последний подчас довольно резко расходился с Милюковым, который в его глазах был слишком «левым»; тем не менее осенью 1915 года Маклаков опубликовал вызвавшую сенсацию статью «Трагическое положение», основанную на весьма прозрачной «подрывной» аллегории: «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге, — писал он, имея в виду путь России в условиях тяжкой войны, — один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может… В автомобиле есть люди, которые умеют править машиной, но оттеснить шофера на полном ходу — трудная задача». И Маклаков развил скользкую дилемму: или следует подождать времени, «когда минует опасность» (то есть окончится война), или внять матери, которая «будет просить вас о помощи», и все же немедля отстранить не могущего править шофера{13}; кадеты абсолютно необоснованно полагали, что они-то «умеют» и могут править Россией… С. Н. Булгаков вспоминал позднее, как «в обращение было пущено подлое словцо В. А. Маклакова о перемене шофера на полном ходу автомобиля, и среди мужей — законодателей разума и совета (то есть либеральных думских депутатов. — В.К.) совершенно серьезно обсуждался вопрос о том, внесет ли это какое-либо потрясение или нет, причем, конечно, разрешали в последнем смысле». Сам же С. Н. Булгаков, как он формулировал, «видел совершенно ясно, знал шестым чувством, что Царь не шофер, которого можно переменить, но скала, на которой утверждаются копыта повиснувшего в воздухе русского коня». С негодованием писал С. Н. Булгаков о политике кадетов и октябристов в конце 1916 года, в канун Февраля: «В это время в Москве (где жил мыслитель. — В.К.) происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот и говорилось об этом, как о событии завтрашнего дня. Приезжал в Москву А. И. Гучков (лидер октябристов. — В.К.), В. А. Маклаков, суетились и другие спасители отечества». И еще: «Особенное недоумение и негодование во мне вызвали в то время дела и речи кн. Г. Е. Львова, будущего премьера (Временного правительства. — В.К.)… Его я знал… как верного слугу Царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной сивухе, и вдруг его речи на ответственном посту (накануне Февральской революции Г. Е. Львов стал председателем Всероссийского земского союза. — В.К.) зовут прямо к революции… Это было для меня показательным, потому что о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Не иначе настроены были и мои близкие: Н. А. Бердяев бердяевствовал в отношении ко мне и моему монархизму, писал легкомысленные и безответственные статьи о «темной силе»; кн. Е. Н. Трубецкой плыл в широком русле кадетского либерализма и, кроме того, относился лично к Государю с застарелым раздражением… Только П. А. Флоренский знал и делил мои чувства в сознании неотвратимого…» Это булгаковское восприятие политической действительности тогдашней России ничем не отличалось в своих основах от «черносотенного», хотя С. Н. Булгаков никогда не решался объявить себя прямым сторонником последнего. Он писал о руководителях «черносотенцев», что «они исповедовали православие и народность, которые и я исповедовал», но все же «я чувствовал себя в трагическом почти одиночестве в своем же собственном лагере», то есть в лагере «правых». Еще пойдет речь о том, почему С. Н. Булгаков (и, конечно, не только он) не мог в прямом смысле присоединиться к лидерам «организованного черносотенства»; но в то же время совершенно ясно, что его основные представления и убеждения, если определять их место в политическом спектре начала XX века, совпадали именно и только с «черносотенными». Очень характерно его замечание: «Из Госдумы я вышел таким черным, каким никогда не бывал». А вот его восприятие Февральской революции: «…начали ловить и водить переодетых городовых и околоточных с диким и гнусным криком… появились сразу зловещие длинноволосые типы с револьверами в руках и соответствующие девицы… У меня была смерть на душе… А между тем кругом все сходило с ума от радости… брехня Керенского еще не успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много лет по отчетам Думы возненавидел этого ничтожного болтуна)… Я… знал сердцем, как там, в центре революции ненавидели именно Царя, как там хотели не конституции, а именно свержения Царя, какие жиды (выделено С. Н. Булгаковым. — В.К.) там давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся — до цареубийства включительно — с первого же дня революции, ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, как цареубийством, которое есть настоящая черная месса революции. И вот понеслась весть за вестью: Царь отрекся. Одновременно в газетах появились известия об «Александре Федоровне» (по жидовской терминологии, с которой нельзя было примириться)»{14}. Здесь естественно возникает вопрос о роли еврейства в Революции — вопрос, которого мы еще не касались. С. Н. Булгаков писал позднее об «участии» еврейства в Российской революции: «Чувство исторической правды заставляет признать, что количественно доля этого участия в личном составе правящего меньшинства ужасающа. Россия сделалась жертвой «комиссаров», которые проникли во все поры и щупальцами своими охватили все отрасли жизни… Еврейская доля участия в русском большевизме — увы — непомерно и несоразмерно велика…» И далее: «Еврейство в своем низшем вырождении, хищничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении совершило… значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией и особенно над св. Русью, которое было попыткой ее духовного и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства России…»{15} * * *Но мы еще вернемся к этой острой теме. Сейчас необходимо подвести итоги изложенного выше. С. Н. Булгаков, как ныне, пожалуй, общепризнано, один из наиболее выдающихся представителей русской (да и, конечно, не только русской) духовной культуры начала XX века. А между тем его прямая «перекличка» с умонастроением заведомых «черносотенцев» вполне очевидна. Еще раз повторю: если определять «место», «положение» С. Н. Булгакова в политическом спектре эпохи Революции, — это именно и только «черносотенство». Конечно же, многие сегодняшние прогрессисты и либералы будут резко возражать, пытаясь доказывать, что между даже самыми «правыми» веховцами и, с другой стороны, «черносотенцами» якобы нет ничего общего. В связи с этим уместно обратиться к весьма характерной нынешней статье Владлена Сироткина «Черносотенцы и «Вехи», где предпринята попытка убедить читателей в том, что веховцы в равной мере несовместимы и с «левыми», и с «правыми». Правда, В. Сироткин не умолчал об очень выразительной особенности «Вех»: в этом сборнике сокрушительно развенчивались «левые» (и революционеры, и либералы), но, признает В. Сироткин, — «о черносотенцах там ни слова — народопоклонничество и здесь сыграло роль самоцензуры!». Автор вряд ли до конца осознал смысл своего собственного суждения… Ведь получается, что спровоцированные «левыми» бунты и аграрные беспорядки не являлись, с точки зрения веховцев, выражениями народной воли (именно потому «народопоклонничество» веховцев не мешало им отвергнуть все «левое»), а сопротивление Революции со стороны «черносотенцев» эти виднейшие мыслители, напротив, воспринимали как выражение подлинной народной воли, не подлежащей критике! В это стоит вдуматься… Стремясь, так сказать, окончательно разоблачить «черносотенцев», В. Сироткин пишет о речах Н. Е. Маркова («черносотенный» депутат Государственной думы): «Все это очень напоминало будущие речи Муссолини и Гитлера… И не случайно в своей мракобесной книжке «Война темных сил» Марков позднее восторгался Муссолини»{16}. Плохо осведомленный В. Сироткин явно полагает, что, сообщая об этом, он полностью «отделил» веховцев от «черносотенцев». Однако веховец (и далеко не самый правый) Н. А. Бердяев в одно время с Марковым писал в своей книжке «Новое средневековье»: «Фашизм — единственное творческое явление в политической жизни современной Европы… Значение будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы»{17}. Могут возразить, что Бердяев вообще был крайне неустойчивым мыслителем, и у него можно обнаружить самые разные, нередко несовместимые, суждения. Но фашизм с его полным отрицанием «классических» форм демократии — вещь весьма и весьма определенная, конкретная, и одинаковый легкомысленный восторг перед ним ясно свидетельствует, что у Бердяева и Маркова были несомненные общие основы мировосприятия. Словом, попытки Владлена Сироткина и многих других убедить нас в несовместимости идеологии веховцев и «черносотенцев» попросту несерьезны; деятель, в честь которого получил свое имя историк Сироткин, то есть настоящий Владлен, был гораздо более прав, когда в свое время теснейшим образом связывал веховцев и «черносотенцев». В еще большей степени все это относится к тем двум великим мыслителям, которые были «правее» веховцев и с которыми, в частности, тесно сблизился в свои зрелые годы С. Н. Булгаков, — П. А. Флоренскому и В. В. Розанову. Впрочем, вопрос о Розанове даже не требует особого обсуждения, ибо и при жизни, и вплоть до нашего времени его вполне «заслуженно» именуют «черносотенцем». В связи с этим вспоминается один характерный эпизод из недавней литературной жизни. Кличка «черносотенец» не раз была употреблена в обширной статье о Розанове, сочиненной беззаветной современной «либералкой» Аллой Латыниной (см. журнал «Вопросы литературы», № 3 за 1975 год). Вскоре на заседании Приемной комиссии Московской писательской организации решался вопрос о вступлении А. Латыниной в Союз писателей, — притом статья о Розанове рассматривалась в качестве главного «достижения» претендентки. Я, состоявший тогда в сей комиссии, выступил против приема А. Латыниной, однако отнюдь не потому, что она «клеймила» Розанова как «черносотенца». Я говорил о том, что претендентка, увы, пишет о гениальном мыслителе как о некоем сомнительном писаке, якобы специализировавшемся на «политических доносах», «покушавшемся на свободу духа, свободу слова» (это Розанов-то!), проявлявшем «озадачивающую тенденциозность и странную глухоту (!) к художественной природе произведения искусства», «поразительную глубину непонимания (!) Достоевского» и т. д. и т. п. (все это — цитаты из статьи Латыниной…). Я выразил уверенность в том, что через какое-то время самой А. Латыниной будет попросту стыдно за этот свой жалкий опус (это время, думаю, настало; во всяком случае, невозможно представить, чтобы А. Латынина добровольно переиздала это свое «творение»…). Разумеется, мое выступление встретило в Приемной комиссии самый жесткий отпор, и А. Латынина была принята в Союз писателей — прежде всего именно как автор статьи о Розанове. Мое положение в Комиссии стало после этого шатким, а через какое-то время я постыдился промолчать и резко выступил против приема в Союз писателей высокопоставленного графомана — тогдашнего первого замминистра иностранных дел Ковалева, которого «рекомендовали» одновременно два секретаря Союза (хотя это не одобряется Уставом) — Андрей Вознесенский и Егор Исаев. И тогда меня уже вообще вычеркнули из Приемной комиссии… Я же, признаюсь, был весьма рад, что как-то пострадал из-за Розанова, которого теперь издали аж миллионными тиражами (это едва ли мог предвидеть и сам Василий Васильевич!). Сегодня остерегаются называть признанного гениальным мыслителем Розанова «черносотенцем», но он, конечно же, был «крайне правым», хотя в то же время невозможно представить его членом какой-либо партии. Впрочем, как уже не раз говорилось, многие выдающиеся деятели культуры не считали для себя возможным войти в какую-либо политическую организацию. Вместе с тем в высшей степени закономерно, что в 1913 году Розанова изгнали из формально «неполитической» организации — Религиозно-философского общества, творцом которого, кстати сказать, во многом был он сам. И это сделали люди, несовместимые с ним именно в политическом плане (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, А. В. Карташев, Н. А. Гредескул, Е. В. Аничков, А. А. Мейер и т. д.), и Розанов был изгнан именно за его «черносотенство». А в числе его тогдашних защитников были веховец П. Б. Струве и С. А. Аскольдов (Алексеев) — участник позднейшего сборника «Из глубины» (1918), подготовленного к изданию теми же веховцами. Между прочим, «дискриминируя» Розанова, Философов довольно-таки мерзко сказал и о его единомышленнике Флоренском: «Статья (речь шла об одной из «черносотеннейших» статей Розанова. — В.К.) помещена в «Богословском вестнике», органе Московской Духовной Академии… и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе… как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности…»{18} Иначе говоря, гнать надо этого Флоренского из Академии и «Богословского вестника» — как мы выгнали Розанова. Через двадцать лет, в 1933 году, ГПУ отправит П. А. Флоренского в ГУЛАГ по обвинению в «черносотенстве» и «фашизме» (эти слова есть в опубликованных ныне следственных и иных материалах)… И как «поучительна» эта перекличка либеральных витий 1910-х годов и гэпэушников! Но сия линия продолжается еще и сегодня… Так, неведомый мне автор, Леонид Никитин, в 1990 году издал в «демократическом» издательстве «Прометей» брошюру под эффектным названием «Здесь и теперь. Современный опыт философско-религиозного исследования», в которой, в частности, заявлено, что Павел Флоренский — «один из самых ярких ревнителей… ретроградного направления… Значительность и глубину затронутых им проблем нельзя недооценивать, но вместе с тем нельзя, например, не заметить и того, что он громит марбургскую школу неокантианцев (ту самую, которую прошел Пастернак)… почти с тем же непробиваемым пафосом собственной доброкачественности, с которым через 10–15 лет Геббельс открыто назовет их «жидами» и «дегенератами»…» «Ретроградное» здесь, конечно же, синоним «черносотенного», хотя П. А. Флоренский, как явствует из текста, называл марбургских неокантианцев «жидами» и «дегенератами» как-то скрытно — в отличие от Геббельса, который делал это «открыто». Но что скажет тов. Никитин о поэте, писавшем 19 июля 1912 года из самого Марбурга об этих самых неокантианцах: «Ах, они не существуют… Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма». Ведь так написал именно тот Б. Л. Пастернак (см. его книгу: «Воздушные пути». М., 1982, с. 7), который для тов. Никитина является своего рода высшим критерием ценности марбургской школы (ведь она «та самая, которую прошел Пастернак»). Тов. Никитин может возразить, что позднее, в «Охранной грамоте», Б. Л. Пастернак употреблял по отношению к главе сей школы слово «гениальный». Но тов. Никитин все же не сумел понять пастернаковский текст, насквозь проникнутый иронией; в этом тексте вместо подлинной творческой гениальности вдруг предстает как бы «реальный дух математической физики», — то есть, если угодно, интеллектуальное животное (употребляя юношеское пастернаковское слово — «скот»). И, вопреки тов. Никитину, Пастернак, в сущности, отказался «проходить» школу Марбурга: всего через несколько недель после начала соприкосновения с ней (прерываемого к тому же бурным романом и поездкой в Италию) он с явным отталкиванием от нее и даже, пожалуй, отвращением бежал из Марбурга в Москву… Это отнюдь не значит, что Пастернак недооценивал марбургскую философскую школу; ее методологические, «инструментальные» достижения очевидны и в известном смысле уникальны (их очень высоко ценил, в частности, М. М. Бахтин). Но, если выразиться попросту, в этой философии не было почти ничего «для души». Поэтому Пастернак и сказал о марбургских философах, что они «не существуют», а этот «приговор» вполне можно выразить по-другому: они дегенерировали, утратили основное в человеке («скоты»). Словом, если тов. Никитину угодно видеть в суждениях Флоренского «скрытый» смысл, подобный смыслу суждений Геббельса, то он должен, обязан охарактеризовать точно так же и суждения Пастернака… Впрочем, все здесь обстоит гораздо проще: тов. Никитин, в силу или отсутствия способностей, или недостаточной подготовленности, по сути дела, не понимает ни Флоренского, ни Пастернака, ни марбургскую школу; он только наклеивает не им придуманные ярлыки оценок (и негативных, и позитивных). Но пора бы ему все же понять самую малость: до предела постыдно ставить в один ряд с Геббельсом человека, который был загублен в результате аналогичного лживого обвинения… Это, кстати сказать, неизмеримо хуже, чем быть «интеллектуальным скотом»… * * *Вернемся еще раз к вопросу о непосредственном участии людей с «черносотенной» идеологией в соответствующих «организациях». Прославленный живописец В. М. Васнецов, получив предложение стать одним из членов-учредителей «черносотенного» Русского собрания, писал в своем ответном послании: «По существу я не имел бы ничего против; но дело в том, что на моей ответственности на долгие годы лежит столь серьезная художественная задача, что я все свои духовные и физические силы обязан сосредоточить на выполнении ее… Кроме того, работы эти, мне кажется, вполне соответствуют (выделено мною. — В.К.) тем задачам, выполнение которых поставило себе целью «Русское собрание»…»{19} В. М. Васнецов исключительно высоко ценил деятельность В. А. Грингмута, Л. А. Тихомирова, В. Л. Кигна (Дедлова) и других виднейших «черносотенцев». По его превосходному рисунку была изготовлена торжественная хоругвь (род знамени) Русской монархической партии. Близкий Васнецову великий живописец М. В. Нестеров преклонялся перед сочинениями «черносотенного» епископа Антония (Храповицкого). Он, в частности, сравнивал его и так же чрезвычайно высоко ценимого им В. В. Розанова, который, по его выражению, «кладет камень за камнем в подготовке больших и смелых решений в религиозных вопросах. Теперь по Руси немало таких, как он, и наисильнейший и наиболее обаятельный… епископ Уфимский и Мензелинский Антоний (Храповицкий)»{20}. Впоследствии, 19 октября 1917 года, Нестеров сообщал: «Сейчас пишу архиепископа Антония (Храповицкого), возможного патриарха Всероссийского» (там же, с. 277). Этот превосходный портрет хранится ныне в Третьяковской галерее. Поскольку Антоний — один из «проклятых», искусствоведы, пишущие о Нестерове, пытаются утверждать, что художник-де в этом портрете «разоблачал» архиепископа. Так, в одной из книг о творчестве Нестерова читаем: «Уже в 1909 году В. И. Ленин называл Антония Волынского «владыкой черносотенных изуверов»…» Поэтому на нестеровском портрете предстает, мол, «властное и неприятное лицо человека… полного жажды власти и гордыни… Холеные, породистые, почти сжатые в кулак и вместе с тем как бы покоящиеся на архиерейском жезле руки» и т. д.{21}. Это, конечно же, всецело тенденциозное «толкование» портрета. Тут уместно вспомнить зарисовку Антония, сделанную в мемуарах знаменитого лидера «партии националистов» В. В. Шульгина. Он не знал полотна Нестерова, но зато в 1909 году присутствовал на встрече епископа Антония с Николаем II: «Этот архиерей имел удивительно представительную внешность. Некоторые говорили, что он похож на Бога Саваофа, как его представляют себе в простоте души своей народные богомазы. В величественной лиловой мантии он стоял перед Царем, опираясь обеими руками на свой пастырский посох. Он говорил об отношениях монарха и Государственной думы…»{22} Этот «словесный портрет» близок к нестеровскому только в последнем, — оконченном уже после большевистского переворота, — есть черты глубочайшего страдания и скорби, но очевидна и непреклонность. И то, что советский искусствовед обозначает словами «жажда власти» и «гордыня», в действительности есть вера в конечную победу и презрение к насильникам. В связи с портретом архиепископа Антония необходимо напомнить, что в том же 1917 году (летом) Нестеров написал двойной портрет «Мыслители», на котором запечатлены С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский, а также собирался создать еще портрет В. В. Розанова, но вынужден был отказаться от намерения, ибо гениальный мыслитель и писатель был уже тяжко болен и, как вспоминал М. В. Нестеров позднее в своем ярком очерке «В. В. Розанов», «разрушался, и мало было надежд воскресить в нем былое. Время для такого портрета прошло, прошло безвозвратно…»{23} «Выбор» героев своих полотен, сделанный в 1917 году крупнейшим русским живописцем начала XX века (я вовсе не хочу умалять достоинства М. А. Врубеля, В. А. Серова или более молодого Б. М. Кустодиева, но первенство М. В. Нестерова все же неоспоримо), сам по себе очень много значит. Проникновенное чутье художника избрало этих четырех наиболее глубоких духовных вождей русской культуры эпохи Революции… Рядом с ними неизбежно отходят на второй план все остальные (включая даже и других участников сборника «Вехи» — не говоря уже о либеральных и революционных идеологах). Никто из них — сейчас это уже более или менее ясно каждому беспристрастному наблюдателю — не может быть поставлен в один ряд с Розановым, Флоренским, С. Н. Булгаковым и митрополитом Антонием (Храповицким). Либеральные идеологи — будь то П. Н. Милюков или М. М. Ковалевский, Д. С. Мережковский или Л. Шестов, и даже философ Е. Н. Трубецкой — не поднимались и не могли подняться до этого уровня (о революционных идеологах и говорить не приходится — их мышление было попросту примитивным). Одна из важнейших причин «первенства» консервативных идеологов кроется в проблеме культурного «наследства». Вопрос о наследстве был остро поставлен, в частности, в сборнике «Вехи» и полемике вокруг него. Тот же С. Н. Булгаков (как и прямые «черносотенцы») считал необходимым продолжать дело Киреевского, Гоголя, Хомякова, Тютчева, братьев Аксаковых, Самарина, Достоевского, Страхова, Леонтьева, которые основывались на «триаде» православия, самодержавия и народности. «Учителями» же его противников были поздний Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Лавров, Шелгунов и т. п. Ныне любой мыслящий человек понимает, что с точки зрения культуры первые представляют собой не просто «более выдающихся», но явления совершенно иного, высшего порядка. Однако в начале XX века либералы (не говоря уже о революционерах) вообще не изучали (да и не имели достаточной подготовки, чтобы изучить и понять) этих крупнейших мыслителей России; в их глазах они являли собой чуждых и враждебных «реакционеров». Впрочем, это была уже давно, еще в XIX веке, сложившаяся и безусловно господствующая тенденция, о которой резко, но совершенно точно писал, например, веховец С. Л. Франк в книге «Крушение кумиров»: «…сколько жертв вообще было принесено на алтарь революционного или «прогрессивного» общественного мнения!.. Едва ли можно найти хоть одного подлинно даровитого, самобытного, вдохновенного русского писателя или мыслителя, который не подвергался бы этому моральному бойкоту, не претерпел бы от него гонений, презрения и глумлений. Аполлон Григорьев и Достоевский, Лесков и Константин Леонтьев — вот первые приходящие в голову самые крупные имена гениев или по крайней мере настоящих вдохновенных национальных писателей, травимых, если не затравленных, моральным судом прогрессивного общества. Другим же, мало известным жертвам этого суда — нет числа!»{24} Все это привело к поистине диким результатам, рельефно отразившимся, например, в следующем факте. В начале XX века не раз издавался «Опыт библиографического пособия» — «Русские писатели XIX–XX ст.», составленный влиятельным «прогрессивным» книговедом И. В. Владиславлевым. Это «пособие» (которое по охвату имен значительно шире названия, так как в нем представлены не только писатели в узком смысле — то есть художники слова, — но и многие важнейшие с точки зрения составителя «идеологи») было, так сказать, «вратами культуры» для всей «прогрессивной» интеллигенции. И вот что прямо-таки замечательно: в дореволюционных изданиях этого «пособия» (1909 и 1913 годы) имя Константина Леонтьева (хотя он, между прочим, опубликовал ряд романов и повестей) вообще отсутствует! А между тем в «пособии» множество имен заурядных и просто ничтожных — но зато «прогрессивных»! — идеологов — современников гениального мыслителя (М. Антонович, К. Арсеньев, В. Берви-Флеровский, В. Зайцев, А. Скабичевский, С. Шашков, Н. Шелгунов и т. д.), чьи сочинения ныне и читать-то невозможно. Точно так же отсутствует в «пособии» и имя Розанова, хотя есть целый ряд имен его менее, гораздо менее или прямо-таки несоизмеримо менее значительных современников, — таких, как А. Айхенвальд, А. Богданович, С. Венгеров, А. Волынский, А. Горнфельд, Р. Иванов-Разумник, П. Коган, В. Кранихфельд, А. Луначарский, В. Львов-Рогачевский, А. Ляцкий, Е. Соловьев-Андреевич, В. Фриче, Л. Шестов и т. п. Эти авторы, в отличие от Розанова, были так или иначе связаны с кадетами, или эсерами, или социал-демократами. Любопытно, что в послереволюционное издание своего «пособия» (1918) Владиславлев, — видимо, слегка «поумнев», — включил и Леонтьева, и Розанова. Но, конечно, для начала XX века характерно не только прискорбное «замалчивание» ценнейшего наследства русской культуры, а и жестокая борьба против него. Вот весьма впечатляющий рассказ В. В. Розанова: «— Нужно преодолеть Достоевского, — это взял темою себе в памятной речи, посвященной Достоевскому, в Религиозно-Философском собрании (должно быть, в 1913 или 1914 году) Столпнер{25}. — Диалектика, философия и психология всего Достоевского… такова, что пока она не опрокинута, пока не показана ее ложность, дотоле русский человек, русское общество, вообще Россия — не может двинуться вперед… Шестов, тоже еврей, сидя у меня, спросил: — К какой бы из теперешних партий примкнул Достоевский, если бы был жив? Я молчал. Он продолжал: — Разумеется, к самой черносотенной партии, к Союзу русского народа и «истинно русских людей». Догадавшись, я сказал: — Конечно. Не забудем, что… Достоевский стал на сторону мясников, поколотивших студентов в Охотном ряду (Москва). На бешенство печати он сказал, обращаясь, собственно, к студентам: «Мясником был и Кузьма Минин-Сухорукий». Достоевский еще не пережил 1-го марта (то есть убийства Александра II. — В.К.). Можно представить себе ярость, какую бы он после этого почувствовал… Но достаточно и мясников: он очевидно бы примкнул к тем, кто после 17 октября и «великой забастовки» (1905 года. — В.К.) начал громить интеллигенцию в Твери, в Томске, в Одессе»{26}. Стоит добавить к этому, что вдова Достоевского, благороднейшая Анна Григорьевна, стремившаяся так или иначе продолжать его деятельность, сочла своим долгом стать действительным членом «черносотенного» Русского собрания… Нельзя умолчать о характерной и по-своему забавной ситуации, в которой оказались сегодня, сейчас «прогрессистские» идеологи: с одной стороны, они яростно борются против «консерваторов», но в то же время они не могут теперь не сознавать, что почти все наиболее выдающиеся идеологи России XIX века были отнюдь не «прогрессистами»; последние за редким исключением являли собой нечто заведомо «второсортное». Ныне просто невозможно всерьез изучать сочинения Добролюбова, Чернышевского, Писарева и т. п., чего никак не скажешь о Леонтьеве, Данилевском, Ап. Григорьеве. И возникает диковатый парадокс: многие теперешние «прогрессисты» выше всего ценят в прошлом мыслителей именно того «направления», которое сегодня они с пеной у рта отрицают… >Глава 2 Что такое Революция? Выдвижение столь «глобального» вопроса может показаться чем-то странным: ведь речь шла об одном определенном явлении эпохи Революции — «черносотенстве» — и вдруг ставится задача осмыслить сущность этой эпохи вообще, в целом. Но, — о чем уже сказано, — взгляд на Революцию, при котором в качестве своего рода точки отсчета избирается «черносотенство» — непримиримый враг Революции, — имеет немалые и, быть может, даже особенные, исключительные преимущества. Выше говорилось о том, что именно и только «черносотенцы» ясно предвидели чудовищные результаты революционных потрясений. Не менее существенно и их понимание действительного, реального состояния России в конце XIX — начале XX века. Либералы и тем более революционеры на все лады твердили о безнадежной застойности или даже безысходном умирании страны, — что они объясняли, понятно, ее «никуда не годным» экономическим, социальным и — прежде всего — политическим строем. Без самого радикального изменения этого строя Россия, мол, не только не будет развиваться, но и в ближайшее время перестанет существовать. Именно такое «понимание» чаще всего и толкало людей к революционной деятельности. Один из виднейших «черносотенных» идеологов, Л. А. Тихомиров (в 1992 году вышло новое издание его содержательного трактата «Монархическая государственность»), который в молодые годы был не просто революционером, но одним из вожаков народовольцев, с точным знанием дела писал в своей исповедальной книге «Почему я перестал быть революционером?» (М., 1895), что на путь кровавого террора его бывших сподвижников вело внедренное в них убеждение, согласно которому в России-де «ничего нельзя делать» (с. 45), и вообще «Россия находится на краю гибели, и погибнет чуть не завтра, если не будет спасена чрезвычайными революционными мерами» (с. 56). Это убеждение — пусть и не всегда в столь заостренной форме — владело сознанием большинства идеологов в эпоху Революции. А после 1917 года пропаганда вдалбливала в души безоговорочный тезис о том, что-де только революционный переворот спас Россию от неотвратимой и близкой смерти. Между тем реальное бытие России конца XIX — начала XX века совершенно не соответствовало сему диагнозу. В 1913 году В. В. Розанов опубликовал свои воспоминания о знаменитом «черносотенце» А. С. Суворине (1834–1911), где передал, в частности, такое его размышление: «Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удается, во всем мы отстали». На деле же «за мою жизнь… Россия до такой степени страшно выросла… во всем, что едва веришь. Россия — страшно растет, а мы только этого не замечаем…»{1} Розанов добавил, что именно этим пониманием порождены были замечательные суворинские ежегодные издания «Вся Россия», «Весь Петербург», «Вся Москва» и т. п., где «указана, исчислена и переименована вся торговая, промышленная, деятельная, вся хозяйственная Россия» (с. 19). Любопытно, что уже после 1917 года прекрасный поэт Михаил Кузмин (в свое время — член Союза русского народа) воспел эти суворинские издания в своем свободном стихе, говоря о наслаждении просто «перечислить» Все губернии, города, Возьмем всего только двадцатилетие, с 1893 по 1913 год; без особо сложных разысканий можно убедиться, что Россия за этот краткий период выросла поистине «страшно» (по суворинскому слову). Население увеличилось почти на 50 миллионов человек (со 122 до 171 млн.) — то есть на 40 процентов; среднегодовой урожай зерновых — с 39 млн. тонн до 72 млн. тонн, следовательно, почти вдвое (на 85 процентов), добыча угля — в 5 раз (от 7,2 млн. тонн до 35,4 млн. тонн), выплавка железа и стали — более чем в 4 раза (от 0,9 млн. тонн до 4,3 млн. тонн) и т. д. и т. п. Правда, по основным показателям промышленного производства Россия была все же позади наиболее развитых в этом отношении стран, — о чем не переставали и не перестают до сих пор кричать ее хулители. Но от кого Россия «отставала»? Всего только от трех специфических стран «протестантского капитализма», где непрерывный промышленный рост являл собой как бы важнейшую добродетель и цель существования, — Великобритании, Германии и США. «Отставание» от еще одной промышленно развитой страны, Франции, в 1913 году было, в сущности, небольшим (добыча угля в России и Франции — 35,4 млн. тонн и 43,8 млн. тонн, выплавка железа и стали — 4,3 млн. тонн и 6,9 млн. тонн и т. п.). А других промышленных «соперников» у России в тогдашнем мире просто не имелось… Могут возразить, что Россия намного превосходила Францию по количеству населения и, значит, резко отставала от нее с точки зрения «душевого» производства; однако в 1913 году Французская (как и Британская, и Германская) империя владела огромными территориями на других континентах и потому была сопоставима с Российской и в этом плане (общее население Французской империи в 1913-м — более 100 млн.). Французский экономист Эдмон Тэри по заданию своего правительства приехал в 1913 году в Россию, тщательно изучил состояние ее хозяйства и издал свой отчет-обзор под названием «Экономическое преобразование России». В 1986 году этот отчет был переиздан в Париже, и в предисловии к нему совершенно справедливо сказано: «Тот, кто внимательно прочтет этот беспристрастный анализ, поймет, что Россия перед революцией экономически была здоровой, богатой страной, стремительно идущей вперед»{2}. Впрочем, дело не только в этом. Едва ли уместно (хотя многие поступают именно так) судить о состоянии и развитии страны в начале XX века исключительно — или даже хотя бы главным образом — на основе ее собственно экономических, хозяйственных показателей. Ведь тогда придется прийти к выводу, что в 1913 году такие, скажем, страны, как Италия и тем более Испания, находились по сравнению с Великобританией и Германией — да и даже с самой Россией! — в глубочайшем упадке, в состоянии полнейшего ничтожества. Нельзя, например, отрицать, что очень существенным показателем состояния страны являлось тогда положение в ее книгоиздательском деле. Ведь книги — в их многообразии — это своего рода «инобытие» всего бытия страны, запечатлевающее так или иначе любые его стороны и грани; книжное богатство, без сомнения, порождается богатством самой жизни. В 1893 году в России было издано 7783 различных книги (общим тиражом 27,2 млн. экз.), а в 1913-м — уже 34 006 (тиражом 133 млн. экз.), то есть в 4,5 раза больше и по названиям, и по тиражу (кстати сказать, предшествующий, 1912 год был еще более «урожайным» — 34 630 книг). Дабы правильно оценить эту информацию, следует знать, что в 1913 году в России вышло книг почти столько же, сколько в том же году в Англии (12 379), США (12 230) и Франции (10 758) вместе взятых (35 367)! С Россией в этом отношении соперничала одна только Германия (35 078 книг в 1913 году), но, имея самую развитую полиграфическую базу, немецкие издатели исполняли многочисленные заказы других стран и, в частности, самой России, хотя книги эти (более 10 000) учитывались все же в качестве германской продукции{3}. Можно бы привести еще множество самых различных фактов, подтверждающих мощный и стремительный рост, всестороннее развитие России в конце XIX — начале XX века — от экономики и быта до искусства и философии, но здесь, конечно, для этого нет места. К тому же (что уже отмечено) одно только книжное богатство так или иначе свидетельствует о богатстве породившего его многообразного бытия страны. Сам тот факт, что Россия в 1913 году была первой книжной державой мира, невозможно переоценить. Тем не менее тогдашние либералы и прогрессисты, стараясь не замечать очевидности, на все голоса кричали о том, что-де Россия, в сравнении с Западом, пустыня и царство тьмы. Правда, после 1917 года некоторые из них как бы опомнились. Среди них — и известный, по-своему блестящий публицист и историк культуры Г. П. Федотов (1886–1951), который в 1904 году вступил в РСДРП и достаточно результативно действовал в ней, но позднее начал «праветь». А в послереволюционном сочинении открыто «каялся»: «Мы не хотели поклониться России — царице, венчанной царской короной… Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее… Еще недавно мы верили (не обладая способностью понять и даже просто увидеть. — В.К.), что Россия страшно бедна культурой, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский сделались учителями человечества, чтобы пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия — не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна — предстала взорам… не обещание, а зрелый плод. Попробуйте ее отмыслить — и насколько беднее станет без нее культурное человечество… Мир, может быть, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры». Далее Федотов высказал даже и понимание того, что русская культура выросла не на пустом месте: «Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское… Мы помогли разбить его своею ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины»{4}. Казалось бы, следует только порадоваться этому прозрению и этому покаянию Федотова. Но, во-первых, очень уж чувствуется, что он прямо-таки наслаждался своей покаянной медитацией — смотрите, мол, какой я хороший… Помог разбить русское государство, а теперь, поняв наконец, что оно значило, готов искупать свою вину. Впрочем, даже и в определении этой вины присутствует явная ложь: активный член РСДРП, оказывается, всего лишь «помогал» разбить русское государство «своею ненавистью или равнодушием» — то есть некими своими внутренними состояниями. Однако это еще далеко не самое главное. Федотов заявляет здесь же: «Мы знаем, мы помним. Она была. Великая Россия. И она будет. Но народ, в ужасных и непонятных ему страданиях, потерял память о России — о самом себе. Сейчас она живет в нас… В нас должно совершиться рождение великой России… Мы требовали от России самоотречения… И Россия мертва. Искупая грех… мы должны отбросить брезгливость к телу, к материально государственному процессу. Мы будем заново строить это тело» (с. 136). Итак, вырисовывается по меньшей мере удивительная картина. Эти самые «мы» только после «умерщвления» с их «помощью» России и подсказок с Запада «огляделись вокруг», и их «взорам» впервые предстала великая страна. Но далее выясняется, что лишь эти «мы» и обладают-де таким знанием, и именно и только эти «мы» способны воскресить Россию… Естественно возникает вопрос о том, как же относятся эти самые «мы» к «черносотенцам» и их предшественникам, которые никогда не сомневались в величии России и постоянно сопротивлялись ее «умерщвлению»? Федотов в одном из позднейших своих сочинений дал недвусмысленный ответ. Увы, объявил он, «Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия… Пушкин примирился с монархией Николая… В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе»{5}. А о «черносотенстве» XX века сказано здесь же так: «В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России… с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский». И более того, оказывается, «его («черносотенства». — В.К.) идеи победили в ходе русской революции…»!!!{6} Каково? Тот факт, что большинство «черносотенных» деятелей, не уехавших из России, были без следствия и суда расстреляны еще в 1918–1919 годах, Федотова никак не смущает. Остается заключить, что настоящими «черносотенцами» (которые победили) были, по мнению Федотова, Ленин и Свердлов, Троцкий и Зиновьев, Каменев и Бухарин… Невольно вспоминается, что хорошо знавшая Федотова Зинаида Гиппиус едко, но метко прозвала его «подколодным теленком». Я отнюдь не намерен отрицать даровитости и публицистического блеска сочинений Федотова, но как идеолог он в определенном смысле «вреднее» откровенных русофобов… В русской культуре XIX века Федотов, как мы видели, указал единственного своего сотоварища — Герцена. И, кстати сказать, не вполне обоснованно, ибо в свои зрелые годы, после долгого искуса эмиграцией, Герцен многое понял иначе. Вроде бы это должно было произойти за четверть века эмигрантской жизни и с вовсе не глупым Федотовым. А поскольку не произошло, приходится сделать вывод, что Федотов, несмотря на свои гимны «Великой России», постоянно вонзал жало в действительную, реальную великую Россию с ее могучей государственностью, за служение которой он, как мы видели, готов был отринуть убеждения Пушкина, Гоголя и Достоевского — не говоря уже об их продолжателях. Сознательно или бессознательно Федотов выполнял заказ тех мировых сил, для которых реальная великая Россия всегда являлась нестерпимым соперником… Да и что Федотов противопоставлял этой реальной великой России? Свое очень абстрактное, в сущности, даже бессодержательное понятие «Свобода». Настоящим «философом свободы» был, как известно, Бердяев, и его никак нельзя упрекнуть в недооценке этого — не раз конкретно определяемого им — феномена человеческого бытия. И, если Федотов постоянно кричал об отсутствии или хотя бы фатальном дефиците свободы в России, Бердяев писал, например, в 1916 году: «Россия — страна безграничной свободы духа…» И эту «органическую, религиозную свободу» русский народ «никогда не уступит ни за какие блага мира», не предпочтет «внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства». И далее: «Россия — страна бытовой свободы, неведомой… народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей… Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле… Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей»{7}. Таков был вердикт виднейшего «философа свободы»; Федотов же постоянно твердил, что свобода наличествует только на Западе, и России прямо-таки необходимо импортировать ее оттуда и внедрить — чего бы это ни стоило. Между прочим, я полагаю, что некоторые приведенные суждения Бердяева не вполне точны. Когда он говорит, например, что характерный для России тип странника «так прекрасен», это можно понять в духе утверждения заведомого «превосходства» России над Западом, где, мол, царит над всем «жажда прибыли». У Запада есть своя безусловная красота, и речь должна идти не о том, что русское «странничество» прекраснее всего, а только о том, что и в России также есть своя красота — и своя свобода! Но в конечном счете Бердяев и говорит именно об этом, видя в России свободу духа и быта, — а не свободу в сфере политики и экономики, которая столь характерна для Запада. Те же, кто требовал объединить в России и то и другое, по сути дела, впадали в «методологию» гоголевской невесты Агафьи Тихоновны, которая мечтала: «Если бы… взять сколько-нибудь развязности, которая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…» И еще одно. Внимательные читатели Бердяева могут напомнить мне, что в этом же своем сочинении 1916 года он утверждал: «Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю… Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории… Никакая философия истории… не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность… почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни?» (с. 8). Вполне возможно, что в отвлеченных философских категориях разгадать это противоречие нелегко, но если перейти на простой язык жизни, оно не столь уж загадочно. На этом языке на свой вопрос достаточно убедительно ответил сам Бердяев, утверждая (см. выше), что русский народ, русские люди не поглощены «земным благоустройством», что они по натуре своей «странники». И если бы не было могучей государственности, эта «странническая» Россия, в сущности, неизбежно и давно бы растворилась и исчезла. Должна же была все-таки безграничная свобода духа и быта русских людей, о которой говорит Бердяев, иметь прочные скрепы? Их и обеспечивала внеположная по отношению к духовной и бытовой свободе ограда могущественного государства… * * *Экскурс в «федотовскую» идеологию (имевшую и имеющую немало горячих почитателей) выявил, надо думать, некоторые существенные черты «революционного сознания». Возвратимся теперь к проблеме мощного и стремительного развития России в конце XIX — начале XX века. Либеральная, революционная и, позднее, советская пропаганда вбивала в головы людей представление, согласно которому Россия переживала тогда застой и чуть ли не упадок, из которого ее, мол, и вырвала Революция. И мало кто задумывался над тем, что великие революции совершаются не от слабости, а от силы, не от недостаточности, а от избытка. Английская революция 1640-х годов разразилась вскоре после того, как страна стала «владычицей морей», закрепилась в мире от Индии до Америки; этой революции непосредственно предшествовало славнейшее время Шекспира (как в России — время Достоевского и Толстого). Франция к концу XVIII века была общепризнанным центром всей европейской цивилизации, а победоносное шествие наполеоновской армии ясно свидетельствовало о тогдашней исключительной мощи страны. И в том, и в другом случае перед нами, в сущности, пик, апогей истории этих стран — и именно он породил революции… Было бы абсурдно, если бы в России дело обстояло противоположным образом. И если вспомнить хотя бы несколько самых различных, но, без сомнения, подлинно «изобильных» воплощений русского бытия 1890–1910-х годов — таких, как Транссибирская магистраль, свободное хождение золотых монет, столыпинское освоение целины на востоке, всемирный триумф Художественного театра, титаническая деятельность Менделеева, тысячи превосходных зданий в пышном стиле русского модерна, празднование Трехсотлетия Дома Романовых, наивысший расцвет русской живописи в творчестве Нестерова, Врубеля, Кустодиева и других, — станет ясно, что говорить о каком-либо «упадке» просто нелепо. В трактате французского политика и историософа Алексиса Токвиля «Старый порядок и Революция» — одном из наиболее проницательных размышлений на эту тему — показано, в частности, следующее: «Порядок вещей, уничтожаемый Революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал». Франция 1780-х годов ни в коей мере не находилась, продолжает свою мысль Токвиль, — «в упадке; скорее можно было сказать в это время, что нет границ ее преуспеянию… Лет за двадцать пред тем на будущее не возлагали никаких надежд; теперь от будущего ждут всего. Предвкушение этого неслыханного блаженства, ожидаемого в близком будущем, делало людей равнодушными к тем благам, которыми они уже обладали, и увлекало их к неизведанному»{8}. (Здесь нельзя не напомнить мифа о «прогрессе», о котором шла речь в первой главе моего сочинения и который выступал в качестве своего рода подмены религии.) Преуспевающие российские предприниматели и купцы полагали, что кардинальное изменение социально-политического строя приведет их к совсем уж безграничным достижениям, и бросали миллионы антиправительственным партиям (включая большевиков!). Интеллигенция тем более была убеждена в своем и всеобщем процветании при грядущем новом строе; нынешнее же положение образованного сословия в России представлялось ей ничтожным и ужасающим, и она, скажем, не обращала никакого внимания на тот факт, что в России к 1914 году было 127 тысяч студентов — больше, чем в тогдашних Германии (79,6 тыс.) и Франции (42 тыс.) вместе взятых (то есть дело обстояло примерно так же, как и в книгоиздании){9}. Стоит еще сообщить, что расхожее утверждение о «неграмотной» России, которая после 1917 года вдруг стала быстро превращаться в грамотную, — это заведомая дезинформация. Действительно большая доля неграмотных приходилась в 1917 году, во-первых, на старшие возрасты и, во-вторых, на женщин, которые тогда были всецело погружены в семейный быт, где грамотность не была чем-то существенно нужным. Что же касается, например, мужчин, вступавших в жизнь в 1890–1900-х годах, — то есть мужчин, которым к 1917 году было от 20 до 30 лет, — то даже в российской деревне 70 процентов из них были грамотными, а в городах грамотные составляли в этом возрасте 87,4 процента{10}. Это означало, что в молодой части рабочего класса неграмотных было всего лишь немногим более 10 процентов. О рабочих следует сказать особо, ибо многие убеждены, что революционные акции в России совершала некая полунищая пролетарская «голытьба». Как раз напротив, решающую роль играли здесь квалифицированные и вполне прилично оплачиваемые люди — те, кого называют «рабочей аристократией». Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на любую фотографию 1900–1910-х годов, запечатлевшую революционных рабочих: по их одежде, прическе, ухоженности усов и бороды, осанке и выражению лиц их легко можно принять за представителей привилегированных сословий. Это были люди, которые, подобно предпринимателям и интеллигенции, стремились не просто к более обеспеченной жизни (она у них вовсе и не была скудной), но хотели получить свою долю власти, высоко поднять свое общественное положение. Вот хотя бы одно весомое свидетельство. Н. С. Хрущев вспоминал впоследствии: «Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40–50 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии» (то есть в 1935–1937 гг.; партаппаратные «привилегии» утвердились с 1938 г.){11}. Для правильного понимания хрущевских слов следует знать, что даже в Петербурге (в провинции цены были еще ниже) килограмм хлеба стоил тогда 5 коп., мяса — 30 коп. (стоит сказать и о «деликатесных» продуктах: 100 граммов шоколада — 15 коп., осетрины — 8 коп.); метр сукна — 3 руб., а добротная кожаная обувь — 7 руб. и т. д. Кроме того, к 1917 году Хрущеву было лишь 23 года, и он, конечно, не являлся по-настоящему квалифицированным рабочим, который мог получать в 1910-х годах и по 100 руб. в месяц. Короче говоря, рабочий класс России к 1917 году вовсе не был тем скопищем полуголодных и полуодетых людей, каковым его пытались представить советские историки. Правда, накануне Февраля в Петербурге уже началась разруха (в частности, впервые за двухвековую историю города в нем образовались очереди за хлебом — их тогда называли «хвосты», а слово «очередь» в данном значении появилось лишь в советское время), но это было только последним толчком, поводом; Революция самым интенсивным образом назревала и готовилась по меньшей мере с начала 1890-х годов. Уже в 1901 году Горький изобразил впечатляющую фигуру рабочего Нила (пьеса «Мещане»), — мощного, независимого, достаточно много зарабатывающего и по-своему образованного человека, безоговорочно претендующего на роль хозяина России. Итак, в России были три основные силы — предприниматели, интеллигенты и наиболее развитой слой рабочих, — которые активнейше стремились сокрушить существующий в стране порядок — и стремились вовсе не из-за скудости своего бытия, но скорее напротив — от «избыточности»; их возможности, их энергия и воля, как им представлялось, не умещались в рамках этого порядка… Естественно встает вопрос о преобладающей части населения России — крестьянстве. Казалось бы, именно оно должно было решать судьбу страны и, разумеется, судьбу Революции. Однако десятки миллионов крестьян, рассеянные на громадном пространстве России, в разных частях которой сложились существенно различные условия, не представляли собой сколько-нибудь единой, способной к решающему действию силы. Так, в 1905–1906 годах русское крестьянство приняло весьма активное участие в выборах в 1-ю Государственную думу; достаточно сказать, что почти половина ее депутатов (231 человек) были крестьянами. Но, как показано в обстоятельном исследовании историка С. М. Сидельникова «Образование и деятельность Первой Государственной думы» (М., 1962), политические «пристрастия» крестьянства тех или иных губерний, уездов и даже волостей резко отличались друг от друга; это ясно выразилось в крестьянском отборе «уполномоченных» (которые, в свою очередь, избирали депутатов Думы): «В одних волостях избирали лишь крестьян… демократически настроенных, в других… по взглядам своим преимущественно правых и черносотенцев» (с. 138). Вообще-то сотни тысяч крестьян в то время всецело поддерживали «черносотенцев», но это не могло привести к весомым результатам, ибо дело Революции решалось в «столицах», в «центре», который — поскольку Россия издавна была принципиально «централизованной» в политическом отношении страной — мог более или менее легко навязать свое решение провинциям. И еще один пример. В 1917 году крестьянство в своем большинстве проголосовало на выборах в Учредительное собрание за эсеровских кандидатов, выступавших с программой национализации земли (а это целиком соответствовало заветной крестьянской мысли, согласно которой земля — Божья), и в результате эсеры получили в Собрании преобладающее большинство. Но когда поутру 6 января 1918 года большевики «разогнали» неугодное им Собрание, крестьянство, в сущности, ничего не сделало для защиты своих избранников (да и как оно могло это сделать — организовать всеобщий крестьянский поход на Петроград?). Наконец, нельзя не остановиться на одной связанной с крестьянством проблеме — вернее, целом узле проблем, которые чаще всего толкуются тенденциозно или просто ошибочно. Крестьянство, количественно составлявшее основу населения России, не могло быть самостоятельной, активной и весомой политической (и, в частности, революционной) силой в силу бедности, весьма низкого жизненного уровня его преобладающего большинства. Совершенно ложно представление, согласно которому революции устраивают нищие и голодные: они борются за выживание, у них нет ни сил, ни средств, ни времени готовить революции. Правда, они способны на отчаянные бунты, которые в условиях уже подготовленной другими силами революции могут сыграть огромную разрушительную роль, но именно и только в уже созданной критической ситуации (так, множество крестьянских бунтов происходило в России и в XIX веке, но они не вели ни к каким существенным последствиям). Ныне многие авторы склонны всячески идеализировать положение крестьянства до 1917 — или, точнее, 1914 года. Ссылаются, в частности, на то, что Россия тогда «кормила Европу». Однако Европу кормили вовсе не крестьяне, а крупные и технически оснащенные хозяйства сумевших приспособиться к новым условиям помещиков или разбогатевших выходцев из крестьян, использующие массу наемных работников. Когда же после 1917 года эти хозяйства были уничтожены, оказалось, что хлеба на продажу (и не только для внешнего, но и для внутреннего рынка), товарного хлеба в России весьма немного (вопрос этот был исследован виднейшим экономистом В. С. Немчиновым, и его выводы послужили главным и решающим доводом в пользу немедленного создания колхозов и совхозов). Крестьяне же — и до 1917 года, и после него — сами потребляли основное количество выращиваемого ими хлеба, притом многим из них не хватало этого хлеба до нового урожая… Все это, казалось бы, противоречит сказанному выше о бурном росте России. Какой же рост, если составляющие преобладающее большинство населения крестьяне в массе своей бедны? Но, во-первых, и в жизни крестьянства в начале века были несомненные сдвиги. А с другой стороны, самое мощное развитие не могло за краткий срок преобразовать бытие огромного и разбросанного по стране сословия. Средние урожаи хлебов пока еще оставались весьма низкими — от 6,7 центнера с гектара пшеницы до 12,1 — кукурузы… И крестьян легко было поднять на бунты, «подкреплявшие» революционные акции в столицах. А кроме того, для главных революционных сил — предпринимателей, интеллигенции и квалифицированных рабочих — бедность большинства крестьян (а также определенной массы «деклассированных элементов» — «босяков», воспетых Горьким и другими) являлась необходимым и безотказно действующим аргументом в их борьбе против строя. Есть все основания полагать, что в конечном счете всестороннее развитие России подняло бы уровень жизни крестьян. Но поборники «прогресса» были уверены, что, изменив политический строй, они могут без всяких помех повести всех к полному благоденствию… * * *Возвратимся еще раз к трем основным силам, которые «делали» Революцию. Их несло на гребне той могучей волны стремительного роста, который переживала Россия. Выше цитировались справедливые слова из предисловия к изданному в 1914 году отчету французского экономиста Э. Тэри, — слова о «здоровой, богатой стране, стремительно идущей вперед». Но вслед за этой фразой сказано: «Революция — не естественный итог предшествующего развития, а несчастье, постигшее Россию». И вот это уже весьма неточное суждение. Нет, именно невиданно бурный и чрезвычайно — в сущности, чрезмерно — быстрый рост «естественно» вылился, претворился в Революцию. Об этом еще в 1912 году с острейшей тревогой говорил на заседании Русского собрания известный в то время писатель (Лев Толстой сказал в 1909 году, что у него «прекрасный язык, народный») и «черносотенный» деятель И. А. Родионов: «…русская душа с тысячами смутных хотений, с тысячами неосознанных возможностей, подобно безбрежному океану, разливается — через край… Великий народ… создавший мировую державу, не мог не быть обладателем такой воли, которая двигает горами… И народ доспел теперь до революции… Я не верю в Россию… не верю в ее будущность, если она немедленно не свернет на другую дорогу с того расточительного и гибельного пути жизни, по которому она с некоторого времени (с 1890-х гг. — В.К.) пошла. Потенциальная сила народа тогда только внушает веру в себя, когда она расходуется в меру… У нас же этот Божеский закон нарушен»{12}. Напомню еще раз переданные Розановым слова Суворина о том, что на его глазах «Россия страшно выросла во всем». Ведь не случайно же — хотя и, наверное, неосознанно — сорвался с его губ такой вроде бы неуместный эпитет! Часто говорят, что слабость России накануне 1917 года доказывается ее «поражением» в тогдашней мировой войне. Но это, в сущности, беспочвенная клевета. За три года войны немцы не смогли занять ни одного клочка собственно русской земли (они захватили только часть входившей в состав империи территории Польши, а русские войска в то же время заняли не меньшую часть земель, принадлежавших Австро-Венгерской империи). Достаточно сравнить 1914 год с 1941-м, когда немцы, в сущности, всего за три месяца (если не считать их собственных «остановок» для подтягивания тылов) дошли аж до Москвы, чтобы понять: ни о каком «поражении» в 1914-м — начале 1917 года говорить не приходится. Очень осведомленный и весьма умный Уинстон Черчилль, наслушавшись речей о «поражении России», написал в 1927 году: «Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна… Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо… пожираемая червями»{13}. Впрочем, Черчилль не усматривает причину гибели Российской империи именно в том, что она, как он утверждает, развила неисчерпаемые силы, развила чрезмерно. Грозную опасность, таящуюся в «страшном» росте России, видели, пожалуй, одни только «черносотенцы». Прогрессистским и либеральным идеологам всех мастей, напротив, мнилось, что Россия развивается-де недостаточно быстро и широко (или даже вообще будто бы стоит на месте), они постоянно стремились сокрушить преграды, мешающие «движению вперед». И это была поистине безнадежная слепота людей, мчащихся в могучем потоке и не замечающих этого. Большинство из них в какой-то момент ужаснулось, но было уже поздно… И тогда они — опять-таки большинство — начали доказывать, что их прекрасная устремленность была чем-то или кем-то искажена, испорчена, превращена в свою противоположность. Это был заведомо неверный диагноз; все, что делалось в России с 1890-х годов, и не могло завершиться иначе! Действительно мудрые люди — хотя их и теперь со злобой называют «черносотенцами» — ясно предвидели этот итог задолго до 1917 года. Выше приводилось честное признание одного из кадетских лидеров В. А. Маклакова, согласно которому «правые» в своих предвидениях оказались всецело правыми. И сам факт, что все происшедшее было совершенно точно предвидено (хотя бы в цитированной записке П. Н. Дурново), свидетельствует о неотвратимой закономерности происшедшего, — хотя либералы и тем более революционеры вплоть до 1917 года с полным пренебрежением отвергали «черносотенные» пророчества. А после 1917 года многие либералы и революционеры взялись «исправлять» якобы кем-то искаженную историю. Ради этого была начата тяжелейшая Гражданская война. В течение многих лет официальная пропаганда стремилась доказать, что Белая армия вела войну для восстановления «самодержавия, православия, народности». И в конце концов это было принято на веру чуть ли не всеми. Не буду скрывать, что и сам я в свое время — в 1960-х годах — полагал, что Белая армия имела целью воскрешение той исторической России, перед которой преклонялись Гоголь и Достоевский, Леонтьев и Розанов. Помню, как, пролетая четверть с лишним века назад в самолете над Екатеринодаром (я не называл его Краснодаром), несколько человек торжественно встали, чтобы почтить память павшего здесь «Лавра Георгиевича» (Корнилова), как мы благоговейно взирали на возлюбленную «Александра Васильевича» (Колчака) А. В. Тимиреву, которая дожила до 1975 года… Сейчас такие жесты стали общей модой, и многие видят во всех генералах и офицерах Белой армии жертвенных (пусть и тщетных) спасителей русской монархии… Однако перед нами глубочайшее заблуждение. Один из виднейших деятелей Белой армии, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский поведал в своих предельно искренних воспоминаниях, что по политическим убеждениям эта армия представала как «мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов… «Боже Царя храни» провозглашали только отдельные тупицы (то есть люди, не понимавшие основную направленность белых. — В.К.), а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку», избранную по «четыреххвостке», так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал»{14}. Впрочем, обратимся к главным вождям Белой армии. Все они — «выдвиженцы» кадетско-эсеровского Временного правительства. Не буду останавливаться на беззастенчиво предавшем своего Государя и занявшем его пост Верховного главнокомандующего М. В. Алексееве, поскольку он не так уж знаменит. Но вот широко популярные Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин. К Февралю они были всего только командирами корпусов, то есть стояли в ряду многих десятков тогдашних военачальников. В 1917 году за нелепо краткий срок в несколько месяцев они перепрыгивают через ряд ступенек должностной иерархии. Корнилов становится сначала Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа и первым делом — уже 7 марта — лично арестовывает царскую семью… Затем он командует армией, фронтом и, наконец, назначается Верховным главнокомандующим. Деникин в марте же из комкора превращается в начальника штаба Ставки Верховного главнокомандования, а затем получает в руки Западный фронт… Необходимо иметь в виду при этом, что Временное правительство провело очень большую «чистку» в армии. Лучший современный знаток военной истории А. Г. Кавтарадзе сообщает: «Временное правительство уволило из армии сотни генералов, занимавших при самодержавии высшие строевые и административные посты… Многие генералы, отрицательно относившиеся к проводимым в армии реформам… уходили из армии сами»{15}. Совершенно иной была судьба Корнилова и Деникина. Всем известно, что оба эти генерала вступили позднее в острый конфликт с Керенским; однако это был скорее результат борьбы за власть, нежели последствие каких-либо глубоких расхождений. Вице-адмирал А. В. Колчак к Февралю был на более высокой ступени, чем эти два генерала: он командовал Черноморским флотом. Вскоре после переворота его призывают в Петроград, чтобы отдать в его руки важнейший Балтийский флот. Чуть ли не первое, что он делает, приехав в столицу, — идет на поклон к патриарху РСДРП Г. В. Плеханову… Назначение Колчака, который тут же был произведен в «полные» адмиралы, на Балтику в силу разных обстоятельств отложили, и Временное правительство отправляет его с некой до сих пор не вполне ясной миссией в США (официально речь шла всего-навсего об «обмене опытом» в минном деле, но по меньшей мере странно, что подобная роль предоставляется одному из ведущих адмиралов…). Из США Колчак через Японию и Китай прибывает в сопровождении представителей Антанты в Омск, чтобы стать военным министром, а позднее главой созданного здесь ранее эсеровско-кадетского правительства. Едва ли не главным «иностранным» советником Колчака оказывается в Омске капитан французской армии (в которую он поступил в 1914 году), родной брат-погодок Я. М. Свердлова и приемный сын А. М. Горького (Пешкова) Зиновий Пешков, еще в июле 1917 года назначенный представителем французского правительства при Керенском, а позднее явившийся (как и Колчак, через Японию и Китай) в Сибирь… Перед нами поистине поразительная ситуация: в красной Москве тогда исключительно важную — вторую после Ленина — роль играет Яков Свердлов, а в белом Омске в качестве влиятельнейшего советника пребывает его родной брат Зиновий! Невольно вспоминаешь широко известное стихотворение Юрия Кузнецова «Маркитанты»… При этом нельзя еще не напомнить, что именно Колчак был объявлен тогда Верховным правителем России, которому — пусть хотя бы формально — подчинялись все без исключения белые. Все эти и другие подобные факты, раскрывающие характер белого движения, отнюдь не являются в настоящее время некими тайнами за семью печатями (хотя кое-что в них остается сугубо таинственным); они изложены по документальным данным в целом ряде общедоступных исследований. Но в общем сознании эти факты не присутствуют. Так, например, в новейших кинофильмах, изображающих белых (а таких фильмов было немало), последние обычно представлены в качестве истовых монархистов. Разумеется, в составе Белой армии были и монархисты, но они, если и действовали, то сугубо тайно и к тому же подвергались слежке, а подчас и репрессиям. А. И. Деникин рассказывает, например, в своем основательном труде «Очерки русской смуты» о подпольной деятельности монархистов в его войсках во время его «похода на Москву»: «Вероятно, усилия их не были бесплодны, потому что в августе (1919 года. — В.К.) информационная часть «ОСВАГА» («Осведомительное агентство». — В.К.) отмечала: «Что касается монархических партий и групп, то… главным их орудием является отдел военной пропаганды. Они сумели посадить туда многих своих единомышленников, через которых распространяют свою литературу. Правда, делается это весьма осторожно и без ведома лиц, стоящих во главе отдела, через низших служащих…» Крайние правые партии, — свидетельствует далее Деникин уже от себя лично, — не захватывали… численно широких кругов населения и армии… Я знаю очень многих добровольцев, которые не слыхали никогда названий этих организаций. О существовании некоторых из них я сам узнал только теперь при изучении материалов. Точно так же они не имели своей легальной прессы… Но их подпольная агитация оказывала несомненное влияние, в особенности среди неуравновешенной (! — В.К.) и мало разбиравшейся в политическом отношении части офицерства… У них был, однако, общий лозунг — «Самодержавие, православие и народность»… Что касается отношения этого сектора к власти (имеется в виду власть белых. — В.К.), оно было вполне отрицательным»{16}. Подобных свидетельств можно привести сколько угодно. Иногда пытаются объяснить категорическое неприятие белыми вождями монархии и вообще «дофевральской» России их социальным происхождением: ведь, скажем, основатель Белой армии генерал Алексеев был сыном простого солдата, Корнилов — казачьего хорунжего (чин, соответствующий низшему, уже даже «полуофицерскому» званию прапорщика), Деникин — вообще сыном крепостного крестьянина, правда, сумевшего выслужиться из рядовых в офицеры, и т. п. Кстати сказать, из 70 с лишним генералов и офицеров — «отцов-основателей» Белой армии, участников 1-го Кубанского похода, — как выяснил уже упомянутый превосходный современный историк А. Г. Кавтарадзе, — всего только четверо обладали какой-нибудь наследственной или приобретенной собственностью; остальные жили и до 1917 года только на служебное жалованье (по-нынешнему — на зарплату). В связи с этим А. Г. Кавтарадзе иронически цитирует суждение историка Л. М. Спирина, утверждающего, что белые-де «не могли смириться с тем, что рабочие и крестьяне отняли у них и их отцов земли, имения, фабрики, заводы» (с. 36), и именно поэтому воевали. Никаких земель и заводов ни у белых генералов, ни тем более у их отцов не было и в помине. Что ж, поэтому они и шли против прежней России? Дело, по-видимому, обстоит сложнее. Алексеев, Корнилов, Деникин совершили в конце XIX — начале XX Века воистину головокружительную карьеру (подумайте только: родившийся в тверской деревне в семье рядового солдата Алексеев, выпущенный в свои 19 лет прапорщиком из юнкерского училища, к 57 годам стал генералом от инфантерии!). И это значит, что они оказались на самом гребне мощного и стремительного роста России — роста, который побуждал их верить в безграничный «прогресс». Вполне уместно сказать, что эти генералы были настроены, в сущности, «революционно», и, конечно, совершенно не случайно тот же Алексеев вместе с «левеющим» октябристом Гучковым начиная с 1915 года готовил военный заговор, предусматривающий насильственное свержение Николая II. Исходя из всего этого естественно заключить, что само название «Белая армия» (или «гвардия») возникло как противоположение не только (а может быть, и не столько) «Красной армии», но и «Черной сотне»… Весной 1993 года я участвовал в телевизионной программе, посвященной памяти Николая II. Большинство выступавших, как это сегодня принято, весьма положительно отзывались о последнем русском самодержце (кстати, «самодержец» означает вовсе не абсолютный, а суверенный монарх). Но один историк, не преодолевший ненависти, обвинил Николая II в том, что его сторонники развязали Гражданскую войну, повлекшую неисчислимые жертвы. Я возражал историку, но по краткости отпущенного мне времени не мог произнести то, что изложено выше. Невозможно оспорить, что Гражданской войной руководили отнюдь не монархисты, а либералы (прежде всего — кадеты) и революционеры, не согласные с большевиками (главным образом эсеры). В конце концов Белая армия никак не могла — если бы даже и хотела — идти на бой ради восстановления монархии, поскольку Запад (Антанта), обеспечивавший ее материально (без его помощи она была бы бессильна) и поддерживавший морально, ни в коем случае не согласился бы с «монархической» линией (ибо это означало бы воскрешение той реальной великой России, которую Запад рассматривал как опаснейшую соперницу). Сравнительно недавно (хотя еще до пресловутой «гласности») было издано тщательное исследование историка Н. Г. Думовой «Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.)» (М., 1982), в котором неопровержимо доказано, что ни о какой существенной деятельности монархистов в ходе Гражданской войны не может быть и речи, что решающую роль играли кадеты и эсеры (последние — особенно в стане Колчака). Любопытно, что Н. Г. Думова, — по-видимому, для того, чтобы, как говорится, не дразнить гусей, — уважительно пишет о тех историках, которые пытались (конечно, совершенно тщетно) доказать, что вина за Гражданскую войну лежит на монархистах. Так, она пишет (с. 12), что-де «большой вклад… внесла монография Г. З. Иоффе «Крах российской монархической контрреволюции» (1977)». Между тем труд самой Н. Г. Думовой, по существу, начисто опровергает основные положения сей монографии… Впрочем, при более или менее вдумчивом чтении становится ясно, что и книга Г. З. Иоффе сама опровергает свое собственное название (и, разумеется, основной свой тезис) — «Крах российской монархической контрреволюции». Нельзя не заметить, что определение «монархическая» — это только смягченный вариант определения «черносотенная», ибо последнее слово присутствует в книге Г. З. Иоффе едва ли не на большинстве страниц — и присутствует в конечном счете для того, чтобы «свалить» на «черносотенцев» трагедию Гражданской войны. Но поскольку книга Иоффе — это все же не пропагандистская брошюра, а обширное исследование, в котором приводится множество разнообразных фактов, заявленная автором версия, согласно которой главной силой, развязавшей Гражданскую войну, были монархисты (читай — «черносотенцы»), буквально рушится на глазах любого внимательного читателя. Судите сами. Г. З. Иоффе сообщает, например (отрицать это невозможно), что в стане Колчака «политически первую скрипку… играли правые эсеры» (при этом не надо удивляться слову «правые»: если говорить о левых эсерах, то они до лета 1918 года делили власть с большевиками, входили в Совнарком и ВЦИК Советов). Однако затем Г. З. Иоффе начинает уверять нас, что на деле-то колчаковская армия была-де во власти «махровых черносотенцев» (с. 169). Из чего же это следует? Оказывается, при Колчаке, пишет Иоффе, «в Омске и других городах действовала тайная (выделено мною. — В.К.) организация офицеров-монархистов» (с. 176), ибо «черносотенно настроенная омская военщина предпочитала действовать негласно» (с. 177); более того, Иоффе утверждает (без каких-либо аргументов), что, мол, даже и сам Колчак всегда оставался «скрытым монархистом…» (с. 181). Между прочим, ничего себе обстановочка, при которой Верховный правитель вынужден тщательно скрывать свои истинные убеждения! При этом Иоффе, как ни странно, утверждает еще, что, несмотря на монархизм Верховного правителя, «в монархических кругах… вынашивались планы переворота, направленного… против режима Колчака» (с. 193), что «наиболее реакционно настроенные (то есть «махрово черносотенные». — В.К.) генералы и офицеры не оставляли своих надежд «убрать» Колчака» (с. 196). Вот уж в самом деле курьез: казалось бы, Колчаку следовало только шепнуть этим генералам и офицерам, что в действительности он монархист, и все было бы в порядке. Но суть дела даже и не в этом. Вполне можно допустить, что какая-то часть генералов и офицеров в стане Колчака тайно исповедовала монархические и даже «махрово черносотенные» взгляды. Однако пытаться на этом основании объявить колчаковцев вообще «монархистами» и «черносотенцами» — в сущности, то же самое, что объявить их «большевиками», поскольку ведь в армии Колчака очень активно действовала и большевистская агентура (гораздо более активно, чем «черносотенная»). Член тогдашнего Омского (подпольного) комитета РКП(б) С. Г. Черемных вспоминал: «Основную работу среди солдат (колчаковских. — В.К.) вели рабочие из нелегальных партийных ячеек и боевых групп (десяток)… Они доводили до сознания мобилизованных в колчаковскую армию, что война против Советской республики только на пользу русской и международной буржуазии. Каждое утро на постовых будках, дверях, оконных рамах и стеклах складов появляются надписи: «Долой эту сволочь — сибирское правительство и его ставленников!»{17} — то есть эсеров и Колчака с его генералами и т. д. и т. п. «Тайная» деятельность «черносотенцев» в стане Колчака совершенно меркнет перед этой не столь уж тайной деятельностью большевиков! Монархисты, согласно утверждениям самого Г. З. Иоффе, лишь еле заметно нечто затевали… Более решительно пытались действовать затаившиеся монархисты позднее, при Врангеле, — то есть уже перед концом Белой армии. Иоффе сообщает о том, что готовился «монархический заговор, созревший (даже! — В.К.) в мае — июне 1920 г. среди части морских офицеров Севастополя. План заговорщиков состоял в том, чтобы арестовать Врангеля и нескольких близких ему лиц (из числа, понятно, либеральных деятелей. — В.К.), после чего провозгласить главой белого движения великого князя Николая Николаевича». Однако «заговор очень быстро был раскрыт и ликвидирован» (с. 261). Сообщая о подобных фактах, Иоффе, повторяю, начисто опровергает декларируемое в названии его книги и в многочисленных общих фразах представление о Белой армии как монархической и «черносотенной». Да, в этой армии, конечно, были и «черносотенцы». Но они ни в коей мере не определяли ее политическое лицо. Нельзя не сказать еще о том, что Иоффе не раз на протяжении своей книги говорит о деятельности во время Гражданской войны реальных «черносотенных» лидеров — главным образом Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича. Но деятельность эта, как выясняется из книги, целиком сводилась к вынашиванию планов (именно и только вынашиванию) освобождения арестованного Николая II, к изданию немногих и малотиражных монархических брошюр и прокламаций и, наконец, к различным не имевшим каких-либо серьезных последствий совещаниям «черносотенцев» и их посланиям друг другу. Никакого результативного участия в Гражданской войне эти доподлинные «черносотенцы» не принимали. Многое раскрывает следующее сопоставление: выше упоминалось, как адмирал Колчак пошел на поклон к лидеру РСДРП Плеханову, а Иоффе, в свою очередь, рассказывает, что произошло после того, как лидер «черносотенцев» Пуришкевич сумел однажды пробиться на прием к генералу Корнилову: «Сведения об этом попали в печать, и корниловскому окружению пришлось разъяснить, что встреча эта была чисто официальной и продолжалась несколько минут» (с. 82). Все это недвусмысленно свидетельствует, что, во-первых, Белая армия, по существу, не имела ничего общего с «черносотенцами» (и, выражаясь мягче, монархистами) и, во-вторых, «черносотенцы» не играли сколько-нибудь значительной роли в Гражданской войне. А значит, нелепо вменять им в вину эту кровавую мясорубку, — как, впрочем, и вообще какие-либо кровавые дела (о чем еще будет сказано подробно). * * *Итак, в Гражданской войне столкнулись две по сути своей «революционные» силы. Отсюда и крайняя жестокость борьбы. Для консерваторов (а монархисты, без сомнения, консервативны по определению) вовсе не характерна агрессивность, они видят свою цель в том, чтобы сохранить, а не завоевать. В высшей степени характерно, что Николай II без борьбы отрекся от престола, ибо, как сказано в его Манифесте от 2 марта 1917 года, «почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение…». Но об этом мы будем говорить в следующей главе. Отмечу еще, что многое из того, о чем было сказано выше, имеет прямое отношение к сегодняшним проблемам, но для выявления сей «переклички» необходимо охарактеризовать еще ряд сторон эпохи Революции. >Глава 3 Неправедный суд Речь пойдет о суде над «черносотенцами», который длится уже почти девять десятилетий — если не считать начавшегося намного ранее заведомо неправедного суда над предшественниками «черносотенства» — славянофильством и Гоголем, «почвенничеством» и Достоевским и т. п. (С. Н. Булгаков с горечью говорил о том, как господствовавшие идеологи неукоснительно «отлучали» всех «правых», «причем среди этих отлученных оказались носители русского гения, творцы нашей культуры»{1}.) Прежде всего необходимо осознать одну — способную при должном внимании прямо-таки поразить — особенность сего суда: едва ли не все его приговоры основываются в конечном счете не на каких-либо реальных действиях «черносотенцев», но на действиях, которые они — по мнению обвинителей — могли бы (если бы сложились благоприятные обстоятельства) совершить или же — опять-таки по мнению обвинителей — намеревались совершить. Именно так ставится (и решается) вопрос, скажем, в охарактеризованной выше книге Г. З. Иоффе о «монархической контрреволюции» во время Гражданской войны («монархическое» предстает в книге как синоним «черносотенного»). Этот историк, в отличие от многих других, не выдумывает нужные ему факты, и потому в его книге нет и речи о каких-либо «злодействах» монархистов-«черносотенцев» в ходе войны 1918–1920 годов; они, согласно рассказу Г. З. Иоффе, только намеревались получить в свои руки власть и уж тогда, мол, позлодействовать вволю. Главный смысл книги сводится, в сущности, к следующему эмоциональному тезису: «Ах, сколь ужасно было бы, если бы «черносотенцы» оказались во главе Белой армии! Мороз по коже идет, как представишь себе, что бы они тогда натворили!» И в любом «античерносотенном» сочинении, исходящем из реальных, действительных фактов, постановка вопроса именно такова. Конечно, в других сочинениях (уже в ироническом значении этого слова: о некоторых из них еще будет речь) «черносотенные злодеяния» попросту выдумываются. Впрочем, в последнее время, когда фактическая история нашего столетия постепенно становится известной все более широкому кругу людей, чаще говорят уже не о будто бы совершившихся неслыханных злодействах «черносотенцев» (ибо ложь таких обвинений начинает обнаруживаться со всей очевидностью), но именно о «потенциальном», о «готовившемся» — в случае их прихода к власти — беспрецедентном терроре и деспотизме. Очень характерен в этом отношении рассказ того же Г. З. Иоффе об Общероссийском монархическом съезде, созванном «черносотенцами» в мае 1921 года в немецком городе Рейхенгалле (то есть по сути дела уже в эмиграции). От речи на этом съезде бывшего «черносотенного» депутата Н. Е. Маркова, объясняет нам Иоффе, «веяло угрозой кровавого разгула мрачной реакции. «Царь и плаха сделают дело, — писала «Правда» (30 августа 1921 г. — В.К.) о Рейхенгалльском съезде. — Царь и плаха на Лобном месте ожидают русские трудящиеся массы в случае победы контрреволюции…»{2} Этот «прогноз» особенно любопытен потому, что Иоффе не раз говорит в своей книге о принципиальном отказе Н. Е. Маркова и его единомышленников от участия в братоубийственной Гражданской войне. Так, редактируемый Н. Е. Марковым журнал «Двуглавый орел» провозглашал в марте 1921 года: «Государь не решился начать междоусобную войну, не решился сам и не приказал того нам». Эти слова приведены Г. З. Иоффе (с. 59), и как-то еще можно его понять, когда он цитирует — в качестве «документа эпохи» — газету «Правда», которая пугала читателей «черносотенной» плахой на Лобном месте (на Красной площади), по своему невежеству полагая, что на этом «месте», с которого в XVI–XVII веках объявляли народу правительственные указы (в том числе, естественно, и указы о казнях), будто бы устанавливалась когда-либо плаха… Да, «Правду» 1921 года все же можно понять и, как говорится, простить. Но ведь Г. З. Иоффе говорит об «угрозе кровавого разгула мрачной реакции» — то есть разгула «черносотенцев» и лично от себя самого, хотя он как трудолюбивый историк не может не знать, что ничего подобного соответствующие партии никогда не предпринимали. В другом месте книги Г. З. Иоффе без обиняков утверждает, что «черносотенцы», мол, «в случае своей победы готовили России кровавую баню» (с. 284). Все подобные рассуждения о злодействах «черносотенцев» (если, конечно, историк не склонен выдумывать, фантазировать) строятся именно по этой модели: «угроза», «готовили», «могли бы». Тут опять-таки загадка: ведь вовсе не «черные», а красные и — в меньшей мере (хотя бы потому, что у них было меньше сил) — белые обрушили на Россию кровавые «разгулы» и «бани», и тем не менее самую опасную, самую пугающую «угрозу» и «готовность» усматривают почему-то именно в «черносотенцах», хотя они никак не отличились в подобного рода делах в ходе Гражданской войны, которая и велась-то, как мы видели, между большевиками и, с другой стороны, — кадетами (красные нередко называли своих противников не «белыми», а именно «кадетами») и эсерами. Но — скажут, конечно, мне, — а как же я забываю о страшных событиях, совершавшихся еще до 1917 года — о «черном терроре», погромах, да и обо всей кошмарной деятельности этих ужаснейших лидеров «черносотенных» партий — Маркова, Пуришкевича, Дубровина и т. п.? Прежде всего следует еще раз повторить, что все связанное с понятием «черносотенство» подверглось поистине ни с чем не сравнимому «очернению». Выше уже шла речь об опубликованной сравнительно недавно, в 1975 году, статье А. Латыниной о Розанове, где этот «черносотенец» (сие слово постоянно возникает в статье) характеризовался как (цитирую статью) «прожженный циник», «лжец», «изувер», «ханжа», «прислужник», «шовинист», «доносчик», «беспринципный предатель», «субъект», сводивший воспитание людей к «скотоводству» (!) и т. д. и т. п. Ныне, без сомнения, едва ли бы кто решился писать так о Розанове, ибо теперь всем ясно, что автор подобной статьи унижает самого себя, а не гениального мыслителя и писателя. Но, с другой стороны, теперь-то стараются как раз умолчать о «черносотенстве» Розанова, хотя его политические убеждения невозможно определить иначе. Впрочем, тех, кто избегает слова «черносотенец», можно понять: ведь слово это по-прежнему несет в себе совершенно одиозный смысл. Поистине замечательна в этом отношении обширная публикация в 14-м выпуске исторического альманаха «Минувшее» (1993), озаглавленная «Правые в 1915 — феврале 1917. По перлюстрированным Департаментом полиции письмам». Архивист Ю. И. Кирьянов тщательно подготовил к печати 60 сохранившихся в полицейском архиве копий «черносотенных» писем, среди авторов и адресатов которых такие главенствовавшие лица, как А. И. Соболевский, К. Н. Пасхалов, В. М. Пуришкевич, Ю. А. Кулаковский (выдающийся историк античности и Византии), А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, Д. И. Иловайский, Н. А. Маклаков, архиепископ Антоний (Храповицкий), П. Ф. Булацель, Г. Г. Замысловский, А. С. Вязигин (один из крупнейших русских историков католицизма) и др. Ю. И. Кирьянов, называя их «правыми», в самом начале своей вводной статьи ставит вопрос: «Все ли правые периода войны были черносотенцами?» И далее говорит о «нежелании по крайней мере части самих правых прикосновения к черносотенству» (с. 151). Эти суждения по меньшей мере странны. Ведь даже в рамках публикуемой переписки далеко не самый «радикальный» деятель Русского собрания К. Н. Пасхалов недвусмысленно называет своих сторонников «представителями черносотенных групп» (с. 171). И, кстати, именно Пасхалову принадлежат использованные Ю. И. Кирьяновым слова о неких робких единомышленниках, «боящихся прикосновения к «черносотенцам»…» (с. 187) и потому не явившихся на Нижегородский съезд, где Пасхалов председательствовал. Трусливых участников можно обнаружить в любом движении, но те лица, чьи письма опубликованы Ю. И. Кирьяновым, к таковым явно не относятся. И дело здесь в том, что сам Ю. И. Кирьянов, стремясь объективно представить публикуемую им переписку, вместе с тем опасается, — и, конечно же, не без оснований, — как бы его не атаковали за «сочувствие» к «черносотенцам», и поэтому предпринимает попытки отделить от них хотя бы часть героев своей публикации, которые, мол, всего только «правые». А между тем среди этих героев — самые что ни есть «махровые»… Но беспристрастный читатель не найдет в их переписке ровно ничего злодейского или хотя бы злонамеренного, основной тон писем — боль, мучительная боль, порожденная зрелищем неотвратимо катящейся в революционную бездну России… Тем не менее с момента возникновения «черносотенных» организаций и до сего дня о них говорят как об опаснейшей, чуть ли не апокалиптической силе, которая «готовилась», «могла бы» все и вся беспощадно уничтожить. Поддавшись этой мощной пропагандистской волне, даже С. Н. Булгаков (тогда еще, впрочем, весьма либеральный) писал в 1905 году о видном «черносотенце» В. А. Грингмуте, что он-де «хотел бы утопить в крови всю Россию»{3}. По всей вероятности, впоследствии, когда Булгаков тесно сблизился с задушевным другом В. А. Грингмута священником И. И. Фуделем, ему было попросту стыдно за эту свою нелепую фразу. Владимир Андреевич Грингмут с 1870 года преподавал древнегреческий язык и эстетику в одном из культурнейших учебных заведений — Катковском лицее, в 1894–1896 годах был директором этого лицея, а с 1896 года — редактором влиятельной газеты «Московские ведомости». В апреле 1905 года В. А. Грингмут создал первую «черносотенную» организацию, которая получила название «Русская монархическая партия» (Союз русского народа возник лишь в ноябре, а Русское собрание, сложившееся еще в 1900–1901 годах, было не партией, а своего рода кружком, «клубом»; тот же характер носил и созданный в марте 1905 года Союз русских людей). Впрочем, В. А. Грингмут, хотя он и основоположник «черносотенства» как собственно политического (а не только идеологического) явления, известен мало, и стоит сказать лишь о том, что он не имел никакого отношения к чему-либо «кровавому». Гораздо более популярны имена Пуришкевича, Маркова (нередко его именуют «Марков-второй», поскольку был другой депутат Думы с этой же фамилией) и Дубровина. Все они предстают в массовом сознании в качестве своего рода уникальных воплощений зла, лжи и безобразия. Но мы уже видели, как еще в 1975 году «принято» было «характеризовать» личность «черносотенца» В. В. Розанова. Разумеется, троица «черносотенных» лидеров никак не может быть поставлена рядом с гениальным мыслителем. Однако и превращение их в неких чудовищ не имеет под собой никаких реальных оснований. Пуришкевич, Марков и даже более «сомнительный» Дубровин по своим человеческим и политическим качествам ничем не хуже — хотя, быть может, и не лучше — лидеров других партий своего времени. Это становится очевидным при обращении к свидетельствам любого современника, способного хоть в какой-то мере быть объективным. Вот, скажем, мемуары французского посла Мориса Палеолога. Он внимательнейшим образом изучал политическую жизнь России накануне Февраля и при этом всецело сочувствовал, разумеется, либеральным, «западническим» деятелям. Но, поскольку сам он не вел той непримиримой борьбы с «черносотенцами», которая определяла сознание российских либералов, Палеолог смог оценить В. М. Пуришкевича в следующих словах: «Пуришкевич человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он с силой и талантом поддерживает тезис: «Царь — самодержец, посланный Богом»… пылкое сердце и скорая воля…»{4} И даже прямой противник Пуришкевича член ЦК кадетской партии В. А. Маклаков через много лет так определил его «основную черту: ею была не ненависть к конституции или Думе, а пламенный патриотизм»{5}. Ясно, что эти характеристики несовместимы с той зловещей и отвратной личиной, которую надевают до сих пор на Владимира Митрофановича Пуришкевича. С точки зрения политической культуры и Пуришкевич, и Марков — кстати сказать, сын по-настоящему значительного, но замалчиваемого из-за его последовательного консерватизма писателя и публициста Евгения Маркова (1835–1903), — в сущности, ничем не уступали ни Милюкову, ни тем более таким лицам, как Керенский или лидер эсеров Чернов. Ниже уровнем был третий лидер «черносотенцев» — врач А. И. Дубровин. «Говорил он некрасиво, — свидетельствовал современник, — но с огромным подъемом, что действовало на простых людей, из которых и состояло большинство членов Союза русского народа»{6}. Этот «демократизм» и выдвинул Дубровина в председатели Союза русского народа. Один из главных способов конструирования крайне негативного «образа» Дубровина и других «черносотенных» лидеров основан на беспардонном приеме двойного счета: то, что «прощается» левым (или даже вообще не замечается в них), вменяют в тяжелейшую вину правым. Вот весьма яркий образчик применения такого счета. Существует версия, согласно которой Дубровин был «вдохновителем» или даже прямым инициатором пяти совершенных в 1906–1908 годах террористических актов (против С. Ю. Витте, М. Я. Герценштейна, П. Н. Милюкова, Г. Б. Иоллоса и А. Л. Караваева). Его руководящая роль в этих актах не была неоспоримо доказана, но допустим даже, что Дубровин в самом деле направлял действия политических убийц. Исходя из этого (повторяю, не имеющего стопроцентной достоверности) факта известный специалист по истории Революции Л. М. Спирин писал в 1977 году: «Нравственные качества Дубровина были ниже всякой критики. Да можно ли вообще говорить о нравственных качествах человека, который организовывал политические убийства? Дубровин был темной и весьма зловещей фигурой на политической арене, порожденной «гнусной российской действительностью»…»{7} В этих риторических фразах историк продемонстрировал абсолютно неправдоподобную наивность: ведь не может же он, в самом деле, не знать, что левые, революционные партии осуществляли в те же годы поистине беспрецедентный по масштабам политический террор; специально изучавший этот «сюжет» историк С. А. Степанов сообщал в 1992 году, что, согласно всецело достоверным сведениям, «в ходе первой русской революции только эсеры, эсдеки (социал-демократы) и анархисты убили более 5 тысяч (!) правительственных служащих»{8}, а убивали тогда вовсе не только правительственных служащих. Для иных тогдашних партий — например, эсеров-максималистов — политические убийства вообще являлись главным или даже единственным «делом». Притом в данном случае факты совершенно бесспорны; чаще всего сами террористы горделиво сообщали о своих «достижениях» по части политических убийств. Между тем Л. М. Спирин, как и множество его коллег, делает вид, что политические убийства были именно и только «черносотенной» затеей… Стоит добавить еще, что все вообще действия «черносотенцев» представляли собой «ответ» на совершенные ранее акции левых партий — притом ответ гораздо, даже несоизмеримо менее сильный (скажем, всего несколько террористических актов, в то время как левые совершали их тысячами). И уж, конечно, в среде «черносотенцев» не только не имелись, но и были просто немыслимы такие фигуры беспощадных профессиональных убийц, как эсер Савинков (которого до сих пор представляют в романтическом ореоле!), не говоря уже о его многолетнем друге, патологическом убийце-провокаторе Азефе (Азеве). В 1909 году, когда первая революционная волна уже улеглась, видный левый кадет (и не менее видный деятель российского масонства) В. П. Обнинский подвел итог предшествующим событиям в обширном сочинении «Новый строй». Он не мог не признать здесь, что «черносотенные» партии образовались исключительно ради сопротивления красносотенным и предстали как (по его определению) «заимствовавшие у последних большую часть тактических приемов»{9}. Кадет этот в своем рассказе вынужден был так или иначе отмежеваться от левых партий, погрязших в своем безудержном терроре и постоянном провоцировании всяческих бунтов и беспорядков. В. П. Обнинский осмелился даже сказать о «легендарном» предводителе восстания на Черноморском флоте в 1905 году лейтенанте Шмидте следующее: «…это был человек с весьма поколебленной психикой, если не душевнобольной… В любой момент он готов был выступить в качестве главаря военного бунта» (с. 83). Тем не менее из Шмидта все же сделали чуть ли ни «спасителя» России, и сбитый с толку Борис Пастернак сочинил о нем восторженную поэму… Впрочем, здесь перед нами встает еще один вопрос: что ж, левые партии в самом деле вели себя гораздо хуже «черносотенных», но зато этого не скажешь о центристских партиях — о кадетах и октябристах (вот ведь даже и Шмидтом кадет — к тому же левый — отнюдь не восхищается)? Кадеты и октябристы в самом деле не причастны прямо и непосредственно к тому жесточайшему кровавому террору, который обрушили на Россию «леваки». Но, как мы увидим, они в 1905–1908 годах всячески поддерживали левых террористов, и не случайно возник тогда афоризм, согласно которому эсеры — это те же кадеты, но с бомбой… Сейчас у нас не принято восхвалять эсеров, но зато начал создаваться своего рода культ кадетов. Между тем политическое поведение последних в известном смысле было даже более безнравственным, нежели левых… В высшей степени показателен в этом отношении эпизод из написанных много лет спустя «Воспоминаний» лидера кадетов П. Н. Милюкова. Он рассказывает о том, как в марте 1907 года Председатель Совета министров П. А. Столыпин предложил Государственной думе: «Выразите глубокое порицание и негодование всем революционным убийствам и насилиям. Тогда вы снимете с Государственной Думы обвинение в том, что она покровительствует революционному террору, поощряет бомбометателей и старается им предоставить возможно большую безнаказанность». «Черносотенные» депутаты (коих пытались объявить пособниками террора) тут же, по словам Милюкова, «внесли предложение об осуждении политических убийств», заметив при этом: «Ведь очевидно же, что к.-д. (кадеты. — В.К.) не могут одобрять убийств». Столыпин в «доверительной беседе» сказал Милюкову то же самое. Но… «я стал объяснять, — вспоминает далее Милюков, — что не могу распоряжаться партией… Столыпин тогда поставил вопрос иначе, обратившись ко мне уже не как к предполагаемому руководителю Думы, а как к автору политических статей в органе партии — «Речи». «Напишите статью, осуждающую убийства; я удовлетворюсь этим». Должен признать, что тут я поколебался… Я сказал тогда, что должен поделиться с руководящими членами партии… Прямо от Столыпина я поехал к Петрункевичу. Выслушав мой рассказ, старый наш вождь… страшно взволновался: «Никоим образом! Как вы могли пойти на эту уступку хотя бы условно?… Нет, никогда! Лучше жертва партией, чем ее моральная гибель…» (Под жертвой имеется в виду возможный запрет кадетской партии за ее фактическую поддержку терроризма; кстати, запрет этот, без сомнения, Столыпин вовсе не планировал.) И Милюков наотрез отказался осудить бесчисленные убийства и насилия красносотенцев, хотя в то же самое время он не жалел проклятий в адрес «черносотенных» террористов (которым приписывали тогда всего лишь два убийства). Как мы видим, в этих позднейших «Воспоминаниях» Милюков в известной мере пытается снять с себя сей «грех», перенося его на непримиримого кадетского старейшину И. И. Петрункевича, который усматривал в предложенном Столыпиным осуждении повседневного кровавого террора красносотенцев ни много ни мало «моральную гибель» для партии кадетов… Поистине замечательно выразившееся здесь представление о «морали»! Кадеты впоследствии проклинали за аморальность большевиков, но, как выясняется, они были едины с ними в своей уверенности, что все совершаемое против существующей власти в конечном счете всецело «морально» (выше приводились могущие показаться парадоксальными слова С. Н. Булгакова о внутреннем «единстве» кадетов и большевиков). Но напрасно Милюков тщился задним числом свалить «вину» на Петрункевича; мы еще убедимся в полнейшей безнравственности важнейших политических акций самого Милюкова. Теперь же следует вдуматься в дальнейший ход рассказа из мемуаров Милюкова. Вспоминая серию своих тогдашних статей, Милюков несколько неуклюже писал: «Читатель может прочесть, с какой настойчивостью я продолжал аргументировать точку зрения на невозможность для партии сделать необходимый для Столыпина жест (то есть осудить левый террор; дело шло, конечно же, не о некоем личном желании Столыпина, а о судьбах России… — В.К.)… И я с особым усердием принялся обличать «заговорщиков справа», то есть «черносотенцев». И далее Милюков вспоминает, что тогда же, весной 1907 года, возмущенные таким — надо прямо сказать, наглым — двойным счетом «правые террористы обратили на меня свое специальное внимание… нагнал меня на Литейном проспекте молодой парень и нанес мне сзади два сильных удара по шее, сбив с меня котелок и разбив пенсне. Я спокойно наклонился, чтобы поднять то и другое… к вечеру того же дня мне сообщили, что покусившийся был нанят доктором Дубровиным с поручением нанести удар, после которого я не встану». Затем Милюков сообщает еще следующее: «…ко мне явились несколько агентов, посланных правительством для охраны моей личности»{10}. Все это в высшей степени многозначительно. Во-первых, оказывается, что правительство, несмотря на возмутительное поведение Милюкова, не желающего хотя бы на словах осудить массовый террор левых, самым благородным образом дает ему охрану от правого террора. С другой стороны, сам этот террор («два удара по шее») предстает как в общем-то не очень уж жестокое наказание за двойную милюковскую мораль (проклятия по поводу трех-четырех акций правых и полное молчание о массовом терроре левых); предположение Милюкова, согласно которому «парень», подосланный, по слухам, Дубровиным, плохо выполнил поставленную перед ним задачу, — это всего лишь предположение, и, кстати сказать, левые-то террористы всегда располагали превосходным оружием и мощными взрывными устройствами. Впрочем, к судьбе и роли Милюкова и его сотоварищей в Революции мы еще вернемся. Пока же продолжим разговор о соотношении обликов либеральных и «черносотенных» лидеров. Последние изображаются как прямо-таки непристойные типы, беспардонные хамы и хулиганы, решительно отличающиеся от сугубо «добропорядочных» либеральных вожаков. Особенно это касается наиболее известных «черносотенных» депутатов Государственной думы — Н. Е. Маркова и В. М. Пуришкевича. Оба они явно были очень, даже слишком экспансивными людьми, но что касается «хамства» в собственном смысле слова, оно характерно для большинства тогдашних активных депутатов Думы, принадлежавших к самым разным фракциям. Это объяснялось, в частности, тем, что парламентаризм представлял тогда явление совершенно для России новое и его «цивилизованные» формы далеко еще не отшлифовались. Приведу характерный пример из исследования уже упоминавшегося современного историка А. Я. Авреха «Царизм и IV Дума» (М., 1981). Историк этот крайне непримиримо относился к «черносотенцам», но тем не менее не стал в данном случае игнорировать факты. Он рассказывает, в частности, как 13 мая 1914 года один из депутатов «октябрист (а не «черносотенец». — В.К.) Н. П. Шубинский совершенно сознательно и хладнокровно спровоцировал крупный скандал. В свое время газета «Земщина» («черносотенная». — В.К.) выступила со статьей, в которой доказывала, что «Речь» (кадетская, под редакцией П. Н. Милюкова. — В.К.) получает огромные суммы из Финляндии, которые идут на содержание кадетской партии (ибо она поддерживала стремление Финляндии получить независимость. — В.К.)… За несколько дней до выступления Шубинского состоялся судебный процесс, который… окончился полным оправданием «Земщины» (то есть было установлено, что финны действительно финансируют кадетов, а это являло собой заведомо безобразный факт. — В.К.). Этим фактом и воспользовался Шубинский. Взяв под защиту одну из самых гнусных черносотенных организаций — киевский «Двуглавый Орел», — продолжает свой (весьма, как видим, эмоциональный) рассказ А. Я. Аврех, — он (Шубинский. — В.К.) выразил притворное удивление по поводу якобы совершенно несправедливой критики в его адрес: «Вот если бы обнаружили, что у «Двуглавого Орла» есть своя контора, что в этой конторе есть конторщик… на имя которого пачками переводятся откуда-нибудь громадные суммы…» Намек был достаточно прозрачен (правые встретили его аплодисментами и криками «браво!»); оратора прервал Милюков, закричавший: «Мерзавец!» В ответ Пуришкевич завопил (а не «закричал», как Милюков; это уже тенденциозность Авреха. — В.К.), что Милюков — «…скотина, сволочь, битая по морде» (речь шла об описанных выше «ударах по шее» на Литейном проспекте, которые, следовательно, предстают не как попытка убийства, а именно как наказание Милюкова за двурушническую политику. — В.К.). Шубинский, в свою очередь, отпарировал: «Плюю на мерзавца». Дальше последовала реплика Керенского в адрес того же Шубинского: «Наглый лгун», возглас Милюкова: «Негодяй!», реплика Пуришкевича: «Шубинский, браво!» Председательствовавший А. И. Коновалов предложил всех четырех за употребление непарламентских выражений исключить на одно заседание… Милюков, Керенский и Пуришкевич были исключены, а исключение Шубинского отклонено… Против предложения председательствующего демонстративно проголосовала часть октябристов» (с. 136). Ведь вначале Шубинский только сообщил факты, за что был обруган и уж тогда ответил тем же… Итак, и кадет (к тому же именно он начал «непарламентский» обмен любезностями), и «черносотенец», и октябрист, и трудовик (Керенский) вполне стоят друг друга. Когда говорят о «хулиганстве» думских «черносотенцев», очередной раз применяют прием двойного счета: что позволено Милюковым, то, мол, не позволено Пуришкевичам. Между прочим, точно такая же фальсификация была присуща в 1992–1993 годах «освещению» работы Верховного Совета и Съезда депутатов в проправительственных средствах массовой информации. Так, например, постоянно воспроизводилась на телеэкране сцена драки перед столом президиума на одном из съездов — сцена, призванная показать «уровень» депутатского корпуса. И только немногие внимательные телезрители отдавали себе отчет в том, что драчун-то был один (другие депутаты только отгораживались ладонями от его натиска) — и был это самый что ни на есть «радикальный демократ» тов. Шабад. А между тем сию сцену сумели интерпретировать как разоблачение прискорбных качеств «консервативного» большинства депутатского корпуса (впрочем, о соотношении парламента и правительства до Революции и сегодня мы еще будем говорить). Милюков и либералы вообще трактуются как лица, свысока презиравшие «черносотенцев», прямо-таки страдавшие от необходимости находиться с ними в одном зале заседаний и т. п. В действительности это «презрение» было только политической позой, которая свободно заменялась иной, когда такая замена оказывалась выгодной. Так, в другом исследовании того же А. Я. Авреха, «Распад третьеиюньской системы» (М., 1985), показано, что всего лишь через десяток недель после только что описанного громкого скандала, 26 июля 1914 года, — в условиях начала войны — Милюков и Пуришкевич, эти (цитирую Авреха) «недавние непримиримые враги церемонно представились друг другу и обменялись рукопожатиями. «Знакомство» состоялось. Оно оказалось весьма символичным: вся последующая деятельность кадетов прошла под знаком этого рукопожатия» (с. 11). В отличие от А. Я. Авреха, я считаю правильным «перевернуть» последнюю формулировку и сказать: вся последующая деятельность Пуришкевича «прошла под знаком» этого рукопожатия, и в конечном счете Пуришкевич оказался пособником Милюкова (смысл этого утверждения прояснится ниже). Стоит коснуться еще одного сюжета. Обосновывая резко негативную оценку «черносотенных» лидеров, весьма часто напоминают о том, что они и сами были склонны крайне критически отзываться друг о друге; это преподносится как своего рода неопровержимое доказательство их несостоятельности. Однако в сфере политики — во всяком случае, российской политики — подобное «взаимопоедание» близких, казалось бы, друг другу людей выступает как типичнейшее явление. Лидер будто бы вполне благопристойных октябристов А. И. Гучков считал, например, допустимым заявлять, что «в Союзе 17 октября (то есть в возглавляемой им партии. — В.К.) девять десятых — сволочь, ничего общего с целью Союза не имеющая»{11}. * * *Но обратимся непосредственно к проблеме «черносотенного» террора. Совсем недавно вышло в свет, по сути дела, первое по времени исследование о «черносотенцах»; публиковавшиеся ранее книги и статьи были только пропагандистскими «разоблачениями», а не плодами действительного изучения предмета. Речь идет об уже упоминавшейся книге С. А. Степанова «Черная сотня в России (1905–1914)», изданной в Москве в 1992 году (ранее, в 1981 году, в Якутске вышла его книга «Банкротство аграрной программы черносотенных союзов»). Сочинение С. А. Степанова отнюдь не свободно от заведомой тенденциозности, от набивших оскомину штампов и заклинаний; начав работу над своей темой еще в 1970-х годах, историк и позднее не смог преодолеть давно сложившиеся стереотипы. Но так или иначе С. А. Степанов все же изучает факты и стремится сделать выводы именно из фактов, а не из предвзятых — нередко чисто клеветнических — «мнений». С. А. Степанов, в частности, самым тщательным образом исследовал печатные и особенно архивные материалы, касающиеся террористической деятельности «черносотенцев»; этому посвящен целый раздел его книги, который так и озаглавлен — «Черный террор». И выясняется, что, во-первых, террористические акты начались только летом 1906 года, когда на счету красносотенных террористов имелось уже великое множество политических убийств; далее, «черносотенцам» вменяли в вину всего лишь три убийства и одно неудавшееся покушение на убийство; что, наконец, даже эти четыре террористических акта не вполне ясны и оставляют по меньшей мере странное впечатление. Нелишне будет отметить, что повторяемые в различных изданиях утверждения, согласно которым большевики Ф. А. Афанасьев и Н. Э. Бауман были будто бы убиты «черносотенцами», имеют, так сказать, метафорическое значение, ведь оба эти убийства произошли во время стихийных массовых беспорядков в октябре 1905 года, а первая имевшая отношение к террору «черносотенная» организация — Союз русского народа — только начала формироваться в ноябре. И поэтому говорить о действительном «черносотенном» терроре уместно лишь применительно к 1906-му и последующим годам. Характерно, что стремящийся к объективности С. А. Степанов упоминает о гибели Баумана и Афанасьева не в главе «Черный террор», а в рассказе о «неорганизованных» столкновениях взбудораженных царским Манифестом 17 октября 1905 года человеческих толп. Когда же начался реальный «черный террор»? 18 июля 1906 года в Териоках под Петербургом был двумя выстрелами из револьвера убит кадетский депутат Думы М. Я. Герценштейн. Весьма осведомленный лидер партии националистов (которая, будучи близка к «черносотенцам», все же не разделяла ряд важнейших их устремлений) В. В. Шульгин убедительно объяснил впоследствии причину особой ненависти правых к Герценштейну: «Говоря об аграрном вопросе в 1-й Государственной Думе… Герценштейн произнес неосторожное слово, которое ему стоило жизни… В то время «освободителям» удалось поднять в некоторых губерниях волну так называемых аграрных беспорядков, то есть попросту волну погромов (выделено мною. — В.К.) помещичьих усадеб. Погромы эти иногда сопровождались насилиями и убийствами, но еще чаще заканчивались поджогами… пылали эти «дворянские гнезда», из которых вылупилась вся культура России. «Освободители» 1905 года очень хорошо понимали, что… поместное землевладение… составляет один из оплотов Исторической России… Вот такие сцены Герценштейн назвал в своей речи «иллюминациями». Слово это болезненно прокатилось по всей России… многие прекрасно поняли: то, что для одних тяжкая трагедия… то другим (то есть «освободителям») доставляет явную или плохо скрываемую радость. В результате Герценштейн был убит кем-то из-за угла. Кем — не удалось установить (выделено мною. — В.К.), но в причине, толкнувшей убийцу на месть, не приходится сомневаться»{12}. С. А. Степанов в своей книге подтверждает, что (цитирую) «осталось неизвестным, кто конкретно дал приказ убрать депутата, который был главным экспертом кадетской партии по аграрному вопросу» (с. 153) хорош, кстати сказать, этот эксперт, по существу «одобривший» варварское уничтожение культурных хозяйств России!). Начальник Петербургского охранного отделения в 1906–1908 годах полковник А. В. Герасимов в своих написанных в эмиграции воспоминаниях{13} утверждал, что убийство М. Я. Герценштейна было организовано не Союзом русского народа — хотя его члены, возможно, и принимали какое-то участие в этой акции, — но ни много ни мало тогдашним петербургским градоначальником В. М. фон дер Лауницем, который ранее, до начала 1906 года, был тамбовским губернатором и прямо и непосредственно столкнулся с крайне разрушительными «аграрными беспорядками» — этими самыми герценштейновскими «иллюминациями». И не исключено, что именно он «мстил» депутату. Революционеры, в свою очередь, вскоре отомстили Лауницу: 3 января 1907 года он был убит террористической группой Зильберберга. Словом, история убийства Герценштейна не очень уж ясна. Более четко и подробно известны две другие террористические акции, связанные с «черносотенцами». Через полгода после убийства Герценштейна, 29 января 1907 года, принадлежавший к Союзу русского народа рабочий-кузнец А. Е. Казанцев организует закладку двух бомб (которые, впрочем, были тут же обнаружены истопником) в дымоход квартиры бывшего премьера С. Ю. Витте, считавшегося либералом. А 14 марта Казанцев руководит убийством (четырьмя выстрелами из револьвера) недавнего кадетского депутата Думы, редактора либеральной газеты «Русские ведомости» Г. Б. Иоллоса. Но вот что поистине удивительно: осуществляют обе эти акции под руководством «черносотенца» Казанцева трое рабочих-революционеров, один из которых, С. С. Петров, ранее побывал даже членом Петербургского Совета рабочих депутатов! Выдав себя за эсера-максималиста, Казанцев убедил этих людей, что Витте — опасный враг революции, а Иоллос — презренный изменник. Революционные рабочие поверили ему и выполнили его «заказы», но вскоре, в мае 1907 года, узнав об обмане, закололи кинжалом уже самого Казанцева… Но почему же Казанцев воспользовался — заведомо рискуя жизнью! — услугами революционных, а не «черносотенных» террористов? С. А. Степанов в своей книге высказывает предположение, что это было-де реализацией «хитроумного плана», что «черносотенцы», мол, «пытались одним выстрелом убить двух зайцев», то есть уничтожить своих врагов и вместе с тем «спровоцировать полицейские репрессии» против революционеров (с. 155). Однако это явно и абсолютно несостоятельное предположение, ибо, конечно же, никто не поверил бы, что убийство того же Иоллоса предпринято революционерами… Действительную разгадку этой истории дает, между прочим, сам С. А. Степанов, но в другом месте своей книги, где он сообщает, что «черносотенец» А. Александров «вербовал боевиков среди бывших эсеров и социал-демократов», так как «по личному опыту убедился, что из них выходят лучшие работники» (с. 144; приведены слова самого Александрова). И в самом деле: Казанцеву крайне трудно было бы подобрать «надежных» убийц из своей среды, ибо «черносотенцы» — особенно принадлежавшие к «простому народу» — в большинстве своем были люди прежде всего богобоязненные, сохранившие традиционные нравственные устои, и могли в любой момент отказаться от совершения убийства безоружного человека. Конечно, как говорится, в семье не без урода, но тем не менее тот «революционный» культ убийств, который определял сознание эсеров, анархистов и т. п., был совершенно не характерен для «черносотенцев». Вот многозначительная сцена столкновения «черносотенцев» с красносотенцем: «…в Иваново-Вознесенске черносотенцы потребовали у большевика В. Е. Морозова снять шапку перед царским портретом (что было общепринятым тогда обычаем. — В.К.). В ответ В. Е. Морозов назвал царя сволочью, прострелил портрет и убил двух портретоносцев и сам был избит до полусмерти (вот именно «полу»! — В.К.). Феноменальная физическая сила позволила В. Е. Морозову выжить, но с больничной койки он отправился прямо на десятилетнюю каторгу» (с. 58). Это свидетельство товарища Морозова по партии, И. Косарева, прямо-таки бесподобно: нам предлагают всей душой возмутиться столь жестоким и несправедливым приговором — за всего только двух убитых людей целых десять лет каторги!.. А ведь «черносотенцы», оказывается, даже не смогли убить наглейшего убийцу, который стал стрелять в ответ на предложение снять шапку… Но завершим тему «черного террора». Кроме убийства Герценштейна (в 1906 году) и Иоллоса (в 1907 году), «черносотенцы», как полагают, убили еще бывшего депутата Думы трудовика А. Л. Караваева (в 1908 году), но, заключает в своей книге С. А. Степанов, «от длинного списка (что это был за «список», он не объясняет. — В.К.) намеченных террористических актов пришлось отказаться» (с. 158). Итак, красносотенцы и не думали отказываться от тысяч «намеченных» убийств, а «черносотенцам» пришлось остановиться на третьем по счету… Это можно понять только в том смысле, что «черносотенцы» ни в коей мере не были «готовы» к «кровавой бане», никак не «могли бы» (см. выше) «утопить в крови всю Россию» — в отличие или, вернее, в противоположность красносотенцам. Однако совершенно мизерный в сравнении с красносотенным, являющийся лишь ничтожным ответом на него, «черный террор» 1906–1907 годов был раздут либеральными и левыми кругами до гигантских масштабов, о чем писал, в частности, В. В. Шульгин, констатируя, что о двух убитых евреях — Герценштейне и Иоллосе — «российская печать кричала куда больше, чем о сотнях и тысячах в эту же эпоху убитых русских»{14}. Выразительна сцена на заседании Государственной думы в 1907 году: «Взошедший на трибуну Пуришкевич взволнованно сообщил: «Я получил телеграмму из Златоуста о том, что там убит председатель Союза русского народа… (Смех слева.) К каким бы партиям мы ни принадлежали, Государственная Дума, как высшее законодательное учреждение, не смеет откладывать рассмотрение подобного рода вопросов». (Шум.) Председатель (кадет Ф. А. Головин. — В.К.): «Я призываю вас к порядку». Пуришкевич: «Я призываю к порядку Думу»{15}. Сцена говорит сама за себя; особенно характерно, что даже и обязанный соблюдать объективность председатель Думы призывает к порядку не смеющихся по поводу очередного убийства, а депутата, поднявшего голос против непрерывных революционных убийств. Совсем по-иному вела себя Дума, когда речь заходила о двух-трех убийствах либеральных деятелей… Под редакцией В. М. Пуришкевича издавалась задуманная в виде целого ряда томов «Книга русской скорби» — собрание некрологов об убитых левыми террористами людях. Но и эту книгу либеральное большинство встретило смехом или в «лучшем» случае — равнодушием… Впрочем, наверняка найдутся читатели, спешащие напомнить мне о погромах тех лет, которые — хотя они не были террором в прямом, собственном смысле слова — приводили к многочисленным жертвам. А погромы, как это «общеизвестно», организовывали «черносотенные» партии… Вопрос о погромах достаточно сложен, запутан и требует подробного обсуждения, к которому мы еще специально обратимся. Теперь же следует подвести итоги разговора об «облике» главных партий эпохи Революции. Уже не раз шла речь о необоснованном, хотя и общепринятом, противопоставлении «черносотенных» лидеров, превращенных в неких чудовищ, и благопристойных кадетских и октябристских лидеров. Так, в последнее время в ряде сочинений нарисован очень симпатичный образ лидера октябристов А. И. Гучкова (1862–1936); по этому пути пошел даже серьезнейший историк Революции — В. И. Старцев. В предисловии к книге «Александр Иванович Гучков рассказывает…» (М., 1993) он, в частности, не без восхищения очерчивает вехи романтически-авантюрной биографии Гучкова: «Еще совсем молодым человеком он совершил рискованное путешествие в Тибет, посетил далай-ламу. Служил в Забайкалье, в пограничной страже, дрался на дуэли. Во время англо-бурской войны мы видим Гучкова на юге Африки, где он сражается на стороне буров, побывал в плену у англичан. В 1903 году — Гучков в Македонии, где вспыхнуло восстание против турок. Во время русско-японской войны он снаряжает санитарный поезд и отправляется на Дальний Восток в качестве уполномоченного Красного Креста, попадает в плен к японцам…» (с. 4). Далее говорится о Гучкове как о «пламенном патриоте» (впрочем, кадет В. А. Маклаков, как мы видели, определил этими словами не Гучкова, а Пуришкевича). Безусловно, все это не могло не вызывать у русских людей глубокой симпатии к личности Александра Ивановича. И, опираясь на сию симпатию, Гучков завоевал себе роль одного из ведущих политических деятелей страны и, в частности, репутацию высшего авторитета в военных делах; после Февраля он вполне закономерно стал военным министром. Впрочем, борьбу за этот пост он начал намного раньше и не нашел лучшего способа свержения военного министра (с 1909 по 1915 год) В. А. Сухомлинова как объявить его германским шпионом (или хотя бы прямым пособником шпионов). После долгих усилий Гучкову и его сподвижникам удалось это сделать, и Сухомлинов в марте 1916 года оказался в заключении. После шести месяцев безуспешного следствия его отправили под домашний арест, но при Временном правительстве он был осужден на пожизненную каторгу. Только в 1960-х годах историки доказали полнейшую безосновательность гучковских обвинений в адрес Сухомлинова. Важно осознать, что позднейшие события как бы затмили неслыханную дикость разыгранного Гучковым «шпионского» фарса. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Эдвард Грей, узнав об аресте Сухомлинова, с возмущенной иронией заявил посетившим Лондон либеральным депутатам Думы: «Ну и храброе у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра…»{16} В действительности правительство было вынуждено подчиниться мощному давлению со стороны Гучкова и его сторонников. А «храбрость» на самом деле представляла собой вопиющую политическую безответственность. Не исключено, что сам Гучков был уверен в измене министра; однако объявлять об этом (не имея неоспоримых доказательств) во время войны мог именно и только совершенно безответственный политик. Но обвинение Сухомлинова в измене было, увы, только началом. 1 ноября 1916 года Милюков, идя по стопам Гучкова, произнес в Думе знаменитую речь, обвиняющую в измене уже и председателя Совета министров, и даже саму императрицу… Опираясь на заведомо негодные «свидетельства» (прежде всего германскую прессу, которая, конечно же, не стала бы разоблачать своих столь высокопоставленных шпионов, если бы они действительно имелись), Милюков рассуждал о различных «действиях правительства» и, как он сам позднее вспоминал (цитирую), «в каждом случае предоставлял слушателям решить, «глупость» это «или измена». Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование — даже там, где сам я не был в нем вполне уверен. Эти места моей речи особенно запомнились и широко распространялись… Осторожно, но достаточно ясно поддержал меня В. А. Маклаков. Наши речи были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены… и разлетелись по всей стране. За моей речью утвердилась репутация штурмового сигнала революции. Я этого не хотел…» (выделено мною. — В.К.)»{17}. Это, в сущности, всецело подлое рассуждение, ибо ведь не настолько же глуп был Милюков, дабы не понимать, что речь его совершенно неизбежно будет воспринята в тогдашних условиях именно и только как обвинение высшей власти в тягчайшем из всех возможных преступлений… И с нераскаянностью подлеца он спокойно, как бы между прочим, сообщает, что совершенно сознательно «предоставлял» слушателям (и, далее, читателям) решать, не «измена» ли это, — даже по поводу таких «действий», в изменнической сущности сам он, видите ли, «не был вполне уверен». Совершенно ясно, что в глазах Милюкова любые средства были хороши для осуществления его заветной цели: уничтожить в России историческую власть и сесть самому на ее место. Для окончательного подтверждения истинности приговора, выносимого Милюкову, следует сказать еще о том, что всего через полтора года после своей речи об измене, о сговоре власти с Германией сам Милюков призвал германскую армию оккупировать Россию!.. В мае 1918 года, находясь в занятом германской армией Киеве, Милюков (это показала, в частности, современный историк Н. Г. Думова) принял решение «убедить немцев занять Москву и Петербург», ибо для них «выгоднее иметь в тылу не большевиков… а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию». К чести большинства членов ЦК кадетской партии, они категорически отвергли сей милюковский план возвращения кадетов к власти. Член кадетского ЦК князь В. А. Оболенский заявил Милюкову: «Неужели вы думаете, что можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков? Народ вам этого не простит…» Лидер кадетов холодно пожал плечами. «Народ? — переспросил он. — Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться». Другой — весьма, кстати, левый — кадетский лидер, юрист М. Л. Мандельштам, совершенно точно сформулировал правовую оценку поведения Милюкова: «Призыв врагов на территорию отечества есть преступление, которое карается смертной казнью». Итак, Милюков, нагло приписывавший измену родине высшим носителям российской исторической власти, сам, как оказывается, осуществлял реальную, действительную измену. В июне 1918 года он вступил в прямой контакт с начальником немецкой контрразведки Гаазе; своего рода жестокая ирония судьбы состояла в том, что под именем Гаазе фигурировал великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский и Рейнский — старший брат российской императрицы Александры Федоровны, — той самой, которую Милюков всего полтора года назад обвинял в изменнической деятельности в пользу Германии…{18} Преступные махинации Милюкова, слава Богу, в конце концов вызвали решительный протест кадетской партии, и он вынужден был уйти (фактически был изгнан) с поста председателя ее ЦК, который занимал в течение более десяти лет. Нельзя не сказать еще и о том, что гучковско-милюковское обвинение высшей власти в измене и шпионаже не только явилось пусковым механизмом Февральской революции, но и имело далеко идущие тяжкие последствия. Это обвинение было вполне доступно сознанию любого солдата, рабочего и крестьянина и, овладевая этим сознанием, обретало поистине страшную разрушительную силу. «Оружие», сконструированное Гучковым и Милюковым, было затем, в октябре 1917 года, успешно использовано большевиками, обвинившими Керенского в намерении сдать Петроград германской армии. Обвинение опять-таки являлось абсолютно безосновательным, — и даже не потому, что Керенский не был способен на предательство, а потому, что он (как это давно выяснено) был фатально связан политической — в частности, масонской — клятвой с врагами Германии и, даже ясно сознавая гибельность продолжения войны для своей собственной власти, все же никак не мог прекратить войну. Тем не менее именно обвинение в «измене» сыграло решающую роль в том, что, по сути дела, никто не стал защищать Временное правительство в момент большевистского переворота. В. И. Ленин с середины сентября 1917 года начал постоянно пропагандировать это обвинение и с особенной радостью сообщал 7 октября (то есть за две с половиной недели до большевистского переворота) делегатам Петроградской городской конференции большевиков, что «среди солдат зреет убеждение в заговоре Керенского»{19}. К 25 октября это «убеждение» вполне «созрело» (конечно, под воздействием неослабевавшей пропаганды), и у Временного правительства не оказалось никаких защитников. То есть целиком повторилась ситуация Февраля — когда также не было сколько-нибудь серьезного сопротивления силам, свергавшим историческую власть, объявленную Милюковым и компанией пособницей Германии… Много позднее А. Ф. Керенский с вполне оправданной обидой писал в своей книге «Россия на историческом повороте» об атмосфере накануне 25 октября 1917 года: «Играя на подлинно патриотических чувствах народа, Ленин, Троцкий и им подобные цинично утверждали, что «прокапиталистическое» (в действительности почти все окружение Керенского к октябрю составляли социалисты. — В.К.) Временное правительство во главе с Керенским готово продать родину…»{20} Необходимо добавить к этому, что «атмосфера», созданная в стране в 1915–1917 годах широкомасштабной кампанией по разоблачению изменников и шпионов в высших эшелонах власти, не могла рассеяться сколько-нибудь быстро (во всяком случае, при жизни тогдашних поколений людей). И когда нынешние крикуны обвиняют «народ» в том, что он в 1937–1938 годах со странной легкостью верил любым судебным процессам над высокопоставленными «изменниками» и «шпионами», необходимо вспомнить о первосоздателях такой общественной атмосферы — Гучкове и Милюкове со товарищи. Ясно, что судьба того же генерала от кавалерии Сухомлинова через двадцать лет повторилась в судьбах маршалов Блюхера, Егорова, Тухачевского… Наконец, еще одна очень — или, пожалуй, самая — существенная сторона дела. Гучков и Милюков, добиваясь своих целей, проявили крайнюю, в сущности смехотворную, недальновидность. Им казалось, что, полностью дискредитировав верховную власть, они наконец займут ее место и станут более или менее «спокойно» управлять Россией, ведя ее к победам и благоденствию. Между тем предпринятая ими кампания привела к дискредитации власти вообще (и из их собственных рук власть выпала через всего лишь два месяца). Россия погрузилась в хаос полнейшего безвластия до тех пор, пока большевики посредством жесточайшей диктатуры не восстановили государство, — и это был, без сомнения, единственно возможный выход из создавшегося положения… Милюковская речь 1 ноября 1916 года, казалось бы, явилась настоящим его торжеством: уже 10 ноября был отправлен в отставку председатель Совета министров. И на следующем заседании Думы, 19 ноября, Милюков потребовал полного устранения существующей власти, уверяя своих единомышленников: «Гг., после 1 ноября (то есть после его великой речи! — В.К.) страна вас вновь нашла и готова признать в вас своих вождей, за которыми она пойдет…» Если бы пришло к власти «то правительство, которого мы желаем, мы совершили бы чудеса»{21}. Какие «чудеса» совершили после Февраля Милюков со товарищи, хорошо известно… Стоит привести здесь по-своему замечательное позднейшее высказывание генерала Сухомлинова. Временное правительство за отпущенный ему срок не успело загнать его в «каторжные норы»; после некоторых мытарств он в октябре 1918 года эмигрировал и в 1924 году издал в Берлине книгу «Воспоминания», которая заканчивалась так: «Залог для будущей России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом (то есть идеалом коммунистическим. — В.К.) правительство… Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский, Добровольский, свои силы отдали новому правительству в Москве»{22}. Сухомлинов здесь был совершенно искренен и исходил из вполне понятного чувства, которое можно было бы выразить так: «Слава Богу, что во главе России эти самые большевики, а не Гучков с Милюковым и Керенским!» Но, говоря о роковой разрушительной роли Милюкова, Гучкова и им подобных, нельзя умолчать и о том, что часть «черносотенцев» и близких к ним «националистов» приняла прямое участие в разоблачении мнимого предательства российской власти. То «рукопожатие», которым Пуришкевич обменялся с Милюковым в 1914 году, воистину оказалось символическим; вскоре после подрывной милюковской речи на заседании Думы прозвучало, в сущности, мощно подкрепившее ее выступление Пуришкевича (19 ноября, перед только что цитированным выступлением Милюкова о «чудесах»). Объявив «я самый правый!», Пуришкевич определил смысл своей разоблачительной речи так: «Бывают, однако, моменты, гг., когда должно быть приносимо в жертву всё». Именно так: «всё». И он нанес прямо-таки сокрушительный удар по верховной власти, утверждая (с опорой на различные мнимые «факты»), что «дезорганизация», охватившая Россию, «составляет несомненную систему… Эта система создана Вильгельмом и изумительно проводится при помощи немецкого правительства, работающего в тылу у нас…» Современный историк констатирует, что эта «самая знаменитая речь Пуришкевича была построена на непроверенных слухах и подтасованных фактах. Он не мог привести никаких доказательств связи высших правительственных лиц с Германией. Выступивший через три дня Н. Е. Марков документально опроверг обвинения… Однако в разгаре политической борьбы никто не хотел устанавливать истины. Марков был лишен слова…» Само же упомянутое выступление Пуришкевича 19 ноября «вызвало шквал аплодисментов, впервые ему рукоплескали либералы и левые. Крики «браво!» не смолкали несколько минут. Подобного выражения энтузиазма IV Государственная дума еще не знала»{23}. Один из наиболее почитаемых либеральных деятелей философ Е. Н. Трубецкой писал тогда о пуришкевичской речи: «Впечатление было очень сильное… За это Пуришкевичу можно простить очень многое. Я подошел пожать ему руку»{24}. Пуришкевича за его роль в подрыве власти простили не только либералы, но даже и — позднее — большевики. Сразу после Октябрьского переворота он попытался создать антибольшевистскую подпольную организацию, был арестован ВЧК, судим ревтрибуналом и приговорен… к «общественнополезным работам». А всего через несколько месяцев, 1 мая 1918 года, Пуришкевич был амнистирован и без помех уехал в Киев, а затем в Добровольческую армию (где, впрочем, не играл сколько-нибудь существенной роли). Между тем почти все другие главные деятели «черносотенных» партий были в 1918–1919 годах расстреляны без суда. Как же все это понять? Речь Пуришкевича показала, что он (подобно большинству его противников) в ответственнейший момент выступил, в сущности, не как политик, а как политикан: характернейшая черта политиканства (в отличие от реальной политической деятельности) состоит в сосредоточении на сегодняшних, даже сиюминутных целях и интересах, без ответственного понимания и предвидения последствий того или иного действия. Фактически присоединившись к либералу Милюкову, Пуришкевич окончательно дискредитировал российскую власть, которую он вроде бы всеми силами стремился отстаивать… Естественно, его речь вызвала настоящий восторг в антиправительственных кругах. И едва ли будет ошибкой утверждение, что именно политиканство во многом и отвращало выдающихся деятелей культуры от «черносотенных» лидеров и возглавляемых ими организаций (хотя, конечно, немалую роль играла здесь и клеветническая кампания против них в либеральной печати, лжеинформации которой подчас невозможно было не поддаться). С. Н. Булгаков вспоминал: «Чем дальше, тем напряженнее становились отношения с Гос. Думой, которая от Пуришкевича до Милюкова принимала революционный характер»{25}. Вместе с тем можно все же как-то понять политический «курбет» Пуришкевича. Как и многие другие «черносотенцы», он ясно видел неотвратимость революционного катаклизма. К 1916 году он — опять-таки как и другие его единомышленники — испытывал острейшее чувство безнадежности, полного отчаяния. Через пять лет В. В. Шульгин процитировал в своей известной книге «Дни» слова Пуришкевича: «… я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия»{26}. Многие «черносотенцы» воспринимали эту гибель как Божью кару за грехи России и их собственные, кару, которую следует претерпеть (об этом мы еще будем говорить). Но предельно экспансивный и деятельный Пуришкевич не мог прекратить борьбу и готов был, как говорится, ухватиться за соломинку. Ему казалось, что вкупе с кадетами можно хоть в какой-то мере спасти положение. Уже после Февраля, когда началась подготовка к выборам Учредительного собрания, Пуришкевич заявил, что «Партия народной свободы (то есть кадетская. — В.К.) получит и свои голоса и всех тех, кто идет правее: ведь я человек правых убеждений, монархист, подаю свой голос за членов Партии народной свободы…»{27}. Но это действие было не более чем безнадежный жест утопающего… И «политика» Пуришкевича только с особенной наглядностью демонстрировала полное поражение «черносотенцев» — правда, поражение практическое, а не духовное: так, ореол поклонения, который окружает сегодня «ретроградные» лики Розанова или Флоренского, свидетельствует об их духовной победе. Нет сомнения, что еще будут очищены от налепленной на них беспросветной грязи и фигуры «черносотенных» политиков, пусть они даже и не «лучше» других политиков… А как же, — воскликнут, конечно же, многие, — оценивать те кровавые погромы, которые эти политики организовывали?! Тут перед нами предстает, без всякого преувеличения, всемирная проблема; русское — даже древнерусское — слово «погром» вошло во все основные языки мира. Но об этом — в следующей главе. >Глава 4 Правда о погромах Главное и наиболее тяжкое обвинение, висящее на «черносотенцах», прежде всего на Союзе русского народа, — это, конечно, обвинение в организации погромов, выразившихся не только в разрушении и грабеже имущества евреев, но и в многочисленных убийствах… Русское слово «погром», известное уже по письменным памятникам XVI века и означающее «разорение», «опустошение» (см., например, в словаре В. И. Даля), в XX веке было превращено в своего рода кошмарный символ Российской империи. «Pogrom» внедрили во все основные языки мира, как бы «доказывая» тем самым, что дело идет об именно и только русском явлении (за это, мол, «ручается» русское происхождение самого термина!). Проклятия в адрес России как «страны погромов», даже «родины погромов», звучат уже более ста лет. Разобраться в существе дела невозможно без обращения к истории — в том числе и к истории уже далеких времен. А чтобы не возникло подозрений в тенденциозности освещения истории, я буду основываться главным образом на созданной вскоре после погромов наиболее значительными еврейскими учеными России, Европы и США и изданной в 1908–1913 годах в Петербурге шестнадцатитомной «Еврейской энциклопедии» (в дальнейшем обозначается буквами ЕЭ; курсив в цитируемых текстах везде мой. — В.К.). Оставим в стороне древнюю историю, поскольку она не имеет прямого отношения к русской истории, и начнем со Средневековья. Как сообщается в ЕЭ, издавна, с первых веков нашей эры жившие в западноевропейских странах евреи лишь изредка вступали в конфликты с основным населением этих стран, и к тому же гонения на них не имели сколько-нибудь тяжелых последствий. Однако начиная с XII века ситуация резко изменилась, и в конечном счете евреи Западной Европы пережили настоящую «катастрофу», — вернее, целый ряд (цитирую ЕЭ) «катастроф, разразившихся над ними в эпоху крестовых походов. При первом походе цветущие общины на Рейне и Дунае подверглись полному разгрому, во втором походе (1147) особенно потерпели евреи Франции… в… третий поход (1188)… разыгрался страшный мартиролог английских евреев… С тех пор и началось время преследований и стеснений для мирно развивавшегося — до конца XII века — английского еврейства. Завершением этого тяжелого периода было изгнание евреев из Англии в 1290 году, прошло 365 лет, пока им вновь было разрешено поселиться в этой стране… Везде на христианском Западе мы видим одну и ту же мрачную картину. Евреи, изгнанные из Англии (1290), Франции (1394), из многих областей Германии, Италии и с Балканского полуострова в период 1350–1450 гг…бежали преимущественно в славянские владения… Здесь евреи нашли верное убежище… и достигли известного благосостояния». И еще о судьбе евреев в Испании: «В 1391 г. в одной лишь Севилье чернь убила 30 000 евреев… Тысячи людей были брошены в тюрьмы, подвергнуты пыткам и преданы костру». А в 1492 году «несколько сот тысяч евреев (то есть все жившие тогда в Испании. — В.К.) должны были оставить страну» (ЕЭ, т. 7, с. 453–454). Весьма характерно, что в 1987 году английский историк С. Хейлайзер опубликовал работу под названием «Первый Холокост: Инквизиция и новообращенные евреи Испании и Португалии», в которой основательно утверждает, что события XV–XVI веков вполне сопоставимы с тотальным уничтожением евреев германским нацизмом (слово «холокост» — буквально «всесожжение» — обычно употребляется на Западе по отношению к трагедии еврейства во время Второй мировой войны){1}. Под «славянскими владениями», где нашли «верное убежище» и достигли «известного благосостояния» пережившие катастрофу западноевропейские евреи, ЕЭ имеет в виду прежде всего Польшу; там в XV–XVI веках «евреи, — как сказано в ЕЭ, — являлись необходимым звеном между дворянством и крепостными крестьянами; торговля и промышленность (точнее, доходные ремесла. — В.К.) были сосредоточены в их руках». Но в «середине XVII века наступил кризис также для евреев Польши» (там же). Здесь необходимо вдуматься в ход дела, который освещен во многих различных статьях ЕЭ. Евреи повсюду, где они жили, «сосредоточивали» в своих руках торгово-финансовую деятельность, и до определенного исторического момента это было, так сказать, в порядке вещей. Но по мере экономического «прогресса» все более значительная часть основного населения любой из стран, где имелись евреи, — часть, которая ранее всецело жила в рамках натурального хозяйства, — начинала все более интенсивно вовлекаться в торгово-финансовую сферу и тем самым в конце концов неизбежно вступала в конфликт с евреями. Так, если в XV–XVI веках польские евреи пребывали в ненарушаемом «благосостоянии», то в XVII веке, «когда шляхта (то есть польское дворянство. — В.К.) окрепла (точнее — развилась. — В.К.) экономически, она стала вести антиеврейскую политику» (т. 12, с. 706), что привело к самым тяжелым последствиям для евреев Польши. В западноевропейских странах это произошло значительно раньше; там уже «до 1500 года погибло около 380 000 (!) евреев; надо полагать, что всего их числилось в это время 1 000 000 на всем земном шаре» (т. 11, с. 527); следовательно, в Западной Европе было уничтожено тогда около 40 процентов евреев всего мира… Можно ли, зная обо всем этом, считать Россию «родиной погромов»?! Здесь, впрочем, вполне вероятно такое возражение: чудовищные противоеврейские акции в странах Западной Европы происходили в далекие — еще «варварские» — времена, а в Российской империи погромы имели место уже в конце XIX — начале XX века. Но, во-первых, наибольший размах «катастрофа» западноевропейских евреев приобрела отнюдь не в действительно «варварские» столетия, а как раз в заведомо «прогрессивную» эпоху Возрождения. А во-вторых, сегодня, в сущности, замалчивается тот факт, что погромы и в новейшее время происходили не только в России, но и в таких западных странах, как Германия и Австрия. Правда, погромов в это время не было во Франции или Англии, но это имеет свое четкое объяснение. В XIII–XV веках евреи, как мы видели, изгоняются из почти всех западноевропейских стран; в ЕЭ показано, что вопрос там стоял самым жестким образом — либо изгнание, либо полное уничтожение… И евреи «бежали» с Запада в Восточную Европу, главным образом в Польшу. Только со времени буржуазных революций XVII–XVIII веков они начали понемногу возвращаться на Запад — и прежде всего, естественно, в наиболее близкие к Польше Германию и Австрию. А во Франции и Англии их в XIX веке было слишком немного для того, чтобы «сосредоточить» в своих руках финансово-торговую деятельность. ЕЭ сообщала, что даже в начале XX века во Франции было всего 86 тысяч евреев (то есть 0,2 процента — два человека на тысячу основного населения), в Италии 47 тысяч, а в Испании 2,5 тысячи (т. 11, с. 531, 528). Другое дело — Германия, где в это время жили уже около 600 тысяч евреев, и тем более Австрия, где их количество превышало 2 миллиона человек. Как сказано в ЕЭ, «замечается перемещение еврейского населения вплоть до 60–70-х гг. XIX века из восточной части Европы…». И «с конца 70-х годов и начала 80-х годов в разных местах Европы — в Германии, Австрии и (даже! — В.К.) Франции вспыхивает злобная антисемитская агитация» (т. 7, с. 457). Впрочем, еще ранее это «перемещение» евреев «приводит к ряду погромов в Германии» (там же, с. 456), где «старые средневековые предрассудки вспыхнули снова… К этому присоединились недоброжелательные чувства, возникшие на почве торговой конкуренции… Во многих немецких городах ненависть горожан к евреям вскоре привела к насилиям. Правительства должны были защищать евреев вооруженной силой» (как позднее и в Российской империи…). Впоследствии снова «в Германии вспыхнуло (1878) антисемитское движение… Результатом антисемитской травли был процесс о поджоге синагоги в Нейштеттине (1884), процесс о ритуальном убийстве (1892) в Ксантене и Коницкое дело 1899 г.» (т. 6, с.363–367). И в Австрии также «нарастает… антисемитизм, который проявляется в экономическом бойкоте, в погромах (особенно в конце 1890-х годов), в фактическом лишении евреев прав» (т. 7, с. 459). Короче говоря, постоянно пропагандируемое мнение, что-де в новейшее время погромы характерны именно для России, является очевидной фальсификацией. Необходимо еще сказать и о том, что острые конфликты между основным населением и евреями возникали, как правило, на экономической почве. И потому едва ли верна приведенная только что формулировка ЕЭ, согласно которой в Германии XIX века «старые средневековые предрассудки вспыхнули снова», а уж к этой — будто бы главной — причине погромов «присоединились чувства», вызванные конкуренцией в торговле. Поскольку иудаизм издавна воспринимался как явление, враждебное христианству, «предрассудки», без сомнения, имелись с самого начала истории средневековой Европы. Но, как показано выше, «катастрофа» разразилась только в конце Средневековья, а не тогда, когда «средневековые предрассудки» были действительно прочными и всеобщими. Тем более это относится к событиям XIX века. И, безусловно, правильней будет сказать, что «старые» предрассудки «присоединялись» к конфликту, порожденному «торговой конкуренцией», а не наоборот. Вообще, едва ли можно оспорить тот факт, что религиозные и иные идеологические «доводы» выступали всегда как средство «оправдания» погромов, а не как их причина. Это недвусмысленно показал видный еврейский ученый Д. С. Пасманик в статье «Погромы в России» (ЕЭ, т. 12, с. 620), утверждая, что у погромщиков не было «явно выраженной расовой вражды… Не раз те же крестьяне, которые грабили еврейское добро, укрывали у себя спасающихся евреев». Кстати сказать, тогда, во времена российских погромов, констатирует ЕЭ, «только немногие говорили о племенной и расовой ненависти: остальные считали, что погромное движение возникло на экономической почве» (там же, с. 614). Это уже позднее была выдумана или же, в крайнем случае, непомерно раздута некая якобы характерная для населения России ненависть к евреям как таковым. Впрочем, обратимся непосредственно к истории погромов в Российской империи. * * *Часто можно прочитать или услышать о том, что первый противоеврейский погром в России, вернее, на Руси имел место еще давным-давно — в 1113 году, когда, согласно Ипатьевской летописи, «кияне же разъграбиша двор Путятин тысячьского, идоша на жиды и разъграбиша и» (то есть «киевляне разграбили двор тысяцкого Путяты, затем пошли на евреев и разграбили их»). Однако киевляне выступили тогда, собственно говоря, не против евреев, а против власти. Князь Святополк Изяславич, теснейшим образом связанный (как и его двоюродный дед и тезка Святополк Окаянный) с Польшей (его матерью была сестра польского короля, а сам он обручил своих сына и дочь с членами польской королевской семьи), по-видимому, «импортировал» из Польши группу еврейских торговцев и ростовщиков, которые играли существенную роль в его экономической политике, вызывавшей резкое недовольство киевлян. И сразу после смерти Святополка (16 апреля 1113 года) киевляне «погромили» его «правительство», в том числе тысяцкого — то есть своего рода военного министра — и евреев, как бы входивших в состав министерства финансов и торговли. В ЕЭ справедливо говорится о Святополке, что «после его смерти толпа возмутилась против приверженцев великого князя и напала на евреев» (т. 9, с. 516). То есть евреи пострадали именно и только как приверженцы князя, и, следовательно, «погром» этот нет никаких оснований считать «противоеврейским» в собственном смысле слова. Существенно здесь другое: то, что оказавшиеся в Киеве в XII веке евреи связаны с Польшей; ведь вся позднейшая история евреев Российской империи берет свое начало именно в Польше. Обращаясь к этой теме, нельзя не сказать, что — хотя это и выглядит даже странно — большинство русских людей не имеют ясного представления об истории взаимоотношений России с Польшей, а также тесно связанной последней с Литвой, которая в XV–XVI веках вошла в состав Польши. В XIV веке Литва, воспользовавшись резким ослаблением и особенно раздробленностью Руси после монгольского нашествия, отторгла у нее громадную территорию. Если до монгольского нашествия западная граница Руси проходила по реке Буг (и даже западнее ее), то есть за тысячу километров от Москвы, то в XIV веке она оказалась немногим западнее города Ржева, то есть всего лишь в двухстах (!) километрах от Москвы. Только к последней трети XVII века граница с Польшей передвинулась на запад до Днепра и лишь в конце XVIII века вернулась на Буг. За четыре с лишним столетия (XIV–XVIII) на отторгнутых Литвой и Польшей землях даже сформировались самостоятельные украинский и белорусский народы, что едва ли произошло бы, если бы эти земли пребывали в границах единой Руси. Но так или иначе возвращение этих земель в состав России, завершившееся к концу XVIII века, было, надо думать, более «естественным» для них историческим уделом, нежели существование их под польской властью (любопытно, что Украина — то есть «окраина» — получила это свое название еще при польской власти, и обозначало оно тогда восточный «край» Польши, а позднее, напротив, западный «край» России…). Тем не менее, как ни удивительно, многие русские люди повторяют заведомо несостоятельную версию об участии России в «разделах Польши» (в 1772–1795 годах). Действительно польские земли «разделили» тогда между собой Австрия и Германия (точнее, Пруссия), а Россия только возвратила в свои границы исконно русские или, скажем так, исконно восточнославянские земли (они и сегодня входят в состав Украины и Белоруссии). Правда, после Отечественной войны 1812 года, в ходе которой польские войска чрезвычайно активно выступили на стороне Наполеона, России — в порядке своего рода «наказания» поляков — были отданы по решению общеевропейского конгресса 1815 года в Вене уже в самом деле польские земли с центром в Варшаве, которым присвоили статус относительно автономного Царства Польского, просуществовавшего до 1917 года. И вот это действительно было со стороны России узурпацией, «разделом» Польши, хотя его и «оправдывали» агрессивными действиями поляков в 1812 году. В Польше евреи жили издавна, по меньшей мере с IX века, но подавляющее большинство польских евреев принадлежали к потомкам тех, кто вынужден был начиная с XII–XIII веков «бежать» из западных стран. Постепенно евреи заселили и отторгнутые Литвой и Польшей от Руси земли. Но здесь они вступили в острый конфликт с коренным населением (украинским и белорусским), которое по мере течения времени все более тяготилось польским владычеством над ним. Как справедливо сказано в ЕЭ, «служа интересам землевладельцев (польских. — В.К.) и правительства (сплошь да рядом магнат-землевладелец состоял королевским старостой), евреи навлекли на себя ненависть населения, стонавшего под политическим и экономическим гнетом… Крестьянская масса усматривала в евреях исполнителей воли польской шляхты. Сбрасывая с себя политическое и экономическое иго, она обрушилась с одинаковой яростью на помещиков и евреев» (т. 15, с. 645). Да, с 1630-х до 1770-х годов евреи на принадлежавших тогда Польше восточнославянских землях испытывали тяжелейшие погромы, а подчас даже просто массовые убийства. После же возвращения этих земель в состав России (во время «разделов Польши» в 1772–1795 годах) погромы полностью прекратились и начались здесь снова — уже по другим причинам — только в 1880-х годах, то есть более чем через столетие. Написанная видным еврейским историком Ю. И. Гессеном (1871–1939) первая часть статьи ЕЭ «Погромы в России» начинается так: «Первые по времени три случая погрома евреев произошли в Одессе в 1821, 1859 и 1871 годах. Это были случайные явления (вернее, как мы увидим, не «случайные», а не имевшие непосредственного отношения к России. — В.К.), вызвавшиеся, главным образом, недружелюбием к евреям со стороны местного греческого населения» (т. 12, с. 611); «греческая колония играла в то время главную роль в Одессе как в управлении, так и в торговле». Следовательно, «это был в сущности «греческий» погром, так как зачинщиками и почти единственными участниками были греки — матросы с прибывших кораблей (то есть даже не российские граждане. — В.К.) и присоединившиеся к ним одесские греки» (там же, с. 55). Действительная история погромов в Российской империи берет свое начало в 1881 году. 15–17 апреля состоялся первый погром в Елисаветграде, и целая волна более или менее значительных инцидентов продолжалась затем до 1884 года; она затронула более 150 (!) городов, местечек, селений… Именно тогда русское слово «погром» постепенно становится обозначением прежде всего и главным образом противоеврейской акции. Для понимания существа дела важна статья, опубликованная в XX томе «Энциклопедического словаря» Брокгауза — Ефрона, изданном в 1891 году (с. 530): «Нападение одной части населения на другую (так озаглавлена статья. — В.К.) — преступление, предусмотренное законом… образующим 269 статью Уложения о наказаниях. До издания этого закона наше Уложение о наказаниях не содержало… правил относительно таких проявлений злой воли… Этот пробел закона оказался особенно ощутительным в начале 1880-х годов, когда судебной власти пришлось иметь дело с так называемыми «еврейскими погромами» (то есть слово «погром» еще только приобретало значение противоеврейской акции. — В.К.). Подобные нападения требовали уголовной кары, но единственно подходящим законом была статья 38 Устава о наказаниях, предусматривающая «буйство в публичных местах» под страхом одного лишь ареста или денежного взыскания. Явное несоответствие таких кар характеру и размерам антиеврейских беспорядков вызвало уже в 1882 году циркулярное разъяснение Министерства юстиции» и т. д. Российское правительство обвиняли и продолжают обвинять чуть ли не в организации погромов; ниже об этом поистине нелепейшем обвинении еще пойдет речь, но нельзя не обратить здесь внимания на тот факт, что ради борьбы с погромами правительство немедля создает специальную законодательную норму. Что же касается самого преступления, то виновный в нем был определен тогда в Уложении о наказаниях так: «…Всякий участник «публичного скопища»… соединенными силами совершивший похищение или повреждение чужого имущества, или вторжение в чужое жилище, или покушение на эти преступления…» (там же). По всей вероятности, может возникнуть недоумение по поводу самого характера описанных здесь действий погромщиков, ибо ведь известно, что погромы выразились не только в повреждении и похищении имущества евреев, но и во множестве убийств. Однако человеческие жертвы присущи позднейшим погромам (1903–1906 гг.), а в 1880-х годах, согласно разысканиям Ю. И. Гессена, «в большинстве случаев беспорядки ограничились разгромом шинков», значительно реже бывало так, что «имущество евреев подвергалось разграблению, а в единичных случаях произошло и избиение»{2}. Ю. И. Гессен учитывает все случаи нанесения ущерба евреям (вплоть до разбития стекол в каком-либо шинке), и таких случаев в 1881–1884 годах было, как уже сказано, более 150; историк также выяснил, что только в двух случаях дело дошло до гибели одного еврея (то есть всего погибло двое); это произошло, очевидно, непреднамеренно (то есть не было «установки» на убийства). А вместе с тем Ю. И. Гессен сообщил, что усмирявшие погромщиков «солдаты стреляли и убили несколько крестьян»; согласно опубликованным позднее документальным данным, было убито даже не «несколько» в общепринятом смысле этого слова, а 19 крестьян (это ясно показывает отношение власти к погромщикам){3}. Словом, в 1880-х годах происходили именно погромы — то есть разрушения и грабежи. Нельзя не сказать здесь еще и о следующем. Сам тот факт, что первые погромы в Российской империи произошли только более чем через сто лет после возвращения отторгнутых некогда Польшей и затем заселенных, в частности и евреями, земель, ясно свидетельствует: острый конфликт между евреями и основным населением этих земель (конфликт, который ранее вызывался здесь теснейшей связью евреев с ненавистной польской властью) возник лишь с определенного исторического момента. Он возник спустя два десятилетия после крестьянской реформы, когда основное население было — на пути «прогресса» — вовлечено в торгово-финансовые отношения. Именно об этом говорит и Ю. И. Гессен. Он сначала ссылается на мнение «официальных» экспертов, полагавших, что «важнейшую роль в погромах сыграла торгово-промышленная деятельность евреев — сосредоточив в своих руках значительную часть торгово-промышленных предприятий, существовавших в крае, а также большие денежные средства, евреи стали вызывать в окружающем населении против себя вражду». Изложив это, так сказать, общее мнение, Ю. И. Гессен заключал далее уже лично от себя: «Действительно, еврейское население южных губерний находилось в удовлетворительных экономических условиях… между тем местное крестьянство переживало чрезвычайно тяжелые времена, не имея в своем распоряжении достаточно земли, чему отчасти (это слово явно «смягчает» реальное положение вещей. — В.К.) содействовали богатые евреи, арендуя помещичьи земли и тем возвышая арендную плату, непосильную для крестьян» (с. 219, 220). Нетрудно понять, что система новых экономических отношений (в том числе арендных) сложилась именно после реформы 1861 года и через два десятилетия, в 1880-х годах, привела к погромам. Ю. И. Гессен — не лишенный объективности историк — показал ту жизненную почву, на которой произросли погромные настроения. Таким образом, в 1880-х годах в России повторилось то, что происходило в странах Западной Европы (гораздо раньше вступивших на путь «прогресса») накануне эпохи Возрождения и непосредственно в эту эпоху. Но повторилось, надо прямо сказать, в несоизмеримо менее жестоком и широкомасштабном виде. Вспомним также, что в XIX веке погромы (ранее, чем в России) произошли в Австрии и Германии. Обо всем этом необходимо знать потому, что иначе не будет ясна несомненная искусственность и, более того, злонамеренность «превращения» России в некую «страну погромов» (или даже их «родину»), — почему, мол, и само это всемирно известное слово пришло именно из русского языка… * * *Но пойдем далее. Первый действительно страшный кровавый погром разразился на территории Российской империи с 6 (точнее, начиная с 7-го) по 8 апреля 1903 года в Кишиневе. Здесь погибли тогда 43 человека, из которых 39 были евреи. Подробную картину этого погрома дает объемистый 1-й том «Материалов для истории антиеврейских погромов в России», изданный в Петрограде в 1919 году известными еврейскими историками С. М. Дубновым и Г. Я. Красным-Адмони. В томе представлены материалы, и враждебные евреям, и вполне им сочувственные (как, например, официальные записки прокурора А. И. Поллана), но основной ход событий во всех материалах одинаков: во второй половине дня 6 апреля в Кишиневе началось, пользуясь юридическим языком, «повреждение» и «похищение» имущества евреев, и лишь поздно вечером полиция и войска разогнали погромщиков; утром же 7-го евреи, вооружась чем попало, а также револьверами, решили расправиться с погромщиками, и после убийства (выстрелами из револьверов) одного или, по другим сведениям, двух и ранения нескольких «христиан» начался уже не погром в прежнем смысле, а жестокое побоище, в результате которого 39 евреев было убиты и множество ранены. Проведя расследование, прокурор А. И. Поллан (отнюдь не враждебный евреям человек) писал 11 апреля 1903 года о ходе событий в Кишиневе начиная с 6 апреля: «Молодежь, состоящая преимущественно из подростков, начала бить стекла в еврейских домах, выбрасывать их имущество и уничтожать его… Угрожающего характера беспорядки не принимали… К вечеру, когда пригласили войска, были арестованы 62 человека. На другой день, 7 апреля, беспорядки возобновились… Некоторые евреи, защищая свое имущество, начали стрелять из револьверов, и один из них, который застрелил одного из буянов, был немедленно убит. Затем были убиты и ранены многие евреи… В настоящее время убитых уже насчитывают более 40… Из христиан убиты 3 человека… Убитых евреев из огнестрельного оружия нет»{4}. В позднейшей записке А. И. Поллан сообщал о выяснившемся к тому времени факте, который вызвал наибольшее ожесточение погромщиков: «Следствием установлено, что убит был один христианский мальчик» (там же, с. 203). В дальнейшем были убиты и несколько еврейских детей… При этом следует учитывать, что в Кишиневе, согласно переписи 1897 года, на 108 403 человека населения приходилось 50 257 человек иудейского вероисповедания (то есть 46,3 %); это объясняет особую напряженность столкновения. Наконец, необходимо иметь в виду, что Кишинев и Бессарабская губерния (позднее Молдавия) вообще представляли собой — с точки зрения отношений основного населения и евреев — настоящий пороховой погреб, для взрыва которого вполне достаточно было и одного револьверного выстрела. В. В. Розанов, который позднее провел лето в Бессарабии, так изложил представления местных жителей о ситуации, создавшейся в Бессарабской губернии (текст этот, затерявшийся в подшивках газеты «Новое время», разыскал и опубликовал в культурнейшем современном журнале «Литературная учеба» В. Г. Сукач): «Сила его (речь идет об экономической силе еврейства. — В.К.) всегда больше силы окружающего населения, хотя бы евреев была горсточка и даже всего пять-шесть семей, ибо эти пять-шесть семей имеют родственные, общественные, торговые, денежные связи с Бердичевом и Варшавой, да и с Венгрией, с Австрией; в сущности со всем светом. И этот «весь еврейский свет» поддерживает каждого Шмуля из Сахарны (бессарабская местность, где жил Розанов. — В.К.), и «Шмуль в Сахарне» забирает всю Сахарну в свои руки, уже для пользы не своей, а всего совокупного еврейства, ибо, укрепившись здесь, он немедленно призывает сюда родственников, родичей, единоверцев в помощь себе (стоит сообщить, что в 1847 году в Бессарабской губернии проживали 20 232 еврея, а всего через 50 лет, в 1897 году, в 11 раз больше — 228 528 (!); см. ЕЭ, т. 4, с. 373, 377. — В.К.), в компанию с собою, в сущности за один обеденный стол с собою, где они кушают темную молдавскую Сахарну, кушают ее посевы, ее птицу, ее скот, все это скупая за бесценок через моментально образуемые синдикаты и не подпуская никакого чужого покупателя ни к какому продукту, сырью, свежине. Сахарна пашет, работает, потеет, а евреи ее пот обращают в золото и кладут в карман. Они имеют «у своих» бесконечный кредит под свои способности, под свою живость, под свою оборотливость. Какая же с ними конкуренция, когда в каждой точке они — «все», а всякий русский, хохол, валах — «один»…» Изложив это, В. В. Розанов отметил: «Передаю все в том «сыром материале», как взял с земли, не прибавляя ни размышления, ни даже «да» или «нет»…»{5} Впрочем, Розанов с самого начала представил свой рассказ как обобщение того, что он слышал от бессарабцев: они воспринимали деятельность евреев как своего рода высасывание соков из их земли и из них самих. И в разрушении и грабеже имущества евреев они усматривали некое «восстановление справедливости». Однако беспристрастный наблюдатель с полным правом возразит, что никакого насилия или хотя бы беззакония евреи по отношению к бессарабцам не совершали: они только умело и сплоченно занимались финансово-торговой деятельностью. И никто не мешал «туземцам» сплотиться и потеснить евреев в честном экономическом соревновании. И тот факт, что они вместо этого устроили погром, свидетельствует только об их деловой несостоятельности, заставлявшей их прибегать к грубой силе. Наконец, это особенно безнравственно потому, что в целом евреи составляли меньшинство населения Бессарабии (всего около 12 %); естественно предположить, что при количественном равенстве «туземцы» и не решились бы на погром… Все это, в сущности, неоспоримо; но, если возвратиться к сделанному по материалам ЕЭ обзору истории конфликта евреев с основным населением, нетрудно убедиться, что дело, как правило, доходило в какой-то момент до погромов, будь то в Англии, Франции, Германии или Австрии. То есть все «туземцы» оказывались несостоятельными… Это, надо думать, означает, что экономический конфликт был неразрешим на экономической же почве. И в самом деле: евреи в начале XX века составляли 4 с небольшим процента населения Российской империи, но если говорить о людях, занятых в торговле, то согласно переписи 1897 года в городах империи их насчитывалось 618 926, и 450 427 из них были евреи (ЕЭ, т. 13, с. 649), то есть торговцев всех других национальностей имелось 168 499 человек — почти в три раза (точно — в 2,7) меньше! При таких условиях собственно экономическое соревнование, конечно, было невозможно; конкурентам евреев недоставало для соревнования на равных более 280 000 торговых людей… Эти цифры характеризуют положение в Российской империи в целом; но тут же в ЕЭ отмечено, что «одни евреи сообщают Бессарабии торговое движение» (там же, с. 647). Словом, конфликт предстает как поистине неразрешимый. При этом необходимо еще иметь в виду, что конфликт тогда был совершенно очевидным, наглядным: любой житель Бессарабской губернии, будучи вовлечен «прогрессом» в торгово-финансовые отношения, неизбежно самым непосредственным образом сталкивался в своем повседневном быту с евреями, почти целиком держащими в своих руках торговую сферу. Это важно учитывать потому, что для позднейшего, еще более «прогрессивного» устройства общества такое прямое и постоянное столкновение уже вовсе не характерно: люди, в чьих руках находится финансово-торговое владычество, в сущности, «невидимы», они не соприкасаются на бытовом уровне с большинством населения. В Бессарабской же губернии 1903 года все было, так сказать, обнажено, и жители усматривали в забравших в свои руки торговлю евреях безнаказанных грабителей (см. приведенный выше текст В. В. Розанова). И дело обстояло, очевидно, примерно так же во всех странах, где конфликт обострялся в конечном счете до погромов… Констатация этого факта отнюдь не означает, конечно же, перекладывания вины за кишиневский погром (как и другие погромы) на евреев. Речь идет только об уяснении тяжести, даже — что уже было отмечено — неразрешимости конфликта. Ведь погромы обычно изображаются как порождение некой иррациональной злодейской воли, чуть ли не садизма, что, конечно же, абсолютно неверно. А тот факт, что в Кишиневе совершались в прямом смысле слова зверские убийства евреев, был обусловлен, без сомнения, использованием огнестрельного оружия, которое опять-таки нарушило принцип борьбы на равных, — поскольку у погромщиков оружия не было, а евреи составляли почти половину (46 с лишним процентов) населения города. Разумеется, и это отнюдь не снимает вину с погромщиков; дело идет только об объективном понимании ситуации. Ведь вообще-то безусловно господствует точка зрения, согласно которой евреи в конфликтах с остальным населением Земли всегда и везде, в любой стране и в любое время являли собой абсолютно ни в чем не повинные жертвы корыстных, тупых и жестоких палачей. Это, конечно, не значит, что уместно и достойно выдвигать — пусть даже со всяческими оговорками — противоположную точку зрения (что во всем виноваты-де только евреи). Поскольку погромщики обычно первыми начинали насилие, никакие последующие события не могли их «оправдать», снять с них исходную вину. Именно так оценил ситуацию один из наиболее выдающихся идеологов «черносотенства» епископ Антоний Волынский (о нем уже не раз шла речь), который вскоре после кишиневского погрома произнес «слово» о нем, получившее широкую известность и признание. Стоило бы привести здесь это «слово» целиком, но оно весьма обширно, и я ограничусь цитированием начала. Епископ Антоний сказал, что «доходят до нас печальные позорные вести о том, что в городе Кишиневе… происходило жестокое, бесчеловечное избиение несчастных евреев… О Боже! Как потерпела Твоя Благость такое поругание!..»{6} В связи с кишиневским погромом необходимо коснуться еще одной стороны дела. Об этом погроме говорится особенно много и часто потому, что в отличие от принесших еще большие жертвы погромов 1905 года, разразившихся непосредственно в условиях Революции, кишиневский предстает как особенно прискорбный: в мирное, в общем, время были зверски убиты десятки людей. И этот погром нередко квалифицируется как одно из наиболее тяжких «преступлений русского народа». Так, историк Владлен Сироткин недавно написал послесловие к двум посвященным кишиневскому погрому документальным повестям эмигранта Семена Резника, объединенным под заглавием «Кровавая карусель». Послесловие это начинается многозначительной сентенцией: «Читать «Кровавую карусель»… мне, русскому человеку, тяжело и больно». Далее дано следующее «объяснение» этой тяжести и боли, гнетущих «русского человека» В. Сироткина: «…главную заслугу Семена Резника я вижу в том, что он своей книгой пытается понять, почему в части русского народа… росла и набирала силу неприязнь к «инородцам», прежде всего к евреям»{7}. Однако едва ли Резник в своей книге «пытается понять» именно это, так как в его повестях не раз сообщается о национальной принадлежности кишиневских погромщиков, и речь идет только о молдаванах, некоторые из коих даже не знают ни слова по-русски. Это вполне понятно, ибо Бессарабия (ныне Молдова) вошла в состав Российской империи лишь в 1812 году и не могла менее чем за столетие стать собственно «русской» провинцией (кстати сказать, после 1917 года, когда Бессарабия — до 1940 года — стала провинцией Румынии, погромы там происходили постоянно). И еще одна деталь — вроде бы мелкая, но весьма существенная. В. Сироткин утверждает, что своего рода инициатором кишиневского погрома был, как он его не раз называет, «Павел Александрович Крушеван». Почему так торжественно? Да потому, что преследуется — сознательно или бессознательно — цель скрыть тот факт, что Крушеван принадлежал к знатному молдавскому роду, чем очень гордился, и носил чисто молдавское имя Паволаки (а не Павел). Да, читать о кишиневском погроме и тяжело, и больно, но по меньшей мере неуместно внедрять в разговор об этом «русского человека» и «русский народ». Владлен Сироткин может, конечно, возразить, что погромы имели место в начале века и в других, более «обрусевших» провинциях, но есть все же нечто недостойное и даже зловещее в «приписывании» именно кишиневского погрома русскому народу. Ведь это совершенно то же самое, что обвинить сегодня русский народ в зверствах по отношению к гагаузам, абхазам или туркам-месхетинцам! Столь же недостойный характер имеет и произведенное здесь же В. Сироткиным «сопоставление» России и Франции в свете двух судебных процессов — Дрейфуса, в защиту которого выступал Золя, и Бейлиса, защищаемого Короленко. «По счастью, — объявляет В. Сироткин, — сторонников Э. Золя во Франции оказалось больше, чем в России сторонников В. Короленко, и антисемиты там потерпели сокрушительное поражение… В России, увы, все обстояло по-другому…» и т. д. Это рассуждение рассчитано либо на совершенно неосведомленных, либо на до тупости распропагандированных читателей. Ведь Бейлис был при первом же судебном решении признан полностью невиновным, между тем как Дрейфус сначала был приговорен к пожизненному заключению на Чертовом острове в Южной Америке, получившем прозвание «сухая гильотина», и провел там 5 мучительных лет; затем на новом суде его еще раз приговорили — теперь уж, правда, только (!) к десяти годам; далее он был — под громадным давлением «дрейфусаров» — помилован (но не оправдан!) и, наконец, еще через семь лет (!) признан невиновным. Нельзя не добавить к этому, что и Золя за свою поддержку Дрейфуса был приговорен к году тюрьмы и трем тысячам франков штрафа и спасся только ловким бегством в Англию, где дождался акта помилования; между тем Короленко «пострадал» разве лишь от большого количества устроенных тогда в его честь банкетов. Не приходится уже говорить о том, что в 1917–1918 годах почти все обвинители Бейлиса (начиная с прокурора О. Ю. Виппера — брата знаменитого историка) оказались в тюрьмах и уже не вышли оттуда живыми. Так где же, спрашивается, было «больше сторонников»? И не стыдно ли, тов. Сироткин, публиковать подобную дезинформацию? * * *«Черносотенный» епископ Антоний, говоря о кишиневских событиях, высказал отношение к погромам, присущее не только ему лично, но и русской Церкви в целом, — хотя бессовестные пропагандисты распространяли (и продолжают распространять) абсолютно клеветническое обвинение Церкви в «сочувствии» и даже чуть ли не в содействии погромам. Впрочем, нельзя не коснуться и другой столь же клеветнической версии, согласно которой погромы «организовало»-де Российское государство, то есть конкретно — правительство. В первой действительно исследовательской работе, освещающей этот вопрос, — в уже не раз упомянутой книге В. А. Степанова, — на основе тщательного изучения архивных и других материалов сделан следующий вывод: «Нет сведений о прямой причастности правительства к этим (погромным. — В.К.) делам», и в то же время налицо многочисленные «документы, свидетельствующие только о желании властей немедленно прекратить избиение вверенного их попечению населения»{8}. Правда, В. А. Степанов, на которого давят начавшиеся еще в 1900-х гг. «разоблачения» мнимых правительственных «инициаторов» погромной вакханалии, все же допускает возможность неких — пока, правда, не обнаруженных — сугубо «тайных» действий власти в этом направлении. Слишком велика была обработка умов, чтобы можно было — даже после тщательного исследования — освободиться от много лет вдалбливаемой версии, пусть и воистину нелепейшей. Нелепа она хотя бы уже потому, что для всякой власти опасны и в конечном счете гибельны любые насильственные акции самого населения. В высшей степени характерно, что противоеврейские погромы начала 1880-х годов действительно стремилась подтолкнуть и разжечь отнюдь не власть, а, напротив, главная революционная организация тех лет — партия Народной воли, о чем писал, например, Ю. И. Гессен: «…судя по партийному органу, члены партии считали (и правильно считали! — В.К.) погромы соответствующими видами революционного движения; предполагалось, что погромы приучат народ к революционным выступлениям; некоторые члены Исполнительного Комитета (Народной воли. — В.К.) изготовили 30 августа 1881 года прокламацию, призывавшую к разгрому евреев» (т. 12, с. 617–618). Между тем правительство сразу же после первого погрома 1881 года издало циркуляр, где о погромщиках говорилось как об опасных преступниках, которые «впадают в своеволие и самоуправство… Подобные нарушения порядка не только должны быть строго преследуемы, но и заботливо предупреждаемы: ибо первый долг правительства охранять безопасность от всякого насилия и дикого самоуправства» (там же, с. 615). Как уже сообщалось, во время погромов 1880-х годов вызванными войсками были убиты 19 погромщиков и множество из них ранены. А в Уложение о наказаниях, как уже говорилось, была введена специальная статья о погромщиках. Что же касается кровавых событий 1903 года в Кишиневе, сотни погромщиков были после них осуждены, а представители местных властей во главе с губернатором были с позором отправлены в отставку — прежде всего за то, что не обеспечили своевременных и решительных действий военной силы для пресечения погрома. И вот, несмотря на эти очевидные и бесспорные факты, до сего времени чуть ли не господствует основанная на различных слухах и совершенно сомнительных «документах» (вроде якобы перехваченных кем-то «секретных инструкций») версия, согласно которой погромы организовывало правительство, отдавая-де тайные приказы местным властям. Пропагандистов сей версии не смущает даже то, что за допущенные погромы эти самые местные власти достаточно сурово наказывались (и тем не менее в других местах именно власти якобы продолжали готовить новые погромы!). Нельзя не отметить, что мнение о «правительственной» организации погромов нередко пытаются обосновать, ссылаясь на сочувствие погромам со стороны каких-либо отдельных лиц, причастных власти. Однако полная несостоятельность такого подхода очевидна, ибо в составе тогдашних властей имелось множество отдельных людей, сочувствовавших Революции, что, понятно, не дает оснований считать власть организатором Революции (так, например, революционерам оказывал немалую помощь — что давно уже точно выяснено — директор департамента полиции в 1902–1905 годах А. А. Лопухин; именно он, кстати, «разоблачал» тех отдельных правительственных лиц, которые вроде бы были готовы способствовать погромам). И остается только поражаться доверчивости тех, кто не способен отвергнуть пропагандистские фальшивки о правительственном «руководстве» погромами, сфабрикованные в целях дискредитации российской власти, — что было обязательной и постоянной задачей всех революционных и либеральных идеологов. Уже упомянутый действительно серьезный еврейский историк Ю. И. Гессен писал в 1926 году, что само по себе «возникновение в короткий срок на огромной площади множества погромных дружин (речь шла о погромах 1880-х годов. — В.К.) и само свойство их выступлений устраняют мысль о наличии единого организационного центра». Да, при честном и элементарно разумном подходе «устраняется» даже и сама мысль о правительственной (да и какой-либо иной) организации погромов, но для бесчестных или глупых это, как говорится, не указ. Реальная причина погромов — в описанном выше (на основе, кстати сказать, работ еврейских историков) тяжелом и, в сущности, неразрешимом экономическом конфликте, так отчетливо проявившемся в 1903 году в Бессарабской губернии. Конечно, к экономическому конфликту могли примешиваться — и примешивались — идеологические, религиозные и чисто бытовые моменты, но корень все-таки — в финансово-торговой сфере. Завершая разговор о нелепости версии, согласно которой погромы инспирировались правительством, напомню еще раз, что после того, как Бессарабия оказалась под властью Румынии, погромы там не только не прекратились, но приобретали подчас более ожесточенный характер. В обобщающей статье на эту тему, опубликованной в 1931 году, говорится о противоеврейских погромах в Бессарабии: «Первая волна… прокатилась в 1919–1920, вторая в — 1925. Наконец, уже при правительстве… Маниу (пришло к власти в 1928 году. — В.К.) имел место ряд еврейских погромов»{9}. Это лишний раз показывает, что дело не в характере государства, а в описанном выше конфликте внутри самого населения. * * *Обратимся теперь непосредственно к проблеме соотношения погромов и «черносотенцев». Как мы видели, погромы начались в Российской империи в 1881 году, за четверть века до создания первой «черносотенной» организации. Так что никак нельзя считать погромы «черносотенным» изобретением. Напомню и о безоговорочном, даже можно сказать, яростном осуждении кишиневских погромщиков, прозвучавшем из уст одного из корифеев «черносотенства» — епископа Антония Волынского. Впрочем, с «черносотенцами» связывают главным образом или даже исключительно более поздние погромы 1905–1906 годов, то есть времени первой российской революции. И поскольку евреи (чего никак нельзя опровергнуть) играли огромную роль в этой революции, а, с другой стороны, «черносотенцы» исповедовали непримиримо антиреволюционные убеждения, как-то само собой возникла своего рода аксиома: погромы 1905–1906 годов организовывали «черносотенцы» (или даже, более того, целиком их осуществляли). Погромы, разразившиеся в октябре 1905 года, далеко превзошли все предшествующие (разумеется, если говорить о погромах в Российской империи); жертвы исчислялись сотнями. И вина за них приписывается «черносотенцам» — хотя надо прямо сказать, ровно никаких сколько-нибудь достоверных сведений об этом не существует, их просто нет. Наиболее четкая и достаточно подробная информация о погромах 1905–1906 годов дана в специальной статье о них, принадлежащей Д. С. Пасманику. Статья написана в 1912 году, когда все сведения еще можно было получить от очевидцев, а с другой стороны, уже прошло необходимое для изучения фактов время. Д. С. Пасманик (1869–1930) — один из виднейших еврейских политических и научных деятелей того времени, автор более десятка книг и множества статей, посвященных экономическим и социологическим проблемам. На его статью о погромах 1905–1906 годов опирались позднее все действительно серьезные исследователи, касавшиеся этой темы. «17 октября 1905 года, — писал Д. С. Пасманик, — был опубликован Высочайший манифест, обещавший новое государственное устройство, а с 18 октября начались погромы… Погромы в разных местах произошли почти одновременно: между 18 и 29 октября… Погромы были произведены в 660 городах, местечках и деревнях, и так как в некоторых местах погромы повторялись, то всего погромов было за 12 октябрьских дней 690… Главным образом погромы происходили в южной и юго-западной частях черты еврейской оседлости. В северо-западном крае, где процентное отношение еврейского населения очень высокое, погромы крайне редки, а в некоторых губерниях… совершенно отсутствовали (об этой стороне дела речь пойдет ниже. — В.К.)… После октябрьских дней погромы произошли… в Тальсене, Белостоке и Седлеце (это уже было в следующем, 1906 году — В.К.)»{10}. Д. С. Пасманик дал здесь же анализ причин октябрьских погромов: «Мелкая буржуазия… играла главную роль в эти ужасные дни… Здесь, очевидно, действовал антисемитизм на экономической почве… Она (мелкая буржуазия, то есть прежде всего торговцы. — В.К.) имела в виду одно: уничтожить ненавистного конкурента… В некоторых местах стимулом служило обвинение евреев в революционности, а в большинстве случаев — простое желание воспользоваться чужим добром… Крестьянство участвовало в погромах исключительно в целях обогащения на счет еврейского добра…» (с. 619–620). Здесь следует добавить, что своего рода «оправданием» грабежа еврейского имущества в глазах погромщиков служило, конечно же, мнение о евреях как «грабителях» основного населения (см. выше). Итак, Д. С. Пасманик пришел к выводу, что октябрьские погромы имели «экономические» причины, а роль «пускового механизма» сыграл Манифест 17 октября, который — как показано во множестве свидетельств и исследований — создал в стране всеобщую атмосферу безвластия, вседозволенности, безнаказанности, которые, кстати сказать, гораздо, даже неизмеримо сильнее, нежели в погромах, выразились в различных революционных акциях. Сейчас уже трудно представить себе многообразные разрушительные последствия этого манифеста. С. А. Степанов привел специфический, но очень выразительный пример: кадет В. А. Маклаков вспоминал о собрании, состоявшемся 18 октября 1905 года не где-нибудь, а в Московской консерватории (!): «В вестибюле уже шел денежный сбор под плакатом «На вооруженное восстание». На собрании читался доклад о преимуществах маузера перед браунингом» (!) (с. 50). В такой общественной атмосфере, захватившей даже и консерваторию, неизбежно должны были обнажиться все — в том числе и не очень уж обостренные, подспудные — конфликты, и именно потому разразилось столь громадное количество погромов. Д. С. Пасманик недвусмысленно констатировал: «Нельзя приписать октябрьские погромы исключительно определенной организации». Правда, он счел нужным отметить тут же, что «Ф. Львов в газете «Наша жизнь» доказывал наличность организации, во главе которой стоял один известный генерал». Речь шла о статье либерального деятеля Ф. А. Львова, который пытался приписать широкомасштабную организацию погромов семидесятишестилетнему (!) генералу от инфантерии в отставке Е. В. Богдановичу (1829–1914), принадлежавшему к «правым» кругам. Но в наше время С. А. Степанов провел, по его собственному определению, «расследование» и установил, что созданная этим генералом «дружина хоругвеносцев» имела чисто декоративное назначение, и нет никаких (цитирую С. А. Степанова) «следов черносотенной организации, якобы игравшей роль застрельщицы… Следует признать, что в распоряжении исследователей пока нет достоверных данных о существовании единого центра, руководившего погромами» (с. 70, 71). Поскольку в массе всякого рода сочинений утверждается (совершенно голословно), что «черносотенные» партии организовывали или даже вообще целиком осуществляли октябрьские погромы, С. А. Степанов, как видим, все же не без осторожности оговорил, что, мол, «пока нет достоверных данных». Дело в том, однако, что если подобный «центр» и существовал, то он никак не мог быть «черносотенным», ибо все такие «центры» возникли в то время, когда волна погромов уже прошла! В «Еврейской энциклопедии», подготовленной, как мы не раз имели возможность убедиться, стремившимися к объективности авторами, есть специальная статья «Союз русского народа» (соответствующий том — на «С» — вышел в 1912 году), в которой этой политической организации дана, понятно, весьма негативная оценка, но нет даже намека на то, что Союз русского народа причастен к противоеврейским погромам (см. т. 14, с. 519; статья начинается словами: «Союз возник в конце 1905 года…» — а ведь погромы разразились в октябре). Опубликованные в те времена материалы, посвященные «черносотенцам», вообще, надо сказать, более правдивы, нежели позднейшие, — уже хотя бы потому, что неудобно было преподносить заведомо лживые сведения о совсем недавно совершившихся событиях (позднее, после 1917 года, многие уже не стеснялись врать напропалую). Так, более или менее правдив с этой точки зрения весьма подробный обзор событий 1905-го и последующих трех лет, написанный в 1909 году левым кадетом В. П. Обнинским (о данной его объемистой книге под названием «Новый строй» уже не раз упоминалось). Отметив, что «свобода», дарованная Манифестом 17 октября, «застала большую часть населения не подготовленной к ее восприятию», Обнинский именно этим объяснял «крайние решения… справа и слева» (с. 8) — то есть в том числе и вал погромов. А далее он выразил своего рода глубокое удивление по поводу того, что за «крайними решениями справа» — то есть погромами — не просматривается никакой «организации»: «…если влияние слева, — писал Обнинский, — не отрицается политическими партиями, поставившими на своих знаменах вполне определенные надписи (скажем, «Долой самодержавие!». — В.К.), то вопрос о воздействии справа и доселе (то есть в 1909 году. — В.К.) не потерял своей остроты и таинственности. Дело в том, что в дни 18–30 октября (то есть в «погромный» период. — В.К.) не существовало партий правее конституционно-демократической, и будущие кадры так называемых монархических организаций находились еще в распыленном состоянии»{11}. Недоумение Обнинского вполне понятно. Ко времени его работы над книгой уже давно и постоянно выкрикивались обвинения в адрес Союза русского народа и «черносотенных» партий вообще — голословные обвинения в организации погромов. Но Обнинский стремился объективно осветить движение событий и никаких доказательств правоты этих обвинений не находил. Изучив реальный ход дела, он констатировал, что только «за полгода, отделявшие Думу (она открылась 27 апреля 1906 года. — В.К.) от Манифеста (17 октября 1905 года. — В.К.), успели образоваться так называемые «монархические» партии, не менее радикально, чем крайние левые, настроенные и заимствовавшие у последних большую часть тактических приемов» (с. 18). Из этого следовало, понятно, что «монархические» партии никак не могли организовать октябрьские погромы 1905 года, поскольку сами не были еще «организованы», не существовали как способные к какому-либо действию силы. Правоту В. П. Обнинского подтверждает и вторая солидная работа, затрагивающая интересующую нас тему. Это обширная глава В. Левицкого под названием «Правые партии», вошедшая в изданный в 1909–1914 годах в Петербурге пятитомный коллективный труд «Общественное движение в России в начале XX века». В. Левицкий — псевдоним эсдека В. О. Цедербаума, родного брата лидера меньшевиков Л. Мартова (Ю. О. Цедербаума); понятно, что ни о каком «обелении» изучаемых им «черносотенцев» В. Левицкий и не помышлял. Тем не менее он доказывал, что до 1906 года «практика» всех «черносотенных» сил (цитирую) «ограничивалась устройством замкнутых членских собраний», «сводилась преимущественно к закрытым «беседам», не имея ничего общего с «широкой устной агитацией»{12}. «Черносотенцы» начинают выходить за пределы чисто «кружкового» существования лишь в самом конце 1905 года; В. Левицкий говорит, в частности, о Союзе русского народа: «…вербовка им в члены рабочих началась после декабрьского поражения 1905 года» (декабрьское революционное восстание было подавлено к 20 декабря). И особенно важная информация: Союз русского народа «начинает свою погромную агитацию после взрыва революционерами харчевни «Тверь» за Невской заставой в Санкт-Петербурге 27-го января 1906 года». К этому «взрыву» мы еще вернемся; пока же отметим, что к октябрьским погромам 1905 года Союз русского народа, согласно выводу В. Левицкого, никакого отношения не имел; он не только не организовывал их, но даже и не «агитировал» за них. Конечно, до и во время издания работы В. Левицкого высказывались и совсем иные мнения; но это были только чисто эмоциональные приговоры, не подкрепленные хоть какими-либо фактами. Однако постоянно повторяемые выкрики со временем приобретают мнимую «достоверность». И в 1919 году серьезный, казалось бы, еврейский историк С. М. Дубнов счел возможным написать, что в октябрьских погромах 1905 года «участвуют организующиеся «черные сотни»… Здесь полоса погромов достигает своего крайнего полюса (то есть наиболее мощного проявления. — В.К.), к которому примыкают еще два кровавых погрома 1906 года в Белостоке и Седлеце… Оба они были делом уже организованного Союза русского народа»{13}. (С. М. Дубнов не упоминает еще один, последний, погром в Тальсене, по-видимому, из-за его незначительности.) В результате возникает по меньшей мере странная картина: в октябре 1905 года погромы достигают прямо-таки невероятных масштабов (их, по подсчетам Д. С. Пасманика, было около 700), хотя «черные сотни» только еще «организуются», а после того, как они «уже организованы», происходит всего 2 или, точнее, 3 погрома (начиная с 1907 года погромов уже вообще не было, если не считать позднейшего военного, то есть по самой своей сути погромного, времени, когда громилась вся Россия вообще). Помимо этого, нельзя не отметить, что Белосток и Седлец (Седльце) — это чисто польские города (а Тальсен — ныне Талсы — латышский), которые после 1917 года стали (и сейчас являются), естественно, городами возрожденной Польши, и те части их населения, к которым мог апеллировать Союз русского народа, были весьма небольшими (основное население этих городов относилось к Союзу русского народа заведомо враждебно). Кстати, «в широком масштабе еврейские погромы устраивались лишь в независимой Польше»{14}, то есть после, а не до 1917 года. Словом, суждения С. М. Дубнова ни в коей мере не выдерживают проверку фактами. Но, увы, в позднейшее время все вообще погромы были многократно объявлены «делом Союза русского народа» (С. М. Дубнов-то все же утверждал, что в 1905 году «черные сотни» пока еще только «участвуют», а не всецело управляют погромами) без какого-либо разграничения «организующегося» и «уже организованного» Союза. Это стало, повторяю, как бы совершенно не нуждающейся в доказательствах аксиомой. Наиболее, пожалуй, удивителен тот факт, что в позднейших сочинениях, затрагивающих вопрос о погромах, нередко есть ссылки на работы В. П. Обнинского и В. Левицкого (работы, во-первых, заведомо «античерносотенные», во-вторых, написанные тогда, когда все выводы можно было проверить, и, наконец, работы достаточно основательные), однако действительное содержание этих работ игнорируется. Так, например, в 1977 году историк Л. М. Спирин, похвалив работу В. Левицкого за то, что в ней содержится «большой фактический материал», утверждает тем не менее, что монархисты-де «возглавили погромы»{15} — хотя никакого «фактического материала» об этом не имеется… * * *Впрочем, если быть, как говорится, точным до конца, в работе В. Левицкого «черносотенцы» и погромы все-таки связывались друг с другом, ибо Союз русского народа после 27 января 1906 года начал, по его словам, «свою погромную агитацию». И здесь перед нами открывается существеннейший и по-своему прямо-таки замечательный аспект дела. В. Левицкий сообщает о развитии событий следующее. Сначала он упоминает о том, что (цитирую) «1-й номер «Русского Знамени» (газета Союза русского народа. — В.К.) вышел 27 ноября 1905 года со следующим программным заявлением от редакции: «…Довольно крови и насилий!» (с. 397). Однако ровно через два месяца, сообщает В. Левицкий, «27 января 1906 года взорвана революционерами харчевня (вернее, чайная. — В.К.) «Тверь» за Невской заставой в Санкт-Петербурге, где в то время происходило заседание рабочих-черносотенцев; в результате 2 убиты и 6 тяжело ранены (в их числе видный черносотенный рабочий Лавров), а всего 18 пострадавших… «Русское знамя» начинает свою погромную кампанию сразу после взрыва… Газеты посвящают этому событию несколько статей, в одной из которых говорилось: «Видно, силен Союз русского народа, если революционеры уже начали бросать бомбы в чайные заведения… Народ разыщет убийц!.. Пусть же сами пеняют потом на себя» (статья П. Булацеля). В таком же духе, — продолжает В. Левицкий, — пишется ряд статей и произносятся речи на похоронах убитых… Погромный тон черносотенных писаний слышится все явственнее. 29-го марта Аполлон Майков (сын поэта) угрожает на страницах «Русского знамени»: «Трепещите, когда народ русский станет плечом к плечу…» Нет возможности перечислить все подобные угрозы и погромные призывы на столбцах черносотенных газет… После покушения на Столыпина — на Аптекарском острове (12 августа 1906 года; 27 человек убиты, 32 ранены, в том числе дети. — В.К.) — Союз русского народа снова начинает говорить о народном самосуде» (с. 397, 409, 434). Из подобной риторики и был вылеплен «страшный» образ Союза русского народа («угрожает», «угрозы», «призывы» и т. п. — об этом «способе» запугивания «черносотенцами» уже не раз шла речь выше). В. Левицкий не мог привести ни одного факта, свидетельствующего об «организованных» Союзом русского народа погромах, ибо понимал, что было бы просто несерьезно, даже нелепо напрямую связывать взрывы у Невской заставы и на Аптекарском острове с событиями в далеких польских Белостоке и Седлеце (а других погромов после 1905 года не было) как якобы ответными акциями «черносотенцев». Но суть дела, собственно, не в этом. Казалось бы, любой нормальный человек, прочитав рассуждения В. Левицкого, должен был прийти в состояние полнейшего недоумения: революционеры беспощадно уничтожали множество людей, а главным «обвиняемым» выставляется все же «Русское знамя», осмелившееся над могилами погибших всего только пригрозить убийцам неким грядущим народным возмездием. Но что поделаешь — таков уж удел «черносотенцев»: их слова преподносятся как нечто гораздо более опасное и жестокое, нежели бомбы революционеров. Да и мало кто замечает, что само понятие «погром» было беззастенчиво переадресовано — оно применяется не к действительным разнузданным погромщикам, а к мнимым. В 1905–1907 годах бесчисленные сокрушительные погромы устраивали вовсе не «черносотенцы», а красносотенцы. Тот же В. Обнинский свидетельствовал: «Фабрикация бомб приняла гомерические размеры… Мастерские бомб открываются во всех городах… Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями и памятниками русским генералам и кончая церквами» (с. 156), не говоря уже о погромах тысяч дворянских усадеб. Как констатировалось в предыдущей главе, «зафиксирован» только один случай, когда «черносотенцы» попытались применить бомбы (заложив их в дымоход квартиры Витте), но и тогда им пришлось прибегнуть к помощи обманутых ими революционеров… И в высшей степени показательно, что В. Левицкий, поставивший задачу заклеймить «черносотенцев», смог — так как тогда, вскоре после событий, неловко было попросту фантазировать — обвинить их всего лишь в «угрозах»… Но самое замечательное, пожалуй, состоит в том, что Союз русского народа не только не организовывал, но и никогда не «планировал», не «замышлял» противоеврейских погромов. Мне могут возразить, указав на наличие тех или иных тогдашних листовок, в коих можно усмотреть побуждение к погромам (о некоторых из таких листовок еще пойдет речь). Но отдельные безответственные экстремисты характерны для любого общества, находящегося в состоянии смуты. Что же касается самого Союза русского народа как организации, никаких действительных призывов к погромам от его имени никогда не было. Об этом, кстати сказать, неопровержимо свидетельствует и работа В. Левицкого: если бы прямые «черносотенные» призывы к погромам существовали, автор, вне всякого сомнения, привел бы их; но он процитировал только тексты, выражающие веру в грядущее возмездие, которое ожидает чудовищных революционных убийц. Более того, В. Левицкий, стремясь быть объективным, сообщает, что Союз русского народа не раз выступал с самым резким осуждением противоеврейских погромов — правда, вместе с тем утверждая, что погромы порождены экономической практикой евреев; так, председатель Главного совета Союза русского народа А. И. Дубровин заявил, что евреи «своими преступлениями довели до преступления русский народ» (с. 434), — то есть недвусмысленно определил погромы как преступление. Весьма выразительно и официальное заявление Союза русского народа от 10 ноября 1906 года: «Союзу русского народа в лице его Главного совета и местных отделов до сего времени приходилось прилагать немалые усилия к тому, чтобы предотвратить проявления дикого насилия и самосуда (выделено мною. — В.К.; вот действительная «черносотенная» характеристика погромов!) со стороны угнетенного евреями и крайне негодующего населения, особенно в Юго-Западном крае, и таким образом евреи в некоторых случаях обязаны мирным исходом недоразумений исключительно сдерживающему влиянию Союза русского народа» (с. 434). Кто-нибудь скажет, конечно, что это-де хорошая мина при дурной игре и что, делая такого рода публичные жесты, «черносотенцы» в то же время, мол, тайно организовывали погромы. Однако реальное положение вещей ясно говорит о другом. И Обнинский, и Левицкий доказывали, что Союз русского народа начал свою «агитацию» лишь в 1906 году; но в этом году, как мы видели, состоялись только три погрома в Польше и Латвии, а в Юго-Западном крае, где Союз русского народа действительно пользовался очень большим влиянием, погромов тогда не было вообще (в отличие от октября 1905 года). Так что реальная ситуация подтверждает процитированное заявление Союза русского народа или уж в крайнем случае не опровергает его. * * *В заключение этой главы целесообразно возвратиться к проблеме октябрьских — то есть совершившихся еще до образования «черносотенных» организаций — погромов. Как уже говорилось, В. П. Обнинский усматривал в них «таинственность»: никакие организации за ними не стоят, а размах погромных акций и количество жертв громадны… Современный исследователь С. А. Степанов, тщательно анализируя результаты погромов, столкнулся с еще одной «загадкой»: выяснилось, что в ходе октябрьских погромов погибли 1622 человека, и евреев среди погибших было 711 (то есть 43 %), а ранены были 3544 человека и в их числе 1207 евреев (34 %) (с. 56, 57). Стремясь понять, почему это так, С. А. Степанов пришел к следующему выводу: «Погромы не были направлены против представителей какой-нибудь конкретной нации» (с. 57). Позднее в беседе с корреспондентом он заявил еще более категорически: «…вы допускаете распространенную ошибку, называя погромы еврейскими… Погромы совершались… против революционеров, демократически настроенной интеллигенции и учащейся молодежи»{16}. Но это, без сомнения, неосновательное умозаключение уже хотя бы потому, что в большинстве захолустных селений, где в октябре 1905 года разразились погромы, попросту не имелось тех «категорий» людей, которые перечислены С. А. Степановым, а если и имелись, то в совершенно незначительных количествах. Иную «разгадку» дает в своей уже широко известной книге «Бесконечный тупик» (1988; издана в 1997) Д. Е. Галковский. Он исходит, в частности, из сообщения очевидца октябрьского погрома в Одессе Исаака Бабеля: «Евреев били на Большой Арнаутской… Тогда наши вынули… пулемет и начали сыпать по слободским громилам». Д. Е. Галковский комментирует эту цитату из Бабеля так: «Пулемет. В 1905 году, когда только-только поступил на вооружение (пулеметы вообще были употреблены впервые в англо-бурской войне 1899–1902 годов. — В.К.). Громилы били (кулаками), а по ним сыпали (из пулемета…) Ну что же, не было погромов? Были, конечно, были, — иронизирует Д. Е. Галковский. — Были еврейские погромы. В 80-х годах прошлого века их называли антиеврейские погромы. А потом приставка «анти» куда-то отвалилась. Так что были погромы. Еврейские. Вооруженные до зубов еврейские погромщики, часто в униформе, хладнокровно расстреливали… Или специально учиняли беспорядки, провоцировали русское население… Михаил Мандельштам, — цитирует Д. Е. Галковский, — изгаляется в своих послереволюционных мемуарах: «Кишиневский погром показал евреям, что на государство они рассчитывать не могут… и в следующем по очереди, гомельском, погроме (29 августа 1903 года. — В.К.) мы уже встречаемся с правильно организованной еврейской самообороной… Погром начали вышедшие из железнодорожных мастерских рабочие… на место действия прибежала еврейская самооборона. Ее выстрелами толпа погромщиков была рассеяна». То есть, — резюмирует Д. Е. Галковский, — это не что иное, как «расстрел безоружных рабочих»…» (примечание № 538). Со многим в этих суждениях нельзя согласиться, ибо вопрос о «пределах необходимой самообороны» исключительно сложен. Но представление о погромах — или хотя бы их части — не только как об «односторонних» нападениях, но о нападениях, которые в какой-то момент превращались нередко в «двустороннюю» схватку, в сражение, где к тому же побеждала другая сторона, без сомнения, верно. Этим и объясняется тот факт, что во время октябрьских погромов 1905 года людей других национальностей погибло и было ранено значительно больше, чем евреев. Но здесь же следует искать и разгадку самого этого невиданного размаха и накала октябрьских погромов, так удивлявших В. П. Обнинского, задававшегося вопросом об их «организаторах». Прежде всего следует обратить внимание на опять-таки загадочный факт: Д. С. Пасманик, собравший сведения о 600 октябрьских погромах, указал и все 660 мест, где они происходили. И нетрудно заметить (хотя это до сих пор не было сделано), что 545 из этих мест расположены на сравнительно небольших территориях, прилегающих к Киеву и Одессе. На этих территориях жило менее 20 процентов еврейского населения Российской империи, а между тем именно здесь в октябре 1905 года произошло более 80 (!) процентов всех погромов, и именно на этих территориях совершилось подавляющее большинство убийств. Кстати, и сам Д. С. Пасманик, как было отмечено, обратил внимание на ни с чем не сравнимое обилие погромов в указанных регионах, но не дал этому какого-либо объяснения. В книге С. А. Степанова собраны сведения о том, что как раз в Киеве и Одессе, а также в окрестных городах и селениях имели место особо сильные и решительные действия еврейской «самообороны» (хотя сам автор книги, так же как и Пасманик, не сделал из этого каких-либо выводов). Он сообщает, например, что в Киеве «сыновья Л. И. Бродского (известный сахарозаводчик-миллионер. — В.К.) застрелили из винтовок двух и ранили трех нападающих (в том числе по ошибке убили помощника пристава, охранявшего дом)», причем «власти ограничились легким порицанием» (с. 60). Зная об этом, уже не удивляешься цифрам, представленным в сборнике материалов о погромах, изданном С. М. Дубновым и Г. Я. Красным-Адмони: в октябре 1905 года в Киеве «во время погрома убиты были 47 человек, в том числе 25 % евреев», то есть 12 человек (с. 293; лиц других национальностей, следовательно, 35 человек). В городе Стародубе (между Киевом и Брянском), как сообщает С. А. Степанов, «явилась еврейская организация самообороны, состоящая из 150 человек молодых евреев, и револьверными выстрелами разогнала толпу громил» (с. 65); слово «разогнала» (часто еще говорилось «рассеяла») — это, конечно же, не очень точное «определение», это скорее эвфемизм, ибо пули ведь отнюдь не только «разгоняют»… Были и превентивные меры «самообороны»: «В черносотенные шествия в Одессе были брошены три бомбы. Охранка установила личность одного из покушавшихся… Им оказался анархист Яков Брейтман» (с. 54). Из этого ясно, что в резких суждениях Д. Е. Галковского есть своя правота. Он пишет, в частности: «…с одной стороны винтовки, а с другой — кулаки, с одной стороны сознательно организованная провокация, с другой — стихийная вспышка». А С. А. Степанов сообщает, что «11 мая 1905 года (то есть еще за полгода до погромов. — В.К.) в Нежине, уездном городе Черниговской губернии (в 120 км от Киева. — В.К.), были задержаны Янкель Брук, Израиль Тарнопольский и Пинхус Кругерский, которые разбрасывали воззвания на русском языке: «Народ! Спасайте Россию, себя, бейте жидов, а то они сделают вас своими рабами». Одновременно с этим в Чернигове сионисты-социалисты распространяли воззвания на еврейском языке, призывавшие «израильтян» вооружаться. В октябре 1905 года они шли на демонстрациях под знаменами с надписями «Наша взяла», «Сион»…» (с. 58). Как уже сказано, более 80 процентов октябрьских погромов 1905 года произошло «вокруг» Киева и Одессы, где, очевидно, были сильные центры еврейского сопротивления (а подчас, как выясняется, и превентивного действия). Сопротивление, в свою очередь, порождало ответные вспышки. Отсюда и удивляющее обилие погромных «очагов» в этих регионах. Свою роль, без сомнения, сыграли и те провокации, о коих сообщает С. А. Степанов. Не буду гадать о целях, которые преследовали эти провокации, но уже сами по себе они свидетельствуют, что проблема погромов более сложна и многозначна, нежели обычно полагают: мол, страшные громилы набрасываются на совершенно беспомощные и как бы не ожидавшие ничего подобного жертвы. Все вышеизложенное отнюдь не означает, разумеется, что «виноваты» были одни евреи. А. И. Дубровин справедливо назвал погромы «преступлением русского народа» (пусть оно и несовместимо по своим масштабам и жестокости с теми аналогичными преступлениями народов Западной Европы, о коих говорилось выше). И речь идет не о перекладывании вины на евреев, но лишь о том, чтобы выработать объективное представление о погромах в России и, в частности, показать, как использование евреями современного боевого оружия превращало погромы (в собственном смысле этого слова) в сражения, приводившие к сотням жертв. Вместе с тем совершенно ясно, что урон, понесенный евреями в России, был несоизмеримо меньшим, чем урон, выпавший на их долю в аналогичных ситуациях в странах Запада. Возможно, это объясняется самим национальным характером восточных славян (Д. С. Пасманик упомянул, что те же самые крестьяне, которые грабили евреев, спасали их при угрозе убийства). В связи с этим целесообразно сказать еще о ложности широко пропагандируемого представления, что погромы привели к повальной эмиграции, к бегству евреев из России (как когда-то с Запада), главным образом в США. С первого взгляда может показаться, что это действительно так: ведь в 1880–1890-х годах из России выехали (по подсчетам ЕЭ) примерно 550 тысяч евреев, а в 1900–1913-х — около 860 тысяч (то есть эмиграция возрастала). Естественно возникает соблазн видеть в этом повторение того, что произошло в конце Средневековья с евреями Западной Европы, перед которыми стояла дилемма: либо быть уничтоженными, либо бежать в Восточную Европу. Но едва ли такое сравнение сколько-нибудь уместно. Во-первых, несмотря на громадность эмиграции, еврейское население Российской империи продолжало расти. Как показано в ЕЭ, эмигрировали в 1880–1913 годах в среднем 50 тысяч человек в год (то есть приблизительно 1 процент еврейского населения), и все же (цитирую) «эмиграция, однако, не в силах поглотить весь годичный прирост населения (еврейского. — В.К.), исчисляемый примерно в 1,5–2 %», то есть рождаемость обеспечивала прирост на 75–100 тысяч человек в год (в полтора-два раза больше эмиграционного «убытка»!) (т. 16, с. 265). И если в 1897 году в империи было 5 млн. 60 тыс. евреев, то в 1917-м — 7 млн. 250 тыс. (Народы России. Энциклопедия. М., 1994, с. 25). Во-вторых, — и это наиболее важно — эмиграция в своей основе явно была вызвана не погромами, а совсем иными причинами. Это неоспоримо доказано специалистом в данной области К. Форнбергом (И. X. Розенбергом). Он родился в 1871 году в России, а с 1903 года жил в США, продолжая тесно сотрудничать с еврейскими учеными России. Опираясь на знание ситуации и в США, и в России, он подготовил скрупулезное исследование о еврейской эмиграции, в котором доказал, что нельзя «объяснить эту эмиграцию исключительно или даже главным образом политическими причинами» (ЕЭ, т. 2, с. 239). Правда, если исходить из содержания его исследования в целом, станет ясно, что даже и эта формулировка неточна и вызвана давлением пропагандистской версии о бегстве евреев из «погромной» России; «политическими причинами» нельзя объяснить эмиграцию евреев из России не только «главным образом», но нельзя вообще. Ибо ведь К. Форнберг убедительно доказал (в том числе с помощью наглядных схем-диаграмм), что в конце XIX — начале XX века рост эмиграции евреев из России в США целиком и полностью соответствовал росту их тогдашней эмиграции в США вообще (то есть из любой страны) и, более того, росту всей европейской (а не только европейских евреев) эмиграции в США (так, в 1880–1890-х гг. в США эмигрировали в целом 8,5 млн. человек и в том числе 550 тыс. российских евреев, а в 1900–1913 гг. — 13 млн. человек и в том числе 860 тыс. российских евреев: таким образом, рост эмиграции в целом и еврейской — почти одинаковы: на 53 % и на 56 %). Но дело не только в этом. К. Форнберг показал, что «еврейская эмигрирующая масса почти целиком состоит из бедняков» (т. 2, с. 244). И особенно выразительны такие данные: в Российской империи торговцы составляли 38,6 процента еврейского населения; между тем в числе эмигрантов в США торговцев было всего-навсего 0,9 процента! 88,2 процента эмигрантов составляли мелкие еврейские ремесленники и люди, находившиеся «в личном и домашнем услужении»; а между тем в составе уже «натурализовавшегося» еврейского населения США торговцев было 29,3 процента. Это означает, что многие прибывшие в США ремесленники и прислуга добивались здесь своих целей (т. 2, с. 244). Хорошо известно, что именно торговцы были первыми и главными жертвами погромов; более всего громились магазины, шинки и лавки. Но, оказывается, как раз торговцы-то, в сущности, вообще не эмигрировали из России (менее одного процента эмигрантов…). Все это не значит, что погромы вообще не влияли на тех или иных отдельных эмигрантов; однако К. Форнерг убедительно доказал, что массовая эмиграция евреев из России в США вызывалась все же другими причинами — прежде всего специфическими «возможностями», присущими тогдашней экономической ситуации в США, где «шанс» разбогатеть был намного более вероятным, нежели в России. * * *Итак, погромы, имевшие место в Российской империи, невозможно, немыслимо сопоставлять с «катастрофами», пережитыми в свое время евреями Западной Европы, когда вопрос стоял категорически — либо бегство, либо гибель — и когда, по сведениям ЕЭ, погибли 380 000 человек, 40 процентов тогдашнего мирового еврейства. В России же погибли менее 1000 человек; но и это явно было обусловлено схватками погромщиков с еврейской «самообороной», схватками, в которых погибло больше погромщиков, нежели евреев (кстати, никаких сведений о сопротивлении евреев во время их западноевропейской катастрофы нет; по-видимому, оно было абсолютно невозможно). Достаточно часто погромы в России «сопоставляют» с другой, позднейшей катастрофой, пережитой евреями Европы в период господства германского нацизма. Это, прямо скажем, наглейшее сопоставление несопоставимого; ведь в 1940-х годах погибло — как утверждают — от 4 до 6 миллионов евреев (то есть от 40 до 60 процентов еврейского населения Европы) и «ставилась задача» их полного уничтожения. Между тем в российских погромах, нередко превращавшихся, как мы видели, в сражения, погибло менее одной тысячи евреев (то есть 0,0002 процента евреев России) и примерно столько же людей других национальностей. И все же это сопоставление стало излюбленным занятием многих профессиональных русофобов… Один из наиболее влиятельных из них — живущий в США Уолтер Лакер — считает почему-то нужным присылать мне свои сочинения. В одном из них он пишет, что-де «Kozhinov one of the most eloquent and erudite spokesmen of Russian party»{17}; однако у меня нет никаких оснований вернуть ему комплимент — пусть даже и с указанием на его принадлежность к «Anty-Russian party». В 1991 году Лакер издал объемистую книгу «Россия и Германия. Наставники Гитлера», где пытается «доказать», что Союз русского народа будто бы ставил перед собой задачу физического уничтожения еврейского народа, «предвосхитив» тем самым германский нацизм. «Доказательства», которые пускает в ход Лакер, представляют собой беззастенчивую фальсификацию. Так, он ссылается на произнесенную в апреле 1911 года речь «черносотенного» депутата Государственной Думы Н. Е. Маркова, утверждая, что-де (цитирую) «как Марков считал, все евреи «до последнего» должны быть перебиты в предстоящих погромах. Союз (русского народа. — В.К.) внес свою лепту в воплощение этой идеи в жизнь, организуя жестокие погромы»{18}. Лакер явно надеялся, что никто не будет проверять его «информацию» по стенограммам думских заседаний. Вот что сказал тогда Н. Е. Марков, обращаясь к депутатам, постоянно и нередко яростно отстаивавшим интересы евреев: «В тот день, когда при вашем соучастии, господа левые, русский народ убедится окончательно в том, что… уже нет возможности обличить на суде иудея… в тот день, господа, будут еврейские погромы. Но не я накличу эти погромы и не Союз русского народа; вы создадите погром, и этот погром не будет таким, какие бывали до сих пор, это не будет погром жидовских перин, а всех жидов начисто до последнего перебьют»{19}. «Излагая» речь Маркова, Лакер употребил давно опробованный прием фальсификации. Начиная с 1917 года постоянно утверждалось, например, что знаменитый предприниматель П. П. Рябушинский призывал своих единомышленников придушить русский народ «костлявой рукой голода». Между тем Павел Павлович сказал 3 августа 1917 года на торгово-промышленном съезде следующее: «К сожалению, нужна костлявая рука голода и народной нищеты, чтобы она схватила за горло лжедрузей народа, членов разных комитетов и советов, чтобы они опомнились»{20}. Итак, и в том, и в другом случае речь шла о чреватой тяжелейшими последствиями политике левых сил, но оба высказывания были лживо перетолкованы как призывы к злодейским акциям правых. Однако главная ложь Лакера даже не в этом: он пытается внушить, что после речи Маркова Союз русского народа «организовал жестокие погромы», хотя не может не знать, что никаких погромов в то время не было! И все это — ради мифа или, точнее, блефа о том, что «черносотенцы» были-де «наставниками Гитлера». >Глава 5 Истинная причина травли «черносотенцев» Уже после того как предыдущая глава («Правда о погромах») была опубликована, я познакомился с содержательным обзором изданной в 1992 году Кембриджским университетом пространной (почти 400 страниц) книги, посвященной именно погромам в России; этот коллективный и международный по составу авторов научный труд озаглавлен так: «Погромы: противоеврейское насилие в новейшей русской истории»{1}. И я, признаюсь, с глубоким удовлетворением воспринял тот факт, что основные выводы авторов этого новейшего труда во многом совпадают с выводами, предложенными мною в главе «Правда о погромах». В труде, о котором пойдет речь, весьма критически оценено большинство предшествующих сочинений о погромах в России. Как говорится в обзоре, «в устоявшейся десятилетиями историографии этого вопроса (вопроса о погромах. — В.К.) безраздельно господствовало мнение… что погромы — результат прямого вмешательства царского правительства или по крайней мере созданных им организаций типа… «Союза русского народа»…»{2}. Авторы труда, по сути дела, отвергают это «мнение». Так, историк из Израиля Михаэль Аронсон доказывает, что как раз напротив, «погромы явились неожиданными» и для правительства России, и для «черносотенцев». Вполне понятно, что ни о каком «руководстве» не может быть и речи, если погромы, по словам Аронсона, явились неожиданностью и для царя и его министров, «посчитавших погромы делом рук анархистов… и даже для редакторов антисемитских газет (о понятии «антисемитизм» еще пойдет речь. — В.К.)»{3}. Я писал в главе «Правда о погромах», что погромы в России начались в силу экономической ситуации, создавшейся через два десятилетия после реформы 1861 года. М. Аронсон говорит то же самое; по его определению, причина погромов — «ускоренная модернизация и индустриализация, проходившая в России между 1860 и 1880 гг.» (там же). Правда, много лет активно пропагандируемое «мнение» не преодолено в рассматриваемом труде до конца. Так, один из авторов труда, Роберт Вайнберг, всерьез воспринимает прозвучавший в 1906 году в зале Государственной думы из уст либеральничавшего князя С. Д. Урусова анекдот, согласно которому полицейский ротмистр Комиссаров заверял: «Погром можно устроить какой угодно, хотите — на десять человек, хотите — на 10 тысяч». Особенно забавно, что на той же странице обзора совершенно верно утверждается (как и в моей главе «Правда о погромах»): «Правительство страшилось любого народного насилия, включая погромы, видя в них угрозу существующему порядку» (там же). И, конечно же, офицер полиции, действительно предлагавший «устроить погром», был бы по меньшей мере уволен со службы. Но, несмотря на «отрыжки» прежнего долго господствовавшего «мнения», общий итог труда формулируется так: «И все же скорее не правы «историки-традиционалисты» (Дубнов, Гринберг, Моцкин), писавшие о «погромной политике царизма»…» (с. 233–234). Как видим, в этом выводе есть смягчающие «оговорки» («все же», «скорее»), но нельзя не учитывать, что потребовалась, если угодно, своего рода смелость для опубликования такого вывода, ибо несогласие с «мнением» о якобы имевшей место «погромной политике царизма» еще и сегодня вполне может быть квалифицировано как «махровый антисемитизм»! Ведь об этой «политике» в течение нескольких десятилетий постоянно и категорически писали многие авторитетные в еврейских кругах историки. В цитируемом обзоре совершенно верно сказано, что «мнение» о руководящей роли «царского правительства» и Союза русского народа в погромах «безраздельно господствовало», а шло оно, это мнение (цитирую) «от статей революционных публицистов-современников, а также Нестора русско-еврейской историографии — С. Дубнова и вплоть до маститого недавно скончавшегося израильского историка Ш. Эттингера» (с. 232). Здесь я не могу не высказать определенные полемические соображения. Если верить приведенной цитате, до появления нынешнего труда все еврейские и либеральные авторы, писавшие о погромах в России, возлагали вину за них на правительство и Союз русского народа. Не знаю, как это получилось, но в данном случае выявляется недостаточная историографическая осведомленность авторов труда. В моей главе «Правда о погромах» цитировались работы и наиболее серьезных «революционных публицистов-современников» — В. Обнинского и В. Левицкого, и видных еврейских ученых начала века — Д. С. Пасманика и Ю. И. Гессена, которые отнюдь не разделяли «мнение» об организации погромов правительством и Союзом русского народа. Авторы нынешнего труда, в сущности, возвращаются к этой объективной точке зрения, отказываясь от версии, которая стала «безраздельно господствовать» позднее, после 1917 года. И еще одно частное полемическое замечание. В вошедшей в труд статье исследователя из США Александра Орбаха «Развитие российской еврейской общины в 1881–1903 гг.» речь идет о долгой подготовке решительного еврейского сопротивления погромам. Так, А. Орбах утверждает, что «немедленные ответы на Кишинев, активная самооборона… были… плодами более чем двадцатилетних усилий» (с. 235). Под «немедленными ответами» на погром в Кишиневе, разразившийся в апреле 1903 года, имеются в виду прежде всего активнейшие действия хорошо вооруженного еврейского отряда в Гомеле в августе того же года. Тема боевого сопротивления погромам весьма важна, ибо, как показано в моей предыдущей главе, именно здесь кроется причина сотен человеческих жертв в погромах начала XX века, которые нередко из погромов в истинном смысле этого слова превращались в сражения. Следовало бы только сказать (и в этом мое замечание), что вооруженное сопротивление евреев имело место и в Кишиневе, но оно было плохо организовано, и потому евреев погибло намного больше, чем разъяренных их выстрелами невооруженных погромщиков. А всего через четыре месяца в Гомеле дело обстояло уже обратным образом: убитых и раненых погромщиков было больше, чем евреев. Говоря о новейшем труде еврейских историков, нельзя не упомянуть о «русоведе» Уолтере Лакере, чьи нелепые россказни рассматривались в предыдущей главе. Едва ли стоит сомневаться в том, что и после выхода в свет этого труда Лакер и ему подобные по-прежнему будут распространять свои абсолютно лживые рассуждения и о «погромной политике царизма», и о якобы прямом предшественнике нацизма — Союзе русского народа, который-де ставил своей задачей в «организуемых» им (по словам Лакера) «жестоких погромах» уничтожить шесть с лишним миллионов евреев, живших в тогдашней России. После издания кембриджского труда особенно неприглядной становится фигура этого враля, облеченного тем не менее почетными научными титулами и должностями. Естественно возникает вопрос: как воспринимают его писания объективные историки, хотя бы те, которые приняли участие в кембриджском труде? Мне хорошо известно, что идеологический тоталитаризм в США, хотя он во многих отношениях совсем не похож на тоталитаризм коммунистического образца, имеет огромную силу и влияние, и никакое даже самое авторитетное сообщество ученых не способно ему противостоять. И все же хочется надеяться, что профессиональные лжецы в обличье историков когда-нибудь получат в США прямой отпор объективных исследователей. * * *Итак, обвинение «черносотенцев» в организации противоеврейских погромов — чистейшей воды блеф, что признают сегодня, как мы видели, и еврейские историки, стремящиеся к действительному изучению проблемы. И вот тут мы впрямую сталкиваемся с исторической «загадкой»: почему и зачем «черносотенцев» превратили в нечто чудовищное, в каких-то прямо-таки титанических злодеев, которые, по уже цитированному определению «Малой советской энциклопедии» 1931 года, «залили страну морем крови»? Ведь ничего подобного не было и в помине, и если уж говорить о «крови», то во время наибольшего подъема «черносотенного» движения ее беспощадно лили как раз всякого рода красносотенцы, которые, по убедительным подсчетам историка из тех же США Анны Гейфман, убили в 1900-х годах около 17 тысяч человек{4} («черносотенцам» же приписывают, как было показано выше, максимум три убийства). Конечно, 17 тысяч — незначительное количество в сравнении с убитыми после 1917 года, но все же нельзя не задуматься о поистине диком несоответствии: красносотенцы убивают тысячи и тысячи людей, а в общественное сознание вбивается заведомая ложь о «море крови», пролитом «черносотенцами»… Итак, ради чего же всячески клеветали на «черносотенцев», превращая их в как бы ни с чем не сравнимых чудовищ? Из изложенных в этой моей книге (в ее целом) фактов естественно вытекает вывод: «вина» Союза русского народа и «черносотенцев» вообще заключалась не в каких-либо действиях (ибо если не все, то абсолютное большинство их «акций» выдумано их противниками), но в словах, — в том, что они писали и говорили. Выше не раз цитировалась, например, более или менее объективная работа В. Левицкого «Правые партии» (1914), где обвинения в адрес «черносотенцев» целиком и полностью относятся к произнесенным ими речам и опубликованным ими статьям. Да, «вина» этих чудовищных «черносотенцев» состояла, по сути дела, в том, что они говорили (как впоследствии стало вполне очевидно) правду о безудержно движущейся к катастрофе России — правду, которую никак не хотели слышать либералы и революционеры. Видный «черносотенный» деятель П. Ф. Булацель обращался в 1916 году к либеральным депутатам Думы: «Вы с думской кафедры призываете безнаказанно к революции, но вы не предвидите, что ужасы Французской революции побледнеют перед ужасами той революции, которую вы хотите создать в России. Вы готовите могилу не только «старому режиму», но бессознательно вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан. Вы создадите такие погромы, такие варфоломеевские ночи, от которых содрогнутся даже «одержимые революционной манией» демагоги бунта, социал-демократии и трудовиков!»{5} Можно издать несколько томов, состоящих из таких провидческих высказываний «черносотенцев». Но либералы (не говоря уже о революционерах) с пеной у рта оспаривали эти точные прогнозы или просто высмеивали их. Вместе с тем речи и статьи «черносотенцев» представлялись им очень опасными для их целей; они полагали (и, кстати, как будет показано ниже, совершенно напрасно), что «черносотенцы» способны убедить широкие слои народа в необходимости сопротивляться «прогрессу»; при этом, как уже говорилось, «черносотенцы» относились к «прогрессу» гораздо более непримиримо, чем российские власти. Именно поэтому на «черносотенцев» и обрушивался непрерывный град всяческих «разоблачений», именно потому их стремились всеми возможными способами дискредитировать и шельмовать. Разумеется, «черносотенные» идеологи в своей борьбе против Революции проявляли нередко крайнюю резкость, и, конечно, далеко не каждое их утверждение было справедливо и точно. Но, во-первых, они вели все же именно идеологическую борьбу, их оружием было слово, а во-вторых, в основе своей их понимание сути Революции и предвидение ее катастрофических последствий были все же совершенно правдивыми и удивительно прозорливыми. Говоря об этом, не могу не коснуться вопроса, который поставил в своем письме один из моих читателей. Он выразил недоумение по поводу того, что, несмотря на совершенно очевидную ныне правоту «черносотенцев», вполне ясно предвидевших, к чему приведет страну Революция, последняя все же победила. Позволю себе сказать, что читатель этот недостаточно внимателен. Мне представляется, что в главе «Что такое Революция?» я достаточно определенно и доказательно писал о безусловной неизбежности победы Революции. Речь шла там об исключительно, невероятно мощном и стремительном развитии, росте России с 1890-х годов — том заведомо чрезмерном росте, который и не мог иметь иного итога, только революционный взрыв. К уничтожению существующего порядка самым активным образом стремились обладавшие громадными капиталами предприниматели, способная мощно воздействовать на умы и души интеллигенция и могущий выставить организованные человеческие массы рабочий класс. Разумеется, цели и интересы этих сил были нередко глубоко различны, но их объединяла уверенность в том, что для осуществления их постоянно растущих вожделений необходимо разрушить или хотя бы коренным образом изменить сложившийся за века строй бытия России. Впрочем, не буду повторяться и просто отошлю недоумевающих к указанной главе этого моего сочинения. Рассмотрю только одну очень выразительную историческую ситуацию. С апреля 1906 года по февраль 1917 года в России имело место двоевластие — власть правительства во главе с царем и, с другой стороны, власть — правда, это была в большей мере власть над общественным сознанием, чем практическая, — Государственной думы. Вначале Дума выступала как почти открыто революционная сила, затем правительство предприняло различные меры для того, чтобы в состав каждой новой Думы (их было четыре) попало как можно меньше «левых» депутатов. Но вот что в высшей степени показательно: в конечном счете каждая Дума оказывалась все же в оппозиции к правительству — притом, по мере течения времени, нараставшей оппозиции. При этом необходимо учитывать реальный механизм формирования правительства и Думы. Первое создавалось — при всех возможных оговорках — как бы из самого себя, по воле царя и немногих ближайших к нему лиц. Думу же — опять-таки при любых оговорках — создавала все же страна в целом — те волости, уезды, города, губернии, которые, несмотря на вводимые правительством ограничения, в той или иной степени проявляли свою волю при выборах депутатов. И постоянно возникавшее и нараставшее стремление Думы «свалить» правительство в конечном счете выражало волю страны или, точнее, ее наиболее активных сил. Эта ситуация приобретает особенную ясность при сопоставлении с нынешним соотношением правительства и Думы (ранее — Верховного Совета). Нередко те или иные современные публицисты предпринимают такое сопоставление, но, как правило, почему-то не замечают противоположности тогдашнего (перед 1917 годом) и теперешнего соотношения позиций двух властей. Нынешняя Дума (ранее Верховный Совет) все-таки — при любых возможных оговорках — тоже создавалась страной, а правительство, если говорить начистоту, несколькими десятками людей в Москве, которые и «выбирали» остальных правительственных лиц, пусть даже иногда из самой «глубинки». Но вместе с тем ясно, что дореволюционная Дума была в основе своей «прогрессивна», а сегодняшняя — за исключением отдельных «фракций» — «консервативна». Но это ведь означает, что и страна ныне (в отличие от ее устремлений в начале XX века) «консервативна», что она против того «прогресса» (в действительности, конечно, совершенно мнимого), который, скажем, уже поставил экономику «на уровень краха» (по выражению самого тов. Ельцина, полагающего, вероятно, что его слова нужно воспринять не как порожденное неожиданным испугом саморазоблачение, а как некую констатацию положения, созданного неизвестно кем). В дальнейшем я специально обращусь к сопоставлению двух исторических ситуаций — перед 1917 годом и нынешней. Пока скажу только, что вопреки многим поверхностным и невежественным (хотя и всячески рекламируемым) сегодняшним идеологам, твердящим о какой-то близости или даже родстве этих ситуаций, они в действительности прямо противоположны по самой своей сути. И это, в частности, с очевидностью обнаруживается в прямой противоположности соотношения между «программами» правительства и, с другой стороны, Думы (и страны) перед 1917 годом и сегодня. Перед 1917 годом у «черносотенцев» не было ровно никаких «шансов» на победу. И, как уже отмечено, опасения и подчас даже откровенный страх либералов перед угрозой мощного «черносотенного» отпора были совершенно беспочвенными. В этих опасениях лишний раз выражалась недальновидность либеральных идеологов, их неспособность понять реальный ход истории. В отличие от них, многие «черносотенные» идеологи уже с конца 1900-х годов более или менее ясно сознавали свою обреченность на поражение, что совершенно открыто высказано в их личных дневниках и письмах (в менее прямой форме это сознание проступало в их статьях), — например, в недавно опубликованных шестидесяти письмах, о которых я уже говорил выше{6}. Достаточно внимательно прочитать эти письма, чтобы убедиться: целый ряд их авторов шел по своему пути, вовсе не рассчитывая на победу. Их заставляло говорить и писать чувство патриотического долга и, во-вторых, вера в то, что в конечном счете — может быть, уже не при них, а при их потомках — Россия преодолеет катаклизм, через который ей неизбежно предстоит пройти… Глубокое понимание своей обреченности, присущее многим «черносотенцам», раскрыто на основе архивных материалов в изданном в 1990 году очередном обстоятельном исследовании Ю. Б. Соловьева «Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг.» (ранее вышли его книги, посвященные изучению соотношения тех же сил в конце XIX века и в 1902–1907 годах). Правда, Ю. Б. Соловьев в этом своем рассказе не избежал соблазна всячески раздуть распри и интриги в среде «черносотенцев» — как будто таких явлений не было во всех других тогдашних партиях — от октябристов (чего стоит, например, история одного из главных октябристских лидеров — А. Д. Протопопова!) до большевиков. И ведь в конце концов именно сознание безнадежности борьбы обостряло отношения между самими «черносотенцами» и подчас толкало их к различным авантюрам. Но так или иначе историк впечатляюще показал, что, полностью осознавая неизбежность поражения, видные «черносотенные» идеологи Л. А. Тихомиров, А. А. Киреев, Б. В. Никольский, А. Б. Нейдгардт (брат супруги П. А. Столыпина), К. Н. Пасхалов все же продолжали идти избранной ими дорогой, являя собой, в сущности, своего рода донкихотов; Ю. Б. Соловьев, понятно, не употребляет это определение, но некоторые либералы, до 1917 года проклинавшие «черносотенцев», позднее, уже в эмиграции, называли их именно донкихотами{7}. Могут возразить, что это определение, как правило, несет в себе иронический смысл, однако ведь «черносотенцы», в отличие от «типичных» донкихотов, знали о своей грядущей судьбе! И стоит еще раз повторить, что даже и в этом ясном предвидении поражения выразилось превосходство «черносотенцев» над либералами, страшившимися победы своих непримиримых противников и постоянно занимавшимися их «разоблачением» и дискредитацией. Но самое примечательное и вместе с тем загадочное состоит в том, что и после победы Революции, когда «черносотенцы» оказались в полном смысле слова объявленными «вне закона» и их без всяких «формальностей» расстреливали, продолжалась — и продолжается до сих пор! — оголтелая атака на них, в ходе которой вдалбливается в умы представление, согласно которому «черносотенцы» были опаснейшими и сильнейшими злодеями, залившими — или, по крайней мере, пытавшимися залить — Россию «морем крови». Выше цитировалась, например, статья из «Правды» 1921 года, в которой «русские трудящиеся массы» запугивали уверением, что «черносотенцы» готовятся отправить эти массы «на плаху». При этом имелись в виду всего несколько десятков спасшихся от расстрелов и собравшихся в немецком городке Рейхенгалле «черносотенцев»… Позднее было бы уж совсем нелепо писать о подобной прямой «угрозе», но «черносотенцев» продолжали при каждом подходящем случае проклинать и преподносить как нечто устрашающее. И, как становится вполне очевидным при изучении всех обстоятельств, главной причиной столь долгого — вплоть до наших дней — и неослабевающего натиска на «черносотенцев» являлись не выступления против Революции, но та часть их речей и статей, в которых они обращались к еврейской проблеме. Об этом неопровержимо свидетельствует уже тот факт, что, согласно нынешним представлениям преобладающего, даже, пожалуй, абсолютного большинства людей, «черносотенцы» боролись не против Революции, но именно и только против евреев. Здесь необходимо уяснить, что к моменту начала «черносотенного» движения в силу целого ряда различных обстоятельств и тенденций установилось такое положение, что любое — именно любое — критическое суждение в адрес евреев оценивалось в интеллигентской среде как нечто совершенно недопустимое; те, кто «позволял» себе высказать публично такие суждения, становились поистине отверженными. Об этом правдиво и ярко сказал в 1909 году в письме своему другу, известному тогда литератору Ф. Д. Батюшкову (внучатому племяннику поэта) Александр Куприн. Говоря о негативных сторонах деятельности еврейства, писатель констатировал: «…мы об этом только шепчемся в самой интимной компании на ушко, а вслух сказать никогда не решимся. Можно печатно иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуй-ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг поднимется… И так же, как ты и я, думают — но не смеют сказать об этом — сотни людей» (из числа литераторов). И закончил Куприн свое послание так: «Сие письмо, конечно, не для печати и не для кого, кроме тебя. Меня просит Рославлев подписаться под каким-то письмом ради Чирикова (русский писатель, которого тогда травила еврейская печать; см. об этом воспоминания Евгения Чирикова в «Нашем современнике», 1991, № 6. — В.К.). Я отказался»{8}. Тем самым Куприн как бы неопровержимо заверил правоту своего диагноза: критически отзываться о евреях невозможно. Кто-либо может предположить, что Куприн все же преувеличивал. Но вот чрезвычайно выразительные суждения по поводу того же «дела Чирикова», опубликованные в том же 1909 году одним из крупнейших еврейских деятелей XX века В. Е. Жаботинским. Он писал, что когда Чириков и Арабажин (критик, его поддержавший) «уверяют, что ничего антисемитского не было в их речах, то они оба совершенно правы. Из-за того, что у нас считается очень distingul (благовоспитанным. — франц.) помалкивать о евреях, получилось самое нелепое следствие: можно попасть в антисемиты за одно слово «еврей» или за самый невинный отзыв о еврейских особенностях. Я помню, как одного очень милого и справедливого господина в провинции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтительный доклад о литературной величине Надсона… То же самое теперь с г. Чириковым. Хороши или плохи русские бытовые пьесы последних лет, я судить не берусь, но г. Чириков совершенно прав, когда говорит, что глубоко почувствовать их может только русский, для которого Вишневый Сад есть реальное впечатление детства, а не еврей. Если бы г. Чириков сказал: «а не поляк», никто бы в этом не увидел ничего похожего на полонофобию. Только евреев превратили в какое-то запретное табу, на которое даже самой безобидной критики нельзя навести, и от этого обычая теряют больше всего именно евреи, потому что, в конце концов, создается такое впечатление, будто и само имя «еврей» есть непечатное слово…»{9} Такая, в сущности, абсурдная «ситуация» была создана к началу XX века. Ныне, в конце XX века, это положение поистине доведено до предела во всех так называемых «цивилизованных» странах, исключая разве только Японию, где, впрочем, почти нет евреев. Можно бы привести бесчисленные примеры прямо-таки идиотских случаев обвинения тех или иных людей в «антисемитизме». Сошлюсь только на один. Много лет плодотворно работает русский историк Р. Г. Скрынников, изучающий главным образом явления и события второй половины XVI — начала XVII века. Он, без сомнения, является сегодня наиболее значительным исследователем этого периода истории России. И вот в США в журнале «Russian Review» (Ohio) появляется отклик на работы Р. Г. Скрынникова. Как сообщается в № 2 «Вопросы истории» за 1994 год, адъюнкт-профессор Техасского университета Честер Даннинг, характеризуя одну из книг историка, «отмечает наличие полезных фактических уточнений, но в целом считает ее малооригинальной… Даннинга шокируют места в книге, звучащие антисемитски» (с. 189; нет сомнения, что вторая фраза «объясняет» низкую оценку вполне заслуживающей одобрения книги). «Антисемитскими» являются в глазах рецензента следующие «места» в книге Р. Г. Скрынникова «Смута в России в начале XVII в.» (Л., 1988, с. 201–202), посвященные самозванцу Лжедмитрию II («тушинскому вору»), претендовавшему на русский престол в 1607–1610 годах: «Иезуиты произвели собственное дознание о происхождении самозванца и… утверждали, что имя сына Грозного принял некий Богданка, крещеный еврей, служивший писцом при Лжедмитрии I. Иезуиты весьма точно описали жизнь самозванца в Могилеве… После восшествия на престол в 1613 году Михаил Романов официально подтвердил версию о еврейском происхождении «тушинского вора»… Филарет Романов (двоюродный брат последнего царя-Рюриковича — Федора Иоанновича и отец первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. — В.К.) долгое время служил самозванцу в Тушине и знал его очень хорошо, так что Романовы говорили не с чужого голоса. Сохранилась польская гравюра XVII века с изображением самозванца. Польский художник запечатлел лицо человека, обладавшего характерной внешностью. Гравюра подтверждает достоверность версии о происхождении Лжедмитрия II, выдвинутой Романовыми и польскими иезуитами независимо друг от друга. После гибели Лжедмитрия II стали толковать, что в бумагах убитого нашли Талмуд и еврейские письмена. Царя в России называли светочем православия. Смута все перевернула. Лжедмитрий I оказался католиком. «Тушинский вор» (Лжедмитрий II. — В.К.) — тайным иудеем». Р. Г. Скрынников сообщает также, что перед своим «превращением» в сына Ивана Грозного будущий самозванец прислуживал в доме священника в Могилеве… За неблагонравное поведение священник высек его и выгнал из дома… В этот момент его и заприметили ветераны московского похода Лжедмитрия I. Один из них, пан Меховецкий, обратил внимание на то, что голодранец «телосложением похож на покойного царя» (с. 194), то есть Лжедмитрия I, и уговорил его стать самозванцем. Несомненно, есть немалые основания объявить эти сообщения русофобскими. Подумайте только: какое-то ничтожество, к тому же высеченное за «неблагонравное поведение», очень многие русские люди признали царем; ему долго «служил» будущий Патриарх Всея Руси и отец первого Романова Филарет! Впрочем, что поделаешь — это горестная для русских историческая правда Смутного времени, с которой приходится смириться. Но каким образом в изложении почерпнутых из достоверных источников (к тому же независимых друг от друга) биографических сведений об одном жившем почти 400 лет назад еврее усматривают «антисемитизм» — это, в сущности, непонятно. А особенно странно и даже возмутительно, что выходящий в Москве журнал «Вопросы истории», сообщая об инсинуации техасского адъюнкт-профессора, никак не выразил своего отношения к ней и тем самым фактически к ней присоединился… По-видимому, редакция журнала хотела продемонстрировать свою принадлежность к современной «цивилизации», которая напрочь запрещает публиковать какие-либо не могущие вызвать чувства восторга сведения, относящиеся к евреям. Это историографическое отступление достаточно ясно показывает, до каких «крайностей» дошла ныне «борьба с антисемитизмом», широко развернувшаяся в России еще в начале XX века. И вполне очевидно, что главная «вина» всех тогдашних «черносотенцев» состояла именно в том, что они не подчинялись запретам и осуществляли свободу слова в еврейском вопросе. Их постоянно обвиняли в том, что их публичные выступления будто бы вызывали погромы. Но это была безусловная ложь: как показано в предыдущей главе, погромы — за исключением тех, которые в 1906 году имели место в Польше и Латвии, — разразились до того, как вышел первый номер газеты Союза русского народа и прозвучали первые публичные речи его ораторов, а после 1906 года противоеврейских погромов вообще не было. Напомню также, что председатель Союза русского народа в 1906 году печатно определил погромы как «преступление». Таким образом, дело шло именно и только о свободе слова в одной из очень существенных проблем общественной жизни России. И в глазах нынешних «обличителей» главная «вина» всех «черносотенцев» — их несогласие с запретом на любую критику евреев. В настоящее время это понемногу начинают признавать все стремящиеся к сколько-нибудь объективному освещению событий авторы. Так, в издающемся сейчас правительственном (учрежденном в 1992 году Государственной архивной службой Российской Федерации) журнале «Исторический архив» читаем: «20 сентября 1918 года Меньшиков (речь идет о выдающемся «черносотенном» публицисте. — В.К.) был расстрелян на берегу Валдая. Его обвинили в организации монархического заговора и издании подпольной черносотенной газеты, призывающей к свержению Советской власти. На самом деле Меньшикова настигла месть за статьи антисемитского характера»{10}. Стоит отметить, что авторы этого текста, В. Ю. Афиани и М. В. Бельдова, раскрывая истинный смысл жесточайшего послереволюционного террора против «черносотенцев» (на тех же «основаниях», что и М. О. Меньшиков, были тогда расстреляны Б. В. Никольский, А. И. Дубровин, священник И. И. Восторгов и многие другие), вместе с тем в избранной ими формулировке «настигла месть» (речь идет о расстреле за уже давние статьи!), по сути дела, оправдывают палачей, которые к тому же — о чем умалчивают авторы — убили М. О. Меньшикова «на глазах… шестерых малолетних детей…»{11} * * *Как уже говорилось, необходимо разобраться в самом этом слове, этом термине «антисемитизм», который издавна употребляют в качестве почти безотказного оружия. В словарях «антисемитизм» определяется как «вражда», «ненависть», «непримиримое отношение» к евреям, — подразумевается, понятно, к евреям вообще, то есть всем людям, имеющим, так сказать, «несчастье» принадлежать к этой национальности, — совершенно независимо от их воззрений и поступков. Вполне естественно, что антисемитизм в этом действительном значении сего слова неприемлем для преобладающего большинства людей мыслящих, способных подняться над охватившей их в силу каких-либо жизненных обстоятельств чисто эмоциональной настроенностью, — хотя, конечно, были и есть люди, порабощенные такой настроенностью. Были этого рода люди и в орбите «черносотенцев», однако те, кто обвиняет в антисемитизме движение в целом и его основных деятелей, заведомо лгут или в лучшем случае заблуждаются. Это становится ясно хотя бы из следующего достаточно знаменательного факта. В своем уже не раз упомянутом обстоятельном обзоре событий 1905–1908 годов левый кадет В. П. Обнинский писал, как в разгар революционных событий влиятельный «черносотенец», богатый рыботорговец И. И. Баранов произнес речь, в которой «уверял, между прочим, что «евреи в члены Союза (русского народа. — В.К.) безусловно не принимаются, хотя бы и исповедовали православную веру»…» Приведя это высказывание, В. П. Обнинский счел нужным тут же опровергнуть это «уверение» и сообщить, что «оба органа печати, обслуживавшие Союз — «Московские ведомости» и «Россия», — руководились в то время лицами еврейского происхождения» (!){12}. Нельзя исключить, что «непросвещенный» купец Баранов был антисемитом в точном, собственном смысле слова. А поскольку он финансировал «черносотенные» организации и даже назывался «казначеем», он мог себе позволить высказывать свое «особое» мнение; по некоторым сведениям, выдвинутое им «требование» даже было введено в один «черносотенный» документ. Но тем не менее факт остается фактом: евреи, о которых писал Обнинский, играли исключительно существенную роль в «черносотенном» движении. Через 80 лет после Обнинского о них писал уже известный нам советский историк А. Я. Аврех. Процитировав опубликованную редактором газеты «Россия» И. Я. Гурляндом статью, которая в глазах этого историка имела заведомо антисемитский характер (о ней еще пойдет речь), А. Я. Аврех с не совсем ясной целью добавил: «Комментарии, как говорится, излишни, но стоит сказать, что Гурлянд был евреем, как и знаменитый Грингмут — первый основатель первого «Союза русского народа» (правда, под другим названием)»{13}. О В. А. Грингмуте уже говорилось в предыдущих главах; все же будет уместно напомнить, что он действительно был основоположником и главой первой по времени политической «черносотенной» организации — Русской монархической партии (впоследствии она почти целиком влилась в Союз русского народа) и редактором наиболее основательной «черносотенной» газеты «Московские ведомости». Его литературная деятельность была весьма значительной, и составители современного биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» сочли необходимым посвятить ему солидную статью. Правда, принципиально объективный тон, присущий в целом этому словарю, в статье о В. А. Грингмуте (как и о других «черносотенных» литераторах) не выдержан; говорится, например, что «имя Грингмута стало нарицательным, обозначая рьяного черносотенца, погромщика (!) и обскуранта». К тому же составители предпочли «завуалировать» национальную принадлежность В. А. Грингмута, назвав его «выходцем из Германии»{14}. Роль В. А. Грингмута в «черносотенном» движении невозможно переоценить. Его неожиданная смерть в конце 1907 года (ему было всего 56 лет) нанесла непоправимый ущерб движению. Тот же А. Я. Аврех сообщал, что даже много позднее, «8 апреля 1915 года один из руководителей черносотенного движения С. А. Кельцев писал: «Первоначально в Союзе (имелся в виду Московский Союз русского народа. — В.К.) насчитывались тысячи членов и масса сочувствующих, всегда готовых примкнуть к Союзу». Но, «к сожалению», преждевременная смерть «основателя и вдохновителя Союза» В. А. Грингмута привела к тому, что «отделы Союза… заглохли и большинство из них фактически прекратило даже свое существование»{15}. Ранее, в 1909 году, В. М. Васнецов с горечью поминал его: «…незабвенный и честный Грингмут!»{16} В том же году московские «черносотенцы» издали сборник статей под названием «Богатырь мысли и дела. Памяти В. А. Грингмута». Очень важное значение имела для «черносотенцев» и деятельность И. Я. Гурлянда. Он родился в 1868 году в Бердичеве в весьма известной еврейской семье: отец его был главным раввином Полтавской губернии, дядя (брат отца) — видным историком еврейской культуры и раввином Одессы. Отец, который позднее занялся юриспруденцией, удостоился звания почетного гражданина. И. Я. Гурлянд получил превосходное образование, окончив знаменитый Демидовский юридический лицей в Ярославле. В тридцать два года он уже был профессором этого лицея и издал ряд ценных работ по истории права; на некоторые из них историки ссылаются и в наше время. Кроме того, он опубликовал несколько незаурядных произведений художественной прозы и удостоился одобрения самого Чехова. В 1904 году И. Я. Гурлянд перешел на государственную службу и с 1906-го стал одним из главных соратников П. А. Столыпина, о чем говорится в любом исследовании, посвященном этому великому государственному деятелю. В 1992 году появилась первая статья о Гурлянде — А. В. Чанцева в уже упомянутом биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917», а затем, в 1993-м, — более пространный очерк А. Лихоманова в «Вестнике Еврейского университета в Москве». Очерк этот, впрочем, проникнут духом «разоблачения»: И. Я. Гурлянд без каких-либо доказательств характеризуется здесь как «снедаемый огромным честолюбием человек»{17}, именно поэтому-де и ставший непримиримым и опасным врагом своих одноплеменников-евреев. Как нечто совершенно недопустимое преподносится в этом биографическом очерке тот факт, что «завязывается дружба И. Я. Гурлянда с В. М. Пуришкевичем… Лидер «Союза Михаила Архангела» поддерживает с Ильей Яковлевичем переписку, они дружат семьями» (с. 150). Сразу же после прихода к власти в 1917 году Временного правительства началось систематическое преследование всех имевших отношение к «черносотенству». Как сказано в биографическом очерке А. Лихоманова, «Гурлянда допросить не удалось. Бросив семью, не успев уничтожить компрометирующие его документы, он бежал за границу в первые дни после Февральской революции… у него были весьма веские основания срочно покинуть страну после революции, и его позиция по еврейскому вопросу сыграла тут не последнюю роль» (с. 142, 152). Скажу еще о малоизвестном: в 1921 году И. Я. Гурлянд издал в Париже повесть в стихах «На кресте», в центре которой драматическая судьба еврея — патриота России. Внимание к таким деятелям, как В. А. Грингмут и И. Я. Гурлянд, важно потому, что позволяет с особенной ясностью понять проблему пресловутого антисемитизма. Как уже говорилось, значение этого термина нельзя истолковать иначе как непримиримость к евреям как таковым, то есть любым людям, явившимся на свет в еврейской семье. По-видимому, именно так относился к евреям упомянутый выше купец-«черносотенец» Баранов, не соглашавшийся сотрудничать и с теми евреями, которые «исповедовали православную веру». Нет сведений о том, как он воспринимал активнейшее участие в «черносотенном» движении Грингмута и Гурлянда. Но были и другие лица, разделявшие «позицию» Баранова. В 1908 году, как радостно сообщается в нынешнем «разоблачительном» очерке об И. Я. Гурлянде, «орган «Союз русского народа» газета «Русское знамя» поместила передовую статью «Гг. государственные журналисты», где говорилось и о «внезапно возвысившемся юрком еврейчике Гурлянде»…» (с. 150). Но следует сообщить, что именно в 1908 году В. М. Пуришкевич направил П. А. Столыпину записку, в которой призывал его обратить внимание на тот факт, что «Русское знамя», по его определению, «получило характер за последнее время совершенного уличного листка, стремясь не возвысить читателя духовно, а действовать на инстинкты…»{18}. Очевидно, что В. М. Пуришкевич под «инстинктами» имел в виду и антисемитизм в собственном, действительном смысле этого слова — в том числе и нападки газеты на его друга И. Я. Гурлянда, вызванные уже только тем, что он родился в еврейской семье. Нет сомнения, что в среде «черносотенцев» были антисемиты в точном значении этого слова. Но поистине нелепо обвинять в антисемитизме движение в целом и его ведущих, обладавших правом решать те или иные важнейшие вопросы деятелей, ибо эти деятели тесно сотрудничали с евреем И. Я. Гурляндом и избрали еврея В. А. Грингмута одним из главных руководителей своего движения (он, в частности, был «председателем Русского собрания и 1–4-го съездов русских людей»{19}, в которых принимали участие делегаты всех «черносотенных» организаций). Нетрудно предвидеть, что у иных живущих «инстинктами» нынешних читателей рассказ о В. А. Грингмуте и И. Я. Гурлянде вызовет крайне отрицательное отношение: эти евреи, скажут они, были специально засланы в «черносотенство», чтобы разлагать его изнутри. Но следует задуматься хотя бы над тем, почему и сегодня, хотя прошло уже около столетия, этих деятелей продолжают рьяно «разоблачать» в еврейских кругах? Кстати, в этих кругах наверняка не согласятся с утверждением, что само наличие в среде «черносотенцев» евреев, игравших к тому же первостепенную роль, подрывает обвинение «черносотенства» в антисемитизме (в истинном значении этого слова). Мне возразят, что И. Я. Гурлянд и В. А. Грингмут были, так сказать, вырожденцами, выступавшими как злейшие враги своих одноплеменников, как «евреи-антисемиты». И. Я. Гурлянд в цитированном выше нынешнем очерке представлен в качестве человека, который превратился во врага своих одноплеменников ради блистательной карьеры. Но это явная неправда. Так, став уже в 1906 году ближайшим и влиятельнейшим соратником председателя Совета министров П. А. Столыпина (что может быть истолковано как огромный успех на карьерном пути), И. Я. Гурлянд позднее завязывает дружбу с В. М. Пуришкевичем, которая никак не могла способствовать карьерным интересам, — хотя бы уже потому, что Столыпин относился к Пуришкевичу весьма двойственно (ведь последний, например, откровенно заявил на одном из заседаний Думы, что видит «в правительстве П. А. Столыпина, стремящегося ввести у нас конституционный строй, политического противника»){20}. И, уж конечно, заведомой ложью является приписывание И. Я. Гурлянду — как, впрочем, и другим виднейшим «черносотенцам» — антисемитизма в собственном смысле этого слова. Любопытно, что до 1910 года, хотя И. Я. Гурлянд уже был к тому времени теснейшим образом связан с «черносотенцами», его не обвиняли во вражде к евреям. В том же 1910 году в «Еврейской энциклопедии» была помещена вполне «положительная» статья о нем (как и о его дяде-раввине), завершавшаяся так: «Гурлянд проводит идею полного присоединения евреев к началам русской государственности, отнюдь не отказываясь от своих вероисповедных и национальных стремлений» (т. VI, с. 851). Однако уже после выхода в свет этого тома кто-то почему-то решил «исправить ошибку», и в нераспроданную часть тиража была внедрена вклейка, в которой, в частности, говорилось: «В последние годы Гурлянд изменил этим взглядам в связи с реакционным направлением своей деятельности: руководимый им орган «Россия» выступает со всевозможными обвинениями против евреев и поддерживает репрессивную политику правительства по отношению к ним»{21}. Возможно, в редакции «Еврейской энциклопедии» вызвали негодование какие-либо передовые статьи газеты «Россия», которые обычно писал сам И. Я. Гурлянд. Выше говорилось о статье 1911 года, цитируемой историком А. Я. Аврехом в качестве образчика гурляндовского «антисемитизма». Вот что сказано в ней о незадолго до того убитом П. А. Столыпине: «Виднейший представитель национальной идеи был, конечно, ненавистен радикальной адвокатской балалайке, как и всему национально-оскопленному стаду полуинтеллигентов и интеллигентов-неудачников, являющихся командирами революционного стада и состоящих на инородческо-еврейском содержании»{22}. А. Я. Аврех преподнес эти суждения именно как возмутительный пример антисемитизма, исходящего от вырожденца-еврея. Однако никакого антисемитизма в истинном значении этого слова здесь нет и в помине. Чтобы доказать это, приведу цитату из статьи другого автора, опубликованной двумя годами ранее — в 1909 году. Вот ее начало: «Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями…» — так писал человек, которого в антисемиты зачислить не удастся, ибо это уже упомянутый крупнейший еврейский деятель — В. Е. Жаботинский, кстати, хорошо знавший положение в «передовых газетах», так как до 1903 года он был членом РСДРП и даже входил в состав ее Одесского комитета; в 1903 году он порвал с РСДРП. Но продолжим цитату из его статьи: «…до сих пор, несмотря на наши вопли, игнорируют еврейские нужды… Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства»{23}. (Не исключено возражение, что Жаботинский был сионистом и не может считаться защитником интересов всех евреев. Но я привожу его высказывание не для присоединения к его убеждениям, а для того, чтобы выяснить истину; тот факт, что и «еврей-антисемит» Гурлянд, и еврей-сионист Жаботинский в разных целях, но согласно говорят об издаваемых на еврейские деньги революционных и либеральных газетах, весомо подтверждает правоту этого «диагноза».) Конечно, В. Е. Жаботинского заботила судьба еврейства, а не «русская политика», но так или иначе под последней из его процитированных фраз, без сомнения, с удовлетворением поставил бы свою подпись И. Я. Гурлянд, выступавший, вопреки утверждению «Еврейской энциклопедии» (как и другие виднейшие «черносотенцы»), не «против евреев», но против активнейшего участия евреев в Революции, которая — в чем Гурлянд был с полным основанием убежден — в конечном счете не принесет «ничего доброго» (по определению В. Е. Жаботинского) ни России, ни еврейству, несмотря даже на первоначальную после победы Революции эйфорию многих евреев. И если кому-то угодно называть И. Я. Гурлянда «антисемитом», следует быть логичным и зачислить в отъявленные антисемиты также и В. Е. Жаботинского… В уже упоминавшемся нынешнем очерке о И. Я. Гурлянде приводятся — опять-таки в качестве выражения его антисемитизма — следующие его суждения, относящиеся к 1912 году: «…годы смуты определили, что еврейская молодежь с головой окунулась в политические заговоры против исторических устоев Русского государства… натиски со стороны международных еврейских организаций показали, что с еврейским вопросом связан вопрос о политическом и социальном перевороте в России»{24}. Но и В. Е. Жаботинский почти одновременно, в 1911 году, писал о том же: «…под каким ужасом воспитывается наша молодежь. Мы уже видели таких, которые помешались на революции, на терроре, на экспроприациях…»{25} И вообще, иронизирует Жаботинский, «все, в ком только было достаточно задору, все побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю» (с. 48). Конечно, в отличие от И. Я. Гурлянда, он не беспокоился об «исторических устоях Русского государства»; его волновали «устои» еврейства. Но вот весьма выразительное противоречие: В. Е. Жаботинский, решительно возражавший против — по его определению — «несоразмерного» участия евреев в Революции, которая не даст им «ничего доброго», не считается антисемитом, а между тем И. Я. Гурлянд, говоривший о том же самом с точки зрения интересов России в целом (в том числе, конечно, и российских евреев, к коим принадлежал он сам!), клеймится как враг и предатель евреев, как патологический еврей-антисемит. И эта клевета печатается в «Вестнике Еврейского университета в Москве» в 1993 году — когда, казалось бы, всем уже ясно, чем была Революция, против которой и, в частности, против непомерного еврейского участия в ней (а не против евреев!) боролся И. Я. Гурлянд. * * *В связи с этим стоит отметить один по-своему замечательный «вывод», к которому — по всей вероятности, не вполне осознанно — пришел современный историк Владлен Сироткин (о нем уже шла речь выше), опубликовавший не так давно две «разоблачительные» статьи о «черносотенцах». Он клеймил их за «антисемитизм», но в какой-то момент словно бы «прозрел» и написал следующее: «Для идеологов черносотенства (тогда, как и сейчас) «евреи» — категория не национальная, а политическая»{26}. Тем самым В. Сироткин, по сути дела, полностью снял с «черносотенцев» обвинение в антисемитизме, то есть именно в национальной ненависти, хотя едва ли он ставил перед собой такую цель. Тем не менее Сироткин здесь же привел одно достаточно весомое «доказательство», сообщив, что «при «Союзе русского народа» открыли филиал для тех самых гонимых евреев», и даже «власти зарегистрировали в Одессе устав общества евреев, молящихся Богу (разумеется, своему Богу. — В.К.) за Царя» (с. 50). Это были, очевидно, люди, которые понимали или хотя бы предчувствовали, что революционный катаклизм не даст им счастья, — чего никак не понимали, например, в конечном счете уничтоженные созданным ими же строем Г. Е. Зиновьев или Л. Б. Каменев. В. Сироткин с явным одобрением писал об уже знакомом читателю моей книги А. Я. Аврехе, который до самой своей кончины в декабре 1988 года превозносил Революцию и проклинал «черносотенцев»: «…историк Арон Яковлевич Аврех (которого я лично знал), не считавший себя ни евреем, ни русским, а только марксистом-интернационалистом…» Существо этого типа людей точно и глубоко раскрыл выдающийся мыслитель Л. П. Карсавин (1882–1952, умер в ГУЛАГе), чьи труды, слава Богу, публикуются теперь в России. Владлену Сироткину — как и другим нынешним обличителям «черносотенства» — следовало бы внимательно изучить и прочно усвоить основные положения написанной еще в 1927 году — как бы к десятилетию победы Революции — работы Л. П. Карсавина «Россия и евреи». Он начал ее характернейшим замечанием: «Довольно затруднительно упомянуть в заглавии о евреях и не встретиться с обвинением в антисемитизме…»{27} И, конечно, он «встретился» с таким обвинением, хотя в работе четко проведено разграничение трех слоев (или, как определяет сам Л. П. Карсавин, «типов») еврейства: «Мы различаем… религиозно-национальное и религиозно-культурное еврейство… евреев, совершенно ассимилированных тою либо иною национальною культурою… и евреев, интернационалистов по существу и революционеров по природе. Вот об этом последнем типе евреев мы до сих пор и говорили… признание того, что он существует, описание отличительных его черт, даже оценка его с точки зрения религиозных и культурных ценностей являются не антисемитизмом, а научно-философскими познавательными процессами. Научное познание не может быть запрещаемо и опорочиваемо на том основании, что приходит к выводам, для нервозных особ неприятным» (с. 414). Далее Л. П. Карсавин говорит, что исследуемый им «тип» — это «уже не еврей, но еще и не «нееврей», а некое промежуточное существо, «культурная амфибия», почему его одинаково обижает и то, когда его называют евреем, и то, когда его евреем не считают (!); он определяется «активностью», которая неизбежно оборачивается «нигилистической разрушительностью… Этот тип является врагом всякой национальной органической культуры (в том числе и еврейской)…» (с. 412, 413, 414). И «практический» вывод Л. П. Карсавина таков: «…денационализирующееся и ассимилирующееся еврейство — наш вечный враг, с которым мы должны бороться так же, как оно борется с нашими национально-культурными ценностями. Это — борьба неустранимая и необходимая» (с. 416). Нельзя не сделать здесь одно принципиальное уточнение: из работы Л. П. Карсавина в целом ясно, что речь идет отнюдь не о борьбе с «денационализирующимся» еврейством вообще, в целом, но лишь с той его частью, теми его представителями, которые проявляют свою «разрушительную активность» прямо и непосредственно в сфере политики, идеологии, культуры, — то есть прямо и непосредственно борются с устоями чуждого им национального бытия. Да, речь идет о тех, о ком В. Е. Жаботинский не без презрения писал еще в 1906 году, что они задорно «побежали на шумную площадь творить еврейскими руками русскую историю». К ним, конечно же, совершенно не относятся пусть даже самые «денационализированные», но не вторгающиеся с «разрушительной активностью» в устои того или иного национального бытия люди, занятые общеполезным профессиональным трудом. Как ни прискорбно, в эпоху Революции в еврейской среде оказалось чрезвычайно большое количество людей, одержимых этой самой разрушительной активностью. Причину этого вполне основательно и убедительно раскрыл И. Р. Шафаревич в своей работе «Русофобия», созданной в 1978–1982 годах и опубликованной впервые в 1988-м. «В конце XIX века устойчивая, замкнутая жизнь религиозных общин, объединявших почти всех живших в России евреев, — писал И. Р. Шафаревич, — стала быстро распадаться. Молодежь покидала религиозные школы и патриархальный кров и вливалась в русскую жизнь — экономику, культуру, политику, все больше влияя на нее. К началу XX века это влияние достигло такого масштаба, что стало весомым фактором русской истории… оно… особенно бросалось в глаза во всех течениях, враждебных тогдашнему жизненному укладу. В либерально-обличительной прессе, в левых партиях и террористических группах евреи, как по числу, так и по их руководящей роли, занимали положение, совершенно несопоставимое с их численной долей в населении». Этот, как пишет далее И. Р. Шафаревич, «прилив… почти точно совпал с «эмансипацией», началом распада еврейских общин… Совпадение двух кризисов (в России в целом и в российском еврействе. — В.К.) оказало решающее воздействие на характер той эпохи»{28}. Работа И. Р. Шафаревича вызвала совершенно беспрецедентную волну всякого рода нападок и обвинений — что ясно свидетельствует об ее высокой значимости. Разумеется, его на разные лады обвиняли в антисемитизме. Но для этого каждый его обвинитель предпринимал более или менее грубое искажение действительного содержания «Русофобии». К сожалению, этим грешили подчас даже и стремящиеся к объективности авторы. Среди них оказался и пишущий в основном о проблемах Православной церкви публицист Александр Нежный. В своей книге «Комиссар дьявола», рассказывающей прежде всего о главном «воинствующем безбожнике» Ярославском, Александр Нежный не побоялся называть реальными и полными именами и этого разрушителя, и его «биографа» Минца и заявить, что в своем сочинении о Минее Израилевиче Губельмане (то есть Ярославском) «брызжет восторженной и чрезвычайно глупой слюной Исаак Израилевич (Минц. — В.К.), поневоле вызывая у всякого нормального читателя приступ юдофобии…»{29}. Александр Нежный здесь явно «переборщил», определив ненависть к разрушителю и палачу русской Церкви и его одописцу именно и только как «юдофобию»; ведь не является же, скажем, глубокая симпатия русских людей к Исааку Элиевичу Левитану «приступом юдофилии»… Почему же в отношении Губельмана и Минца возмущение обязательно должно принимать характер юдофобии? А через несколько страниц Александр Нежный «переборщил» в прямо противоположную сторону, обвинив в юдофобии И. Р. Шафаревича: он зачислил его в стан «охотников представить русскую (шире и точнее говоря — российскую) трагедию (имеется в виду Революция. — В.К.) результатом победоносного еврейского заговора» (с. 15). А ведь в работе И. Р. Шафаревича, которую «обличает» Александр Нежный, с полнейшей определенностью сказано: «…мысль, что «революцию делали одни евреи» — бессмыслица, выдуманная, вероятно, лишь затем, чтобы ее было проще опровергнуть. Более того, я не вижу никаких аргументов в пользу того, что евреи вообще «сделали» революцию, т. е. были ее инициаторами, хотя бы в виде руководящего меньшинства» (с. 143; то же самое во всех других изданиях работы). Далее Александр Нежный преподносит более конкретное обвинение: «Непостижимым образом русские террористы оказываются у него (И. Р. Шафаревича. — В.К.) почти сплошь евреями» (с. 16), и для «опровержения» дает, в частности, перечень русских террористов-народовольцев. Но ведь И. Р. Шафаревич пишет там же, что в эпоху народовольческого террора «евреи в революционном движении были редким исключением» (с. 143), поскольку их «эмансипация» только зачиналась. Признаюсь, меня глубоко удивили цитируемые фразы Александра Нежного, и я обратился к нему с вопросом, почему он до такой степени исказил смысл работы И. Р. Шафаревича. И Александр Иосифович признался, что он вообще-то не читал эту работу, а только слышал рассказ о ней от одной из своих приятельниц… Словом, давно знакомый мотив: «Я Пастернака не читал, но протестую против его клеветнического романа». Что же касается множества других «критиков» работы И. Р. Шафаревича, о них и говорить не хочется: это заведомые лжецы и клеветники. * * *Участие евреев в Революции было, конечно, огромным и, уж разумеется, никак «не соразмерным» (по определению В. Е. Жаботинского) с долей евреев в населении России. Вместе с тем, как писал в уже цитированной работе Л. П. Карсавин, «глупо» утверждать (хотя это и ранее делали, и теперь делают многие), что «будто евреи выдумали и осуществили русскую революцию. Надо быть очень необразованным исторически человеком и слишком презирать русский народ, чтобы думать, будто евреи могли разрушить русское государство» (с. 415). Характеризуя «тип» ассимилирующегося еврея с его «разрушительной активностью», Л. П. Карсавин оговаривал, что «этот тип не опасен для здоровой культуры и в здоровой культуре не действенен. Но лишь только культура начинает заболевать или разлагаться, как он быстро просачивается в образующиеся трещины, сливается с продуктами ее распада и ферментами ее разложения, специфически его окрашивает и становится уже реальной опасностью» (с. 414). Кстати сказать, сегодня множество «борцов» с пресловутым антисемитизмом прямо-таки обожают приписывать своим противникам тезис, согласно которому именно и только евреи устроили русскую революцию. Конечно, существуют малосведущие или не способные к серьезному размышлению люди, которые говорят нечто подобное. Но даже самый что ни есть «черносотенный» идеолог Н. Е. Марков писал о роковом феврале 1917 года: «Тут за дело взялись не бомбометатели из еврейского Бунда, не изуверы социальных вымыслов, не поносители чести Русской Армии Якубзоны, а самые заправские российские помещики, богатейшие купцы, чиновники, адвокаты, инженеры, священники, князья, графы, камергеры и всех Российских орденов кавалеры»{30}. Н. Е. Марков почему-то забыл прибавить к этому перечню и ряд членов самой императорской фамилии — в том числе великого князя Кирилла Владимировича (прадеда сегодняшнего «претендента» на Российский престол юного Георгия Михайловича), который уже 1 марта явился в качестве единомышленника в «революционную» Думу, причем «на его шинели красовался алый бант»{31}. Роль евреев выросла до предела уже после разрушения Русского государства. Совершенно несоразмерное участие евреев во всем, что делалось после октября 1917 года, чаще всего «объясняют» и, более того, «оправдывают» тем, что ранее они испытывали, мол, абсолютно нестерпимые притеснения и ограничения. Так, одна современная журналистка, узнав из предоставленных ей архивных материалов о том, что в руководстве ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ вплоть до начала 1950-х годов громадную роль (никак не соразмерную с их долей в населении) играли евреи, пытается объяснить и, в сущности, «оправдать» это именно гонениями на евреев до 1917 года. Речь идет о Евгении Альбац, издавшей в 1992 году (кстати, тиражом 50 тыс. экз.) объемистую разоблачительную книгу об «органах госбезопасности». Вопрос о том, «почему среди следователей НКВД — МГБ — и среди самых страшных в том числе, — пишет Е. Альбац, — вообще было много евреев, меня, еврейку, интересует. От вопроса этого никуда не уйти. Да и не хочу я уходить. Я много думала над этим. И, поверьте, это были мучительные раздумья. И вот до чего я додумалась — изложу это очень коротко. Октябрьский переворот для евреев Российской империи, с ее еврейскими резервациями-местечками, с ее страшными погромами, ограничениями в правах, невозможностью для молодых евреев получить высшее образование — конечно, этот переворот стал для них своего рода национальным освобождением. Они приняли революцию, потому что не могли ее не принять: она подарила им надежду выжить…»{32} Из этого рассуждения с неизбежностью следует, что евреи хлынули в Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией (и позднейшие «органы»), поскольку, мол, в случае победы этой самой контрреволюции было бы ликвидировано их «национальное освобождение» в октябре 1917 года, и, более того, они-де вообще погибли бы: ведь якобы только после Октябрьского переворота у них появилась «надежда выжить». Буквально все положения, выдвинутые в приведенной цитате Евгенией Альбац, порождены ее невежеством (у меня нет оснований думать, что она вполне сознательно фальсифицирует историю). Во-первых, «ограничения», касающиеся евреев, были целиком отменены сразу после Февральского (а не Октябрьского) переворота. Во-вторых, нелепо утверждать, что до 1917 года у российских евреев не было-де даже «надежды выжить»: в новейшем демографическом труде показано, что у еврейского населения Российской империи «были исключительно высокие темпы прироста, которых не знала ни одна народность России» (эти темпы почти в два с половиной раза превышали темпы прироста русских!){33}. В-третьих, в «страшных погромах» погибло меньше евреев, чем людей других национальностей, о чем шла речь в предыдущей главе. Остается еще два пункта: в-четвертых, о «еврейских резервациях» и, в-пятых, о «невозможности получить высшее образование». Начну с, последнего. Еще в 1877 году Достоевский заметил, что евреи имеют «больше прав или, лучше сказать, возможности ими пользоваться, чем само коренное население»{34}. И он был вполне прав. Так, «Еврейская энциклопедия» сообщала, что в 1886 году, когда евреи составляли немногим более 3 процентов населения Российской империи, в общей численности студентов университетов их было (притом не считая евреев, перешедших в христианство) 14,5 процента — то есть каждый седьмой студент был евреем. Это почти в 5 раз превышало их долю в населении страны! (ЕЭ, т. XIII, с. 57). В современном еврейском издании приведены более поздние и более конкретные сведения о (как там определено) «представительстве» студентов иудейского вероисповедания в главных университетах России. В 1911 году в Петербургском университете это «представительство» равнялось 17,7 процента, в Киевском — 20 процентам, в Новороссийском — 34 процентам, в Харьковском — 12,6 процента и сравнительно меньше было в Московском — 10 процентов{35}. Конечно же, на меня может обрушиться обвинение, что я-де сторонник «ограничений» для евреев. В действительности же я убежден, что введение правительством Российской империи пресловутой «процентной нормы» выражало слабость — и, надо сказать, постыдную слабость — этого правительства. Если его беспокоило несоразмерное (с долей населения) «представительство» студентов иудейского вероисповедания в императорских университетах, оно должно было создать поощряющие стимулы для православной молодежи разных сословий, а не пытаться — явно тщетно — ограничить количество студентов-иудеев. Но в то же время нельзя не сказать и о том, что суждения Е. Альбац (как и множества других авторов), «оправдывающие» несоразмерное участие евреев в Революции и даже в «органах» мнимой «невозможностью» получить высшее образование, заведомо несостоятельны. Приведенные цифры свидетельствуют, что люди иудейского вероисповедания добивались необходимого для них «представительства» в российских университетах без победы Революции и без ВЧК — ОГПУ… Это ясно, в частности, из следующего: в 1928 году, когда абсолютно никаких ограничений для евреев в сфере высшего образования не было, их доля в общем количестве студентов составляла 13,5 процента{36} — то есть не больше, чем до 1917 года. Ведь даже в 1886 году, за тридцать лет до победы Революции, доля студентов иудейского вероисповедания составляла 14,5 процента; нельзя не учитывать при этом, что евреев среди студентов было еще больше, ибо крестившиеся евреи не входили в статистику. Для ясности напомню, что «нормы», которые безуспешно пыталось навязать правительство, составляли для Петербурга и Москвы всего 3 процента, для Центральной России — 5 процентов, а для территорий, находящихся в так называемой «черте оседлости», — 10 процентов. К этой «черте» мы и обратимся. В связи с ней постоянно утверждается, что до 1917 года евреи были «загнаны в гетто», в некие «резервации» или даже своего рода концлагеря… Но, во-первых, территория, входившая в «черту оседлости», превышала территории Германии и Франции вместе взятых. Далее, никто не «загонял» евреев в места их проживания на этой территории, перед нами очередной миф, начисто разоблаченный, например, тем же В. Е. Жаботинским, который писал в 1936 году: «…я тут разочарую наивного читателя, который всегда верил, что в гетто нас силой запер какой-то злой папа или злой курфюрст (или в России — злой царь. — В.К.)… Гетто образовали мы сами, добровольно, по той же причине, почему европейцы в Шанхае селятся в отдельном квартале…»{37} Не исключено, что это утверждение Жаботинского будут оспаривать, однако никак нельзя оспорить следующее: евреи расселились на польских, украинских, белорусских землях (которые впоследствии, на рубеже XVIII–XIX веков, вошли в состав Империи) в далекие времена — за пять-шесть и более столетий до нашего, XX века, — и создали здесь свою, своеобразную экономику, быт и культуру. Продолжу цитату из В. Е. Жаботинского: «Все мы слыхали про то, что своеобразие и односторонность еврейской экономики являются последствиями угнетения… Это правда, но не вся… гораздо важнее был «гнет» самой силы вещей, гнет самого факта диаспоры. Еврей сам инстинктивно сторонился от экономических функций, захваченных «туземцами»…» (с. 153–154; странно, впрочем, здесь слово «захваченных», ибо не ясно, у кого и что «захватили» населявшие эти земли задолго до прихода евреев восточнославянские племена?!). Но так или иначе ко времени возвращения отторгнутых Польско-Литовским государством западных земель в состав России жившие на этих землях евреи были, в сущности, таким же постоянным — «оседлым» — населением, как украинцы и белорусы (кстати, слову «оседлость» без всяких на то оснований придали сугубо негативный, даже «страшный» смысл). После же исчезновения государственной границы между этими землями и Российской империей в целом евреи — в отличие от украинцев и белорусов — обнаружили страстное стремление переселяться в центр Империи, и прежде всего в главные ее города, в том числе в столицы. Это стремление объясняют и как бы полностью оправдывают тем, что многие евреи жили на бывших землях Польши и Литвы «тесно» и «бедно». Тяга к лучшей жизни понятна и естественна, но едва ли какое-либо государство может спокойно отнестись к своевольному (совсем другое дело — поощряемое государством перемещение украинских и других крестьян на пустующие земли в Сибири) перемещению того или иного этноса из одного региона страны в другие и тем более в столичные города. За примерами не надо ходить далеко: в наши дни российские власти предпринимают достаточно жесткие меры, чтобы препятствовать перемещению в Москву (с территорий их «оседлости») многочисленных представителей тех или иных этносов, но мало кто усматривает в этом проявление некоего безобразного насилия. Между тем политика российских властей, направленная на «удержание» еврейского населения на той территории, где оно жило столетиями, оценивается именно как беспримерное насилие, как создание «резерваций» и чуть ли не концлагерей. Конечно, вполне можно понять стремление евреев улучшить свою жизнь, переселившись в центр Империи, но следует понять и власть. Ее сопротивление массовому переселению евреев в Центральную Россию толкуется как навязывание будто бы особого, не распространяемого на другие этносы режима. Между тем в действительности как раз евреи стремились к утверждению своего особого статуса (другие этносы тогда вообще не ставили перед собой подобных целей). И повторяю еще раз: можно понять евреев, для которых переселение в Центральную Россию означало улучшение жизни, но необходимо понять и власти, а не проклинать их за некое якобы чудовищное насилие над одним из этносов Империи. * * *Завершая эту главу моего сочинения, предвижу, что иные читатели «найдут» в ней пресловутый «антисемитизм». Но с этим никак нельзя согласиться, ибо все, что сказано на предыдущих страницах, явно не вызвало бы протеста ни у такого национально мыслящего еврея, каким был В. Е. Жаботинский, ни у русского по духу еврея И. Я. Гурлянда. Я был, например, в дружественных отношениях с очень разными людьми — М. С. Агурским (1933–1991), видным деятелем и идеологом еврейства, и с Н. Я. Берковским (1901–1972), всем существом служившим России, автором книги «Мировое значение русской литературы» — безусловно лучшей книги на эту тему (и об Агурском, и о Берковском я не раз высказывался в печати){38}. И у меня не было каких-либо трудных разногласий «по еврейскому вопросу» ни с тем, ни с другим. Резкие разногласия возникают лишь с тем охарактеризованным Л. П. Карсавиным «типом», который и не еврей, и не «нееврей» (то есть в условиях русской жизни чуждый ее основам), но в то же время самым активным образом стремится воздействовать на русскую политику, идеологию, культуру. Именно такие люди готовы везде усматривать «антисемитизм», хотя критике подвергается отнюдь не национальная сущность евреев, а только разрушительная деятельность одного межеумочного слоя. >Глава 6 Что же в действительности произошло в 1917 году? На этот вопрос за восемьдесят лет были даны самые различные, даже прямо противоположные ответы, и сегодня они более или менее знакомы внимательным читателям. Но остается почти неизвестной либо преподносится в крайне искаженном виде точка зрения «черносотенцев», их ответ на этот нелегкий вопрос. Выше не раз было показано, что «черносотенцы», не ослепленные иллюзорной идеей прогресса, задолго до 1917 года ясно предвидели действительные плоды победы Революции, далеко превосходя в этом отношении каких-либо иных идеологов (так, член Главного совета Союза русского народа П. Ф. Булацель провидчески — хотя и тщетно — взывал в 1916 году к либералам: «Вы готовите могилу себе и миллионам ни в чем не повинных граждан»). Естественно предположить, что и непосредственно в 1917-м и последующих годах «черносотенцы» глубже и яснее, чем кто-либо, понимали происходящее, и потому их суждения имеют первостепенное значение. Начать уместно с того, что сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Русского государства, который, в свою очередь, привел к многообразным тяжелейшим последствиям начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Гибель Русского государства стала необратимым фактом уже 2(15) марта 1917 года, когда был опубликован так называемый «приказ № 1». Он исходил от Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Петроградского — по существу Всероссийского — Совета рабочих и солдатских депутатов, где большевики до сентября 1917 года ни в коей мере не играли руководящей роли; непосредственным составителем «приказа» был секретарь ЦИК, знаменитый тогда адвокат Н. Д. Соколов (1870–1928), сделавший еще в 1900-х годах блистательную карьеру на многочисленных политических процессах, где он главным образом защищал всяческих террористов. Соколов выступал как «внефракционный социал-демократ». «Приказ № 1» обращенный к армии, требовал, в частности, «немедленно выбрать комитеты из выборных представителей (торопливое составление текста привело к назойливому повтору: «выбрать… из выборных». — В.К.) от нижних чинов… Всякого рода оружие… должно находиться в распоряжении… комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам… Солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане…»{1} и т. д. Если вдуматься в эти категорические фразы, станет ясно, что дело шло о полнейшем уничтожении созданной в течение столетий армии — станового хребта государства; одно уже демагогическое положение о том, что «свобода» солдата не может быть ограничена «ни в чем», означало ликвидацию самого института армии. Не следует забывать к тому же, что «приказ» отдавался в условиях грандиозной мировой войны и под ружьем в России было около одиннадцати миллионов человек; кстати, последний военный министр Временного правительства А. И. Верховский свидетельствовал, что приказ № 1 был отпечатан «в девяти миллионах экземпляров»!{2} Для лучшего понимания ситуации следует обрисовать обстоятельства появления приказа. 2 марта Соколов явился с его текстом, — который уже был опубликован в утреннем выпуске «Известий Петроградского Совета», — перед только что образованным Временным правительством. Один из его членов, В. Н. Львов, рассказал об этом в своем мемуаре, опубликованном вскоре же, в 1918 году: «…быстрыми шагами к нашему столу подходит Н. Д. Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесенной им бумаги… Это был знаменитый приказ номер первый… После его прочтения Гучков (военный министр. — В.К.) немедленно заявил, что приказ… немыслим, и вышел из комнаты. Милюков (министр иностранных дел. — В.К.) стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа (он не знал, что газету с его текстом уже начали распространять. — В.К.)… Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошел от стола… я (то есть В. Н. Львов, обер-прокурор Синода. — В.К.) вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что эта бумага, принесенная им, есть преступление перед родиной… Керенский (тогда — министр юстиции, с 5 мая — военный министр, а с 8 июля — глава правительства. — В.К.) подбежал ко мне и закричал: «Владимир Николаевич, молчите, молчите!», затем схватил Соколова за руку, увел его быстро в другую комнату и запер за собой дверь…»{3} А став 5 мая военным министром, Керенский всего через четыре дня издал свой «Приказ по армии и флоту», очень близкий по содержанию к Соколовскому; его стали называть «декларацией прав солдата». Впоследствии генерал А. И. Деникин писал, что «эта «декларация прав»… окончательно подорвала все устои армии»{4}. Впрочем, еще 16 июля 1917 года, выступая в присутствии Керенского (тогда уже премьера), Деникин не без дерзости заявил: «Когда повторяют на каждом шагу (это, кстати, характерно и для наших дней. — В.К.), что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие…» Не считая, по-видимому, «тактичным» прямо назвать имена виновников, генерал сказал далее: «Развалило армию военное законодательство последних месяцев» (цит. изд., с. 114); присутствующие ясно понимали, что «военными законодателями» были Соколов и сам Керенский (кстати, в литературе есть неправильные сведения, что Деникин будто бы все же назвал тогда имя Керенского). Но нельзя не сказать, что «прозрение» Деникина фатально запоздало. Ведь согласился же он 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опубликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного главнокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением «декларации прав солдата») — главнокомандующим Западным фронтом. Лишь 27 августа генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущности, не было… Необходимо вглядеться в фигуру Соколова. Ныне о нем знают немногие. Характерно, что в изданном в 1993 году биографическом словаре «Политические деятели России. 1917» статьи о Соколове нет, — хотя там представлено более 300 лиц, сыгравших ту или иную роль в 1917 году (большинство из них с этой точки зрения значительно уступают Соколову). Впрочем, и в 1917 году его властное воздействие на ход событий казалось не вполне объяснимым. Так, автор созданного по горячим следам и наиболее подробного рассказа о 1917 годе (и сам активнейший деятель того времени) Н. Н. Суханов-Гиммер явно удивлялся, как он писал, «везде бывавшему и все знающему Н. Д. Соколову, одному из главных работников первого периода революции»{5}. Лишь гораздо позднее стало известно, что Соколов, как и Керенский, был одним из руководителей российского масонства тех лет, членом его немногочисленного «Верховного совета» (Суханов, кстати сказать, тоже принадлежал к масонству, но занимал в нем гораздо более низкую ступень). Нельзя не отметить также, что Соколов в свое время положил начало политической карьере Керенского (тот был одиннадцатью годами моложе), устроив ему в 1906 году приглашение на громкий процесс над прибалтийскими террористами, после которого этот тогда безвестный адвокат в одночасье стал знаменитостью. Выдвигая приказ № 1, Соколов, разумеется, не предвидел, что его детище менее чем через четыре месяца в буквальном смысле ударит по его собственной голове. В июне Соколов возглавил делегацию ЦИК на фронт. «В ответ на убеждение не нарушать дисциплины солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее», — рассказывал тот же Суханов; Соколова отправили в больницу, где он «лежал… не приходя в сознание несколько дней… Долго, долго, месяца три после этого он носил белую повязку — «чалму» — на голове» (там же, т. 2, с. 309). Между прочим, на это событие откликнулся поэт Александр Блок. 29 мая он встречался с Соколовым и написал о нем: «…остервенелый Н. Д. Соколов, по слухам, автор приказа № I»{6}, а 24 июня, — пожалуй, не без иронии, — отметил: «В газетах: «темные солдаты» побили Н. Д. Соколова» (там же, т. 7, с. 269). Позже, 23 июля, Блок делает запись о допросе в «Чрезвычайной следственной комиссии» при Временном правительстве виднейшего «черносотенца» Н. Е. Маркова: «Против Маркова… сидит Соколов с завязанной головой… лает вопросы… Марков очень злится…»{7} Соколов, как мы видим, был необычайно энергичен, а круг его деятельности — исключительно широк. И таких людей в российском масонстве того времени было достаточно много. Вообще, говоря о Февральском перевороте и дальнейшем ходе событий, никак невозможно обойтись без «масонской темы». Эта тема особенно важна потому, что о масонстве еще до 1917 года немало писали и говорили «черносотенцы»; в этом, как и во многом другом, выразилось их превосходство над любыми тогдашними идеологами, которые «не замечали» никаких признаков существования масонства в России или даже решительно оспаривали суждения на этот счет «черносотенцев», более того — высмеивали их. Только значительно позднее, уже в эмиграции, стали появляться материалы о российском масонстве — скупые признания его деятелей и наблюдения близко стоявших к ним лиц; впоследствии, в 1960–1980-х годах, на их основе был написан ряд работ эмигрантских и зарубежных историков. В СССР эта тема до 1970-х годов, в сущности, не изучалась (хотя еще в 1930 году были опубликованы весьма многозначительные — пусть и предельно лаконичные — высказывания хорошо информированного В. Д. Бонч-Бруевича). Рассказать об изучении российского масонства XX века необходимо, между прочим, и потому, что многие сегодня знают о нем, но знания эти обычно крайне расплывчаты или просто ложны, представляя собой смесь вырванных из общей картины фактов и досужих вымыслов. А между тем за последние два десятилетия это масонство изучалось достаточно успешно и вполне объективно. Первой работой, в которой был всерьез поставлен вопрос об этом масонстве, явилась книга Н. Н. Яковлева «1 августа 1914», изданная в 1974 году. В ней, в частности, цитировалось признание видного масона, кадетского депутата Думы, а затем комиссара Временного правительства в Одессе Л. А. Велихова: «В 4-й Государственной думе (избрана в 1912 году. — В.К.) я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов (Ефремов), левых кадетов (Некрасов, Волков, Степанов), трудовиков (Керенский), с.-д. меньшевиков (Чхеидзе, Скобелев) и которое ставило своей целью блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия» (указ. изд., с. 234). И к настоящему времени неопровержимо доказано, что российское масонство XX века, начавшее свою историю еще в 1906 году, явилось решающей силой Февраля прежде всего именно потому, что в нем слились воедино влиятельные деятели различных партий и движений, выступавших на политической сцене более или менее разрозненно. Скрепленные клятвой перед своим и одновременно высокоразвитым западноевропейским масонством (о чем еще пойдет речь), эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели — от октябристов до меньшевиков — стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию. Наиболее плодотворно исследовал российское масонство XX века историк В. И. Старцев, который вместе с тем является одним из лучших исследователей событий 1917 года в целом. В ряде его работ, первая из которых вышла в свет в 1978 году, аргументированно раскрыта истинная роль масонства. Содержательны и страницы, посвященные российскому масонству XX века в книге Л. П. Замойского (см. библиографию в примечаниях){8}. Позднее, в 1986 году, в Нью-Йорке была издана книга эмигрантки Н. Н. Берберовой «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия», опиравшаяся, в частности, и на исследования В. И. Старцева (Н. Н. Берберова сама сказала об этом на 265–266 стр. своей книги — не называя, правда, имени В. И. Старцева, чтобы не «компрометировать» его). С другой стороны, в этой книге широко использованы, в сущности, недоступные тогда русским историкам западные архивы и различные материалы эмигрантов. Но надо прямо сказать, что многие положения книги Н. Н. Берберовой основаны на не имеющих действительной достоверности записках и слухах и вполне надежные сведения перемешаны с по меньшей мере сомнительными (о некоторых из них еще будет сказано). Работы В. И. Старцева, как и книга Н. Н. Яковлева, с самого момента их появления и вплоть до последнего времени подвергались очень резким нападкам; историков обвиняли главным образом в том, что они воскрешают «черносотенный миф» о масонах (особенно усердствовал «академик И. И. Минц»). Между тем историки с непреложными фактами в руках доказали (вольно или невольно), что «черносотенцы» были безусловно правы, говоря о существовании деятельнейшего масонства в России и об его огромном влиянии на события, хотя при всем при том В. И. Старцев — и вполне понятно, почему он это делал, — не раз «отмежевывался» от проклятых «черносотенцев». Нельзя, правда, не оговорить, что в «черносотенных» сочинениях о масонстве очень много неверных и даже фантастических моментов. Однако ведь в те времена масоны были самым тщательным образом законспирированы; российская политическая полиция, которой еще П. А. Столыпин дал указание расследовать деятельность масонства, не смогла добыть о нем никаких существенных сведений. Поэтому странно было бы ожидать от «черносотенцев» точной и непротиворечивой информации о масонах. По-настоящему значителен уже сам по себе тот факт, что «черносотенцы» осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России. Решающая его роль в Феврале обнаружилась со всей очевидностью, когда — уже в наше время — было точно выяснено, что из 11 членов Временного правительства первого состава 9 (кроме А. И. Гучкова и П. Н. Милюкова) были масонами. В общей же сложности на постах министров побывали за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали к масонству! Ничуть не менее важен и тот факт, что в тогдашней «второй власти», ЦИК Петроградского Совета, масонами являлись все три члена президиума — А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев и Н. С. Чхеидзе — и двое из четырех членов Секретариата К. А. Гвоздев и уже известный нам Н. Д. Соколов (двое других секретарей Совета — К. С. Гриневич-Шехтер и Г. Г. Панков — не играли первостепенной роли). Поэтому так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве, и в Совете заправляли люди «одной команды»… Представляет особенный интерес тот факт, что трое из шести членов Временного правительства, которые не принадлежали к масонству (во всяком случае, нет бесспорных сведений о такой принадлежности), являлись наиболее общепризнанными, «главными» лидерами своих партий: это А. И. Гучков (октябрист), П. Н. Милюков (кадет) и В. М. Чернов (эсер). Не был масоном и «главный» лидер меньшевиков Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум). Между тем целый ряд других влиятельнейших — хотя и не самых популярных — лидеров этих партий занимал высокое положение и в масонстве, — например, октябрист С. И. Шидловский, кадет В. А. Маклаков, эсер Н. Д. Авксентьев, меньшевик Н. С. Чхеидзе (и, конечно, многие другие). Это объясняется, на мой взгляд, тем, что такие находившиеся еще до 1917 года под самым пристальным вниманием общества и правительства лица, как Гучков или Милюков, легко могли быть «разоблачены», и их не ввели в масонские «кадры» (правда, некоторые авторы объясняют их непричастность к масонству тем, что тот же Милюков, например, не хотел подчиняться масонской дисциплине). Н. Н. Берберова пыталась доказывать, что Гучков все же принадлежал к масонству, но ее доводы недостаточно убедительны. Однако вместе с тем В. И. Старцев совершенно справедливо говорит, что Гучков «был окружен масонами со всех сторон» и что, в частности, заговор против царя, приготовлявшийся с 1915 года, осуществляла «группа Гучкова, в которую входили виднейшие и влиятельнейшие руководители российского политического масонства Терещенко и Некрасов… и заговор этот был все-таки масонским» («Вопросы истории», 1989, № 6, с. 44). Подводя итог, скажу об особой роли Керенского и Соколова, как я ее понимаю. И для того, и для другого принадлежность к масонству была гораздо важнее, чем членство в каких-либо партиях. Так, Керенский в 1917 году вдруг перешел из партии «трудовиков» в эсеры. Соколов же, как уже сказано, представлялся «внефракционным» социал-демократом. А во-вторых, для Керенского, сосредоточившего свою деятельность во Временном правительстве, Соколов был, по-видимому, главным сподвижником во «второй» власти — Совете. Многое говорят позднейшие (1927 года) признания Н. Д. Соколова о необходимости масонства в революционной России: «…радикальные элементы из рабочих и буржуазных классов не смогут с собой сговориться о каких-либо общих актах, выгодных обеим сторонам… Поэтому… создание органов, где представители таких радикальных элементов из рабочих и не рабочих классов могли бы встречаться на нейтральной почве… очень и очень полезно…» И он, Соколов, «давно, еще до 1905 г., старался играть роль посредника между социал-демократами и либералами»{9}. * * *Масонам в Феврале удалось быстро разрушить государство, но затем они оказались совершенно бессильными и менее чем через восемь месяцев потеряли власть, не сумев оказать, по сути дела, ровно никакого сопротивления новому, Октябрьскому, перевороту. Прежде чем говорить о причине бессилия героев Февраля, нельзя не коснуться господствовавшей в советской историографии версии, согласно которой переворот в феврале 1917 года был якобы делом петроградских рабочих и солдат столичного гарнизона, будто бы руководимых к тому же главным образом большевиками. Начну с последнего пункта. Во время переворота в Петрограде почти не было сколько-нибудь влиятельных большевиков. Поскольку они выступали за поражение в войне, они вызвали всеобщее осуждение и к февралю 1917 года пребывали или в эмиграции в Европе и США, или в далекой ссылке, не имея сколько-нибудь прочной связи с Петроградом. Из 29 членов и кандидатов в члены большевистского ЦК, избранного на VI съезде (в августе 1917 года), ни один не находился в февральские дни в Петрограде! И сам Ленин, как хорошо известно, не только ничего не знал о готовящемся перевороте, но и ни в коей мере не предполагал, что он вообще возможен. Что же касается массовых рабочих забастовок и демонстраций, начавшихся 23 февраля, они были вызваны недостатком и невиданной дороговизной продовольствия, в особенности хлеба, в Петрограде. Но дефицит хлеба в столице был, как следует из фактов, искусственно организован. В исследовании Т. М. Китаниной «Война, хлеб, революция (продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917)», изданном в 1985 году в Ленинграде, показано, что «излишек хлеба (за вычетом объема потребления и союзных поставок) в 1916 г. составил 197 млн. пуд.» (с. 219); исследовательница ссылается, в частности, на вывод А. М. Анфимова, согласно которому «Европейская Россия вместе с армией до самого урожая 1917 г. могла бы снабжаться собственным хлебом, не исчерпав всех остатков от урожаев прошлых лет» (с. 338). И в уже упомянутой книге Н. Н. Яковлева «1 августа 1914» основательно говорится о том, что заправилы Февральского переворота «способствовали созданию к началу 1917 года серьезного продовольственного кризиса… Разве не прослеживается синхронность — с начала ноября резкие нападки (на власть. — В.К.) в Думе и тут же крах продовольственного снабжения!» (с. 206). Иначе говоря, «хлебный бунт» в Петрограде, к которому вскоре присоединились солдаты «запасных полков», находившихся в столице, был специально организован и использован главарями переворота. Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытывали нехватку снарядов. Однако к 1917 году на складах находилось 30 миллионов (!) снарядов — примерно столько же, сколько было всего истрачено за 1914–1916 годы (между прочим, без этого запаса артиллерия в Гражданскую войну 1918–1920 годов, когда заводы почти не работали, вынуждена была бы бездействовать…). Если учесть, что начальник Главного артиллерийского управления в 1915-м — феврале 1917 гг. А. А. Маниковский был масоном и близким сподвижником Керенского, ситуация становится ясной; факты эти изложены в упомянутой книге Н. Н. Яковлева (см. с. 195–201). То есть и резкое недовольство в армии, и «хлебный бунт» в Петрограде, в сущности, были делом рук «переворотчиков». Но этого мало. Фактически руководивший армией начальник штаба Верховного главнокомандующего (то есть Николая II) генерал М. В. Алексеев не только ничего не сделал для отправления 23–27 февраля войск в Петроград с целью установления порядка, но и, со своей стороны, использовал волнения в Петрограде для самого жесткого давления на царя и, кроме того, заставил его поверить, что вся армия — на стороне переворота. Н. Н. Берберова в своей книге утверждает, что Алексеев сам принадлежал к масонству. Это вряд ли верно (хотя бы потому, что для военнослужащих вступление в тайные организации являлось, по существу, преступным деянием). Но вместе с тем находившийся в Ставке Верховного Главнокомандующего военный историк Д. Н. Дубенский свидетельствовал в своем изданном еще в 1922 году дневнике-воспоминаниях: «Генерал Алексеев пользовался… самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи… Ему глубоко верил Государь… генерал Алексеев мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию… У него была вся власть (над армией. — В.К.)… К величайшему удивлению… с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность…» (цит. по кн.: Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. — Л., 1927, с. 43). Далее Д. Н. Дубенский рассказывал, как командующий Северным фронтом генерал Д. Н. Рузский (Н. Н. Берберова тоже не вполне обоснованно считает его масоном) «с цинизмом и грубою определенностью» заявил уже 1 марта: «…надо сдаваться на милость победителю». Эта фраза, писал Д. Н. Дубенский, «все уяснила и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот» (с. 61). И историк вспоминал, как уже 2 марта близкий к «черносотенцам» генерал-адъютант К. Д. Нилов назвал Алексеева «предателем» и сделал такой вывод: «…масонская партия захватила власть» (с. 66). Подобные утверждения в течение долгих лет квалифицировались как «черносотенные» выдумки, но ныне отнюдь не «черносотенные» историки доказали правоту этого вывода. Впрочем, к фигуре генерала Алексеева мы еще вернемся. Прежде необходимо осознать, что российские масоны были до мозга костей «западниками». При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству. Побывавший в масонстве Г. Я. Аронсон писал: «Русские масоны как бы светили заемным светом с Запада» (Николаевский Б. И., цит. изд., с. 151). И Россию они всецело мерили чисто «западными» мерками. По свидетельству А. И. Гучкова, герои Февраля полагали, что «после того как дикая стихийная анархия, улица (имелись в виду февральские беспорядки в Петрограде. — В.К.), падет, после этого люди государственного опыта, государственного разума, вроде нас, будут призваны к власти. Очевидно, в воспоминание того, что… был 1848 год (то есть революция во Франции. — В.К.): рабочие свалили, а потом какие-то разумные люди устроили власть» («Вопросы истории», 1991, № 7, с. 204). Гучков определил этот «план» словом «ошибка». Однако перед нами не столько конкретная «ошибка», сколько результат полного непонимания России. И Гучков к тому же явно неверно характеризовал сам ход событий. Ведь согласно его словам «стихийная анархия» — это забастовки и демонстрации, состоявшиеся с 23 по 27 февраля в Петрограде; 27 февраля был образован «Временный комитет членов Государственной Думы», а 2 марта — Временное правительство. Но ведь именно оно и осуществило полное уничтожение прежнего государства. То есть настоящая «стихийная анархия», охватившая в конечном счете всю страну и всю армию (а не всего лишь несколько десятков тысяч людей в Петрограде, действия которых были ловко использованы героями Февраля), разразилась уже потом, когда к власти пришли эти самые «разумные люди»… Словом, российские масоны представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной русской свободе — «свободе духа и быта», о которой постоянно размышлял, в частности, «философ свободы» Н. А. Бердяев. В западноевропейских странах даже самая высокая степень свободы в политической и экономической деятельности не может привести к роковым разрушительным последствиям, ибо большинство населения ни под каким видом не выйдет за установленные «пределы» свободы, будет всегда «играть по правилам». Между тем в России безусловная, ничем не ограниченная свобода сознания и поведения — то есть, говоря точнее, уже, в сущности, не свобода (которая подразумевает определенные границы, рамки «закона»), а собственно российская воля вырывалась на простор чуть ли ни при каждом существенном ослаблении государственной власти{10} и порождала неведомые Западу безудержные русские «вольницы» — болотниковщину (в пору Смутного времени), разинщину, пугачевщину, махновщину, антоновщину и т. п. Пушкин, в котором наиболее полно и совершенно воплотился русский национальный гений, начиная по меньшей мере с 1824 года испытывал самый глубокий и острый интерес к этим явлениям, более всего, естественно, к недавней пугачевщине{11}, которой он и посвятил свои главные творения в сфере художественной прозы («Капитанская дочка», 1836) и историографии («История Пугачева», вышедшая в свет в конце 1834 года под заглавием — по предложению финансировавшего издание Николая I — «История Пугачевского бунта»). При этом Пушкин предпринял весьма трудоемкие архивные разыскания, а в 1833 году в течение месяца путешествовал по «пугачевским местам», расспрашивая, в частности, престарелых очевидцев событий 1773–1775 годов. Но дело, конечно, не просто в тщательности исследования предмета; Пушкин воссоздал пугачевщину с присущим ему, и, без преувеличения, только ему — всепониманием. Позднейшие толкования в сравнении с пушкинским односторонни и субъективны. Более того, столь же односторонни и субъективны толкования самих творений Пушкина, посвященных пугачевщине (яркий пример — эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев»). Исключение представляет, пожалуй, лишь недавняя работа В. Н. Катасонова («Наш современник», 1994, № 1), где пушкинский образ Пугачева осмыслен в его многомерности. Говоря попросту, пугачевщину после Пушкина либо восхваляли, либо проклинали. Особенно это характерно для эпохи Революции, когда о пугачевщине (а также о разинщине и т. п.) вспоминали едва ли не все тогдашние идеологи и писатели. Ныне постоянно цитируют пушкинские слова: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — причем они обычно толкуются как чисто отрицательная, даже уничтожающая характеристика. Но это не столь уж простые по смыслу слова. Они, между прочим, как-то перекликаются с приведенными Пушкиным удивительными словами самого Пугачева (их сообщил следователь, первым допросивший выданного своими сподвижниками атамана, — капитан-поручик Маврин): «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». И в том и в другом высказывании «русский бунт» — то есть своеволие — как-то связывается с волей Бога, который «привел» увидеть или «наказал», — и в целостном контексте пушкинского воссоздания пугачевщины это так и есть. Кроме того, поставив определения «бессмысленный и беспощадный» после определяемого слова, Пушкин тем самым придал им особенную емкость и весомость; нас как бы побуждают вглядеться, вслушаться в эти определения и осознать их многозначность. «Бессмысленный» — это ведь значит и бесцельный, самоцельный и, значит, бескорыстный. А особенное ударение на завершающем слове «беспощадный» — разумеется, в связи с пушкинским воссозданием пугачевщины в целом — несет в себе смысл ничем не ограниченной беспощадности, естественно обращающейся и на самих бунтовщиков, и на их вожака, выданного в конце концов на расправу «своими». Это скорее Божья кара, чем собственно человеческая жестокость. Пушкин обратил внимание на своего рода тайну. Он рассказал, что в конце июля 1774 года, то есть всего за несколько недель до ареста, Пугачев, «окруженный отовсюду войсками правительства, не доверяя своим сообщникам… уже думал о своем спасении; цель его была: пробраться за Кубань или в Персию». Но, как это ни странно, «никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции… Составлялись отдельные шайки… и каждая имела у себя своего Пугачева…» Словом, «русский бунт» — это по сути своей не чье-либо конкретное действие, но своего рода состояние, вдруг захватившее весь народ, — ничему и никому не подчиняющаяся стихия, подобная лесному пожару… Безудержный «русский бунт» вызывал и вызывает совершенно разные «оценки». Одни усматривают в нем проявление беспрецедентной свободы, извечно присущей (хотя и не всегда очевидной) России, другие, напротив, — выражение ее «рабской» природы: «бессмысленность» бунта свойственна, мол, заведомым рабам, которые даже и в восстании не способны добиваться удовлетворения конкретных практических интересов (как это делают, скажем, западноевропейские повстанцы) и бунтуют, в сущности, только ради самого бунта… Но подобные одноцветные оценки столь грандиозных национально-исторических явлений вообще не заслуживают серьезного внимания, ибо характеризуют лишь настроенность тех, кто эти оценки высказывает, а не сам оцениваемый «предмет». События, которые так или иначе захватывают народ в целом, с необходимостью несут в себе и зло, и добро, и ложь, и истину, и грех, и святость… Необходимо отдать себе ясный отчет в том, что и безоговорочные проклятия и такие же восхваления «русского бунта» неразрывно связаны с заведомо примитивным и просто ложным восприятием самого «своеобразия» России и, с другой стороны, Запада: в первом случае Россию воспринимают как нечто безусловно «худшее» в сравнении с Западом, во втором — как столь же безусловно «лучшее». Но и то и другое восприятие не имеет действительно серьезного смысла: спор о том, что «лучше» — Россия или Запад, вполне подобен, скажем, спорам о том, где лучше жить — в лесной или степной местности, и даже кем лучше быть — женщиной или мужчиной… и т. п. Пытаться выставить непротиворечивые «оценки» тысячелетнему бытию и России, и Запада — занятие для идеологов, не доросших до зрелого мышления. Впрочем, пора обратиться непосредственно к 1917 году. Как уже сказано, «пугачевщина» и «разинщина» постоянно вспоминались в то время, — что было вполне естественно. Вместе с тем на сей раз последствия были совсем иными, чем при Пугачеве, ибо бунтом была захвачена и до основания разложенная новыми правителями армия (которая во время пугачевщины все-таки сохранилась — пусть и было немало случаев перехода солдат и даже офицеров в ряды бунтовщиков). Более того, миллионы солдат, самовольно покидавших — нередко с оружием в руках — армию, стали наиболее действенной закваской всеобщего бунта. Советская историография пыталась доказывать, что-де основная масса «бунтовщиков», — в том числе солдаты, — боролась в 1917 году против «буржуазного» Временного правительства за победу большевиков, за социализм-коммунизм. Но это явно не соответствует действительности. Генерал Деникин, досконально знавший факты, говоря в своих фундаментальных «Очерках русской смуты» о самом широком распространении большевистской печати в армии, вместе с тем утверждал: «Было бы, однако, неправильно говорить о непосредственном влиянии печати на солдатскую массу. Его не было… Печать оказывала влияние главным образом на полуинтеллигентскую (весьма незначительную количественно. — В.К.) часть армейского состава». Что же касается миллионов рядовых солдат, то в их сознании, констатировал генерал, «преобладало прямолинейное отрицание: «Долой!» Долой… вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе утробным инстинктам и стесняющее «свободную волю» — все долой!»{12}. Нельзя не отметить прямое противоречие в этом тексте: Деникин определяет бунт солдат и как проявление «утробных инстинктов» — то есть как нечто низменное, телесное, животное, и в то же время как порыв к «свободной воле» (для определения этого феномена оказались как бы недостаточными взятые по отдельности слова «свобода» и «воля», и генерал счел нужным соединить их, явно стремясь тем самым выразить нечто «беспредельное»; ср. народное словосочетание «воля вольная»). Но «утробные инстинкты» (например, животный страх перед гибелью) и стремление к безграничной «воле» — это, конечно же, совершенно различные явления; второе подразумевает, в частности, преодоление смертного страха… Таким образом, Деникин, едва ли сознавая это, дал солдатскому бунту и своего рода «высокое» толкование. Не исключено возражение, что Деникин, мол, исказил реальную картину, ибо не желал признавать внушительную роль ненавистных ему большевиков. Однако, в сущности, то же самое говорил в своих воспоминаниях генерал от кавалерии (с 1912 года) А. А. Брусилов, перешедший, в отличие от Деникина, на сторону большевиков. Бунтовавшие в 1917 году солдатские массы, свидетельствовал генерал, «совершенно не интересовали Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе начала будущей свободной жизни»{13}. Следует привести мнение еще одного серьезно размышлявшего человека, который, по-видимому, не участвовал в революционных событиях, был только «страдающим» лицом, в конце концов бежавшим на Запад. Речь идет о российском немце М. М. Гаккебуше (1875–1929), издавшем в 1921 году в Берлине книжку с многозначительным заглавием «На реках Вавилонских: заметки беженца»; при этом он издал ее под таким же многозначительным псевдонимом «М. Горелов», явно не желая и теперь, в эмиграции, вмешивать себя лично в политические распри. В книжке немало всякого рода эмоциональных оценок «беженца», но есть и достаточно четкое определение совершившегося. Напоминая, в частности, о том, что Достоевский называл русский народ «богоносцем», Гаккебуш-Горелов писал, что в 1917 году «мужик снял маску… «Богоносец» выявил свои политические идеалы: он не признает никакой власти, не желает платить податей и не согласен давать рекрутов. Остальное его не касается»{14}. Тут же «беженец» ставил пресловутый вопрос «кто виноват?» в этом мужицком отрицании власти: «Виноваты все мы — сам-то народ меньше всех. Виновата династия, которая наиболее ей, казалось бы, дорогой монархический принцип позволила вывалять в навозе; виновата бюрократия, рабствовавшая и продажная; духовенство, забывшее Христа и обратившееся в рясофорных жандармов; школа, оскоплявшая молодые души; семья, развращавшая детей, интеллигенция, оплевывавшая родину…» (напомню, что В. В. Розанов еще в 1912 году писал: «У француза — «chere France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристает к партии «ниспровержения» государственного строя…»){15}. Итак, совместные действия различных сил (Гаккебуш обвиняет и саму династию…) развенчали русское государство, и в конце концов оно было разрушено. И тогда «мужик» отказался от подчинения какой-либо власти, избрав ничем не ограниченную «волю». Гаккебуш был убежден, что тем самым «мужик» целиком и полностью разоблачил мнимость представления о нем как о «богоносце». И хотя подобный приговор вынесли вместе с этим малоизвестным автором многие из самых влиятельных тогдашних идеологов, проблема все-таки более сложна. Ведь тот, кто не признает никакой земной власти, открыт тем самым для «власти» Бога… Один из виднейших художников слова того времени — И. А. Бунин записал в своем дневнике (в 1935 году он издал его под заглавием «Окаянные дни») 11 (24) июня 1919 года, что «всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разбойнички»… бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся…»{16} (кстати, Бунин в избранном им для своего дневника заглавии перекликнулся — вероятно, не осознавая этого — с приведенными Пушкиным словами Пугачева: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». — В.К.). В полнейшем непонимании извечного русского «своеобразия» Бунин усматривает роковой просчет политиков: «Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом…» (там же, с. 113). Став и свидетелем, и жертвой безудержного «русского бунта», Бунин яростно проклинал его. Но как истинный художник, не могущий не видеть всей правды, он ясно высказался — как бы даже против своей воли — о сугубой «неоднозначности» (уж воспользуюсь популярным ныне словечком) этого бунта. Казалось бы, он резко разграничил два человеческих «типа», отделив их даже этнически: «Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь и Меря» (как бы не желая целиком и полностью проклинать свою до боли любимую Русь, писатель едва ли хоть сколько-нибудь основательно пытается приписать бунтарскую инициативу «финской крови»…). Однако этот тезис тут же опровергается ходом бунинского размышления: «Но (смотрите — Бунин неожиданно возражает этим «но» себе самому! — В.К.) и в том, и в другом (типе. — В.К.) есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «из нас, как из дерева, — и дубина, и икона» — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» (с. 62). Выходит, тезис о «двух типах» неверен: за преподобным Сергием шли такие же русские люди, что и за отлученным от Церкви Емелькой, и «облик» русских людей зависит от исторических «обстоятельств» (а не от наличия двух «типов»). И в самом деле: заведомо неверно полагать, что в людях, шедших за Пугачевым, не было внутреннего единства с людьми, которые шли за преподобным Сергием… Бунин говорит о «шаткости», о «переменчивости» народных настроений и обличий, но основа-то была все-таки та же… Замечательно, что уже после цитированных дневниковых записей, в 1921 году, Бунин создал одно из чудеснейших своих творений — «Косцы» — поистине непревзойденный гимн «русскому (конкретно — рязанскому, есенинскому) мужику», где все же упомянул и о том, что так его ужасало: «…а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством» («гибельная» здесь совершенно точное слово). Итак, в той беспредельной «воле», которой возжаждал после распада государства и армии народ, было, если угодно, и нечто «богоносное» (вопреки мнению Гаккебуша-Горелова), — хотя весьма немногие идеологи обладали смелостью разглядеть это в «русском бунте». И все же сколько бы ни оспаривали финал созданной в январе 1918 года знаменитой поэмы Александра Блока, где впереди двенадцати «разбойников-апостолов» является не кто иной, как Христос, решение поэта по-своему незыблемо: «Я, — писал он 10 марта 1918 года, — только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Исуса Христа»…»{17} Достаточно хорошо известно, что образ «русского бунта» в блоковской поэме многие воспринимали (и воспринимают сейчас) как образ большевизма. Это естественно вытекало из широко распространенного, но тем не менее безусловно ложного представления, согласно которому «русский бунт» XX века вообще отождествлялся с большевизмом (такое понимание присутствует, в частности, и в бунинских «Окаянных днях», но смысл книги в целом никак не сводим к этому). На деле же — о чем еще будет подробно сказано — «русский бунт» был самым мощным и самым опасным врагом большевиков. * * *Разговор о смысле блоковской поэмы отнюдь не уводит нас от главной цели — истинного понимания того, что происходило в России в 1917-м и последующих годах. Необходимо осознать заведомую недостаточность и даже прямую ложность «классового» и вообще чисто политического истолкования Революции. Нет сомнения, что классовые интересы играют очень весомую роль в истории (хотя многие нынешние влиятельные лица, главным образом перевертыши типа тов. Яковлева, еще совсем недавно рьяно утверждавшие именно «классовые» представления об истории, склонны теперь отрицать это). Но все же Революция — слишком грандиозное и многомерное явление бытия, которое никак нельзя втиснуть в классовые и вообще собственно политические рамки, и в этом одна из главных основ моих дальнейших рассуждений. Александр Блок в 1920 году с полной определенностью сказал: «…те, кто видят в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой» (т. 3, с. 474). Следует напомнить, что целая когорта тогдашних литераторов, на разные лады призывавших до 1917 года к разрушению Русского государства, а позднее никак не могущих примириться с приходом к власти своих соперников-большевиков, стала обвинять автора «Двенадцати» в восхвалении большевизма. Между тем большевики воспринимали «Двенадцать» отнюдь не как нечто им близкое. Александр Блок засвидетельствовал, что сестра Л. Д. Троцкого и жена Л. Б. Каменева — О. Д. Каменева (в девичестве Бронштейн), после Октября «руководившая» театрами России, — уже 9 марта 1918 года (поэма была опубликована 3 марта) заявила жене поэта, актрисе Л. Д. Блок, которая тогда читала «Двенадцать» с эстрады: «Стихи Александра Александровича («Двенадцать») — очень талантливое, почти гениальное изображение действительности (то есть несет в себе истину. — В.К.)… но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся»{18}. Позднее, в 1922 году, Троцкий, также признавая, — вероятно, под давлением уже сложившегося в литературных кругах мнения, — что Блок создал «самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма «Двенадцать» останется навсегда»{19}, вместе с тем заявил: «Блок дает не революцию и уж, конечно, не работу ее руководящего авангарда, а сопутствующие ей явления… по сути, направленные против нее» (там же, с. 101). И Троцкий вообще крайне возмущался тем, что «наши революционные поэты почти сплошь возвращаются вспять к Пугачеву и Разину! Василий Каменский поэт Разина, а Есенин — Пугачева… плохо и преступно (! — В.К.) то, что иначе они не умеют подойти к нынешней революции, растворяя ее тем самым в слепом мятеже, в стихийном восстании… Но ведь что же такое наша (то есть та, которой руководит Троцкий. — В.К.) революция, если не бешеное восстание против стихийного бессмысленного… против то есть мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее (нетелеологичности), против ее «святой» идиотической каратаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни… Еще десятки лет пройдут, пока каратаевщина будет выжжена без остатка. Но процесс этот уже начат, и начат хорошо» (там же, с. 91–92). Примечательно, что Троцкий здесь же цитирует — хотя и неточно — Пушкина: «Пушкин сказал, что наше народное движение — это бунт, бессмысленный и жестокий. Конечно, это барское определение, но в своей барской ограниченности — глубокое и меткое» (с. 91); «бессмысленный» означает, в частности, «бесцельный», о чем и сказал верно Троцкий. И еще одна цитата из Троцкого: «Для Блока революция есть возмущенная стихия… Для Клюева, для Есенина — пугачевский и разинский бунты… Революция же есть прежде всего борьба рабочего класса за власть, за утверждение власти…» (с. 83). (Даю в скобках краткое отступление, касающееся двух из названных поэтов. Если Александр Блок воспринимал «русский бунт» в той или иной мере «со стороны», то «преступный», по определению Троцкого, Сергей Есенин ощущал — пусть и в известной степени — свою прямую причастность этому бунту, что, по-видимому, выразилось (хотя и неадекватно) в его словах из автобиографии, написанной 14 мая 1922 года: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее», и из письма от 7 февраля 1923 года: «Я перестал понимать, к какой революции я принадлежал? Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской… В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь». Следует обратить внимание на тот факт, что Блок — как и Бунин в «Окаянных днях» — все же в определенной мере склонен был отождествлять большевиков и русский бунт; так, его двенадцать сами говорят друг другу «над собой держи контроль», хотя на деле это требовали от них другие. Между тем у Есенина — хотя бы в его драматической поэме «Страна негодяев» — ясно разграничены русский бунт и ставящей задачей «укротить» его большевик Чекистов-Лейбман.) Как мы видели, Троцкий полагал, что «русский бунт» по своей сути направлен против той революции, одним из «самых выдающихся вождей» (по определению Ленина) которой он был и которую он (см. выше) счел уместным охарактеризовать как «бешеное (!) восстание» против этого самого беспредельного и (по ироническому определению самого Троцкого) «святого» русского бунта — «восстание», преследующее цель «утверждения власти». Но вместе с тем нельзя не видеть, что Троцкий и его сподвижники смогли оказаться у власти именно и только благодаря этому русскому бунту, который означал ликвидацию власти вообще. Большевики ведь, в сущности, не захватили, не завоевали, но лишь подняли выпавшую из рук их предшественников власть; во время Октябрьского переворота даже почти не было человеческих жертв, хотя вроде бы совершился «решительный бой». Но затем жертвы стали исчисляться миллионами, ибо большевикам пришлось в полном смысле слова «бешено» бороться за удержание и упрочение власти… При этом дело шло как о вертикали власти (новые правящие «верхи» — и «низы», которых еще нужно было «подчинить»), так и об ее горизонтали — то есть об овладении всем гигантским пространством России, ибо распад государственности после Февраля закономерно привел к распаду самой страны. Александр Блок записал 12 июля 1917 года: «Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию»…» (т. 7, с. 279). Речь шла о событиях, описанных в «Очерках русской смуты» А. И. Деникина так: «Весь май и июнь (1917 года. — В.К.) протекали в борьбе за власть между правительством (Временным, в Петрограде. — В.К.) и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства (Петроградского. — В.К.), чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой… 12 июня объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров)… Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление… дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь…» («Вопросы истории», 1990, № 5, с. 146–147). В сентябре вслед за Украиной начал отделяться Северный Кавказ, где (в Екатеринодаре) возникло «Объединенное правительство Юго-восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей», в ноябре — Закавказье (основание «Закавказского комиссариата» в Тифлисе), в декабре — Молдавия (Бессарабия) и Литва и т. д. Провозглашали свою «независимость» и отдельные регионы, губернии и даже уезды! Следует обратить внимание на тот выразительный факт, что позднее против различных «независимых» властей в России боролись в равной мере и Красная, и Белая армии (например, против правительств Петлюры и Жордании). Возникновение «независимых государств» с неизбежностью порождало кровавые межнациональные конфликты, в частности в Закавказье. Страдали и жившие здесь русские: «В то время как закавказские народы в огне и крови разрешали вопросы своего бытия, — рассказывал 75 лет назад А. И. Деникин, — в стороне от борьбы, но жестоко страдая от ее последствий, стояло полумиллионное русское население края (Закавказья. — В.К.), а также те, кто, не принадлежа к русской национальности, признавали себя все же российскими подданными. Попав в положение «иностранцев», лишенные участия в государственной жизни… под угрозой суровых законов… о «подданстве»… русские люди теряли окончательно почву под ногами… Я не говорю уже о моральном самочувствии людей, которым закавказская пресса и стенограммы национальных советов подносили беззастенчивую хулу на Россию и повествование о «рабстве, насилиях, притеснениях, о море крови, пролитом свергнутой властью»… Их крови, которая ведь перестала напрасно литься только со времени водворения… «русского владычества…» (там же, 1992, № 4–5, с. 97). Важно осознать, что катастрофический распад страны был следствием именно Февральского переворота, хотя распад этот продолжался, конечно, и после Октября. «Бунт», разумеется, развертывался с сокрушительной силой и в собственно русских регионах. В советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой народное бунтарство между Февралем и Октябрем было-де борьбой за социализм-коммунизм против буржуазной (или хотя бы примиренческой по отношению к буржуазному, капиталистическому пути) власти, а мятежи после Октября являлись, мол, уже делом «кулаков» и других «буржуазных элементов». Как бы в противовес этому в последнее время была выдвинута концепция всенародной борьбы против социализма-коммунизма в послеоктябрьское время — концепция, наиболее широко разработанная эмигрантским историком и демографом М. С. Бернштамом. И та и другая точки зрения (и сугубо советская, и столь же сугубо «антисоветская») едва ли верны. О том, что «русский бунт» после Февраля вовсе не был по своей сути социалистически-коммунистическим, уже не раз говорилось выше. Но стоит процитировать еще суждения очень влиятельного и осведомленного послефевральского деятеля В. Б. Станкевича (1884–1969). Юрист и журналист, затем офицер (во время войны), он был ближайшим соратником Керенского и по масонской, и по правительственной линии, являлся членом ЦИК Петроградского Совета и одновременно одним из главных военных комиссаров Временного правительства, но довольно рано понял обреченность героев Февраля. В своих весьма умных мемуарах, изданных в 1920 году в Берлине, он писал, что после Февраля «масса… вообще никем не руководится… она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации…». Станкевич размышлял о солдатах, взбунтовавшихся в феврале: «С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги… Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт (Станкевич явно счел даже это слово слишком «узким» для обозначения того, что происходило. — В.К.), а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах»{20}. Советская историография пыталась доказывать, что это «стихийное движение» было по своей сути «классовым» и вскоре пошло-де за большевиками. А нынешний «антисоветский» историк М. С. Бернштам, напротив, настаивает на том, что после Октября народное движение было всецело направлено против социализма-коммунизма (ту же точку зрения — независимо от этого эмигранта — выдвигал в ряде недавних своих сочинений и В. А. Солоухин). Бунин, который прямо и непосредственно наблюдал «русский бунт», словно предвидя появление в будущем сочинений, подобных бернштамовскому, записал в дневнике 5 мая 1919 года: «…мужики… на десятки верст разрушают железную дорогу (будто бы для того, чтобы «не пропустить» коммунизм. — В.К.). Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками»… дело заключается… в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч…» (указ. соч., с. 112). Нельзя не заметить, что М. С. Бернштам — по сути дела, подобно ортодоксальным советским историкам — предлагает «классовое» или, во всяком случае, политическое толкование «русского бунта» (как антикоммунистического), хотя и «оценивает» антикоммунизм совсем по-иному, чем советская историография. В высшей степени характерно, что он опирается в своей работе почти исключительно на большевистские тезисы и исследования. «В. И. Ленин… — с удовлетворением констатирует, например, М. С. Бернштам, — указывал, что эта сила крестьянского и общенародного повстанчества, или, в его терминах, мелкобуржуазной стихии, оказалась для коммунистического режима опаснее всех белых армий вместе взятых»{21}. Действительно, В. И. Ленин — кстати сказать, в полном согласии с приведенными выше суждениями Л. Д. Троцкого — не раз утверждал, что «мелкобуржуазная анархическая стихия» представляет собой «опасность, во много раз (даже так! — В.К.) превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе» (т. 43, с. 18), что она — «самый опасный враг пролетарской диктатуры» (там же, с. 32). Ссылается М. С. Бернштам и на множество работ советских историков, в том числе самых что ни есть «догматических». Так, он пишет: «Источники насчитывают сотни восстаний по месяцам сквозь всю войну 1917–1922 годов». Советский историк Л. М. Спирин обобщает: «С уверенностью можно сказать, что не было не только ни одной губернии, но и ни одного уезда, где бы не происходили выступления и восстания населения против коммунистического режима». Правда, М. С. Бернштаму, очевидно, не понравились классовые оценки Л. М. Спирина, и он при «цитировании» попросту заменил их своими: у советского историка вместо неопределенного «населения» сказано: «кулаков, богатых крестьян и части середняков». Между тем, добавив опять-таки от себя в цитату из Л. М. Спирина слова «против коммунистического режима»{22}, М. С. Бернштам сам таким образом встал именно на «классовую», чисто «политическую» точку зрения, — «население» восставало, мол, против определенного строя, а не против любой, всякой власти. Но вглядимся в также опирающееся на бесспорные факты «обобщение» другого советского историка, Е. В. Иллерицкой: «К ноябрю 1917 г. (то есть к 25 октября / 7 ноября. — В.К.) 91,2 % уездов оказались охваченными аграрным движением, в котором все более преобладали активные формы борьбы, превращавшие это движение в крестьянское восстание. Важно отметить, что карательная политика Временного правительства осенью 1917 г. …перестала достигать своих целей. Солдаты все чаще отказывались наказывать крестьян…»{23} Итак, хотя Временное правительство не насаждало коммунизм, бунт и при нем имел всеобщий характер (91,2 % всех уездов!). Но, пожалуй, еще выразительнее тот факт, что и после Октября «русский бунт» обращался вовсе не только против красных, но и против белых властей! Об этом, кстати сказать, упоминает — правда, бегло — и сам М. С. Бернштам. Не желая, надо думать, совсем закрыть глаза на реальное положение дела, он пишет, что народное повстанчество 1918–1920 годов являло собой «сражение и против красных, и против белых» (с. 18), и в глазах народа «белые такие же насильники, как и красные» (с. 74). Но тем самым, в сущности, всецело подрывается его общая концепция, согласно которой бунт был направлен именно против «коммунизма»; он был направлен против всякой власти вообще и, в частности, против любых видов «податей» и «рекрутства» (пользуясь вышеприведенными определениями Гаккебуша-Горелова), без которых и немыслимо существование государственности. После разрушения веками существовавшего Государства народ явно не хотел признавать никаких форм государственности. Об этом горестно писал в феврале 1918 года видный меньшевистский деятель, а впоследствии один из ведущих советских дипломатов И. М. Майский (Ляховецкий, 1884–1975): «…когда великий переворот 1917 г. (имеется в виду Февраль. — В.К.) смел с лица земли старый режим, когда раздались оковы, и народ почувствовал, что он свободен, что нет больше внешних преград, мешающих выявлению его воли и желаний, — он, это большое дитя, наивно решил, что настал великий момент осуществления тысячелетнего царства блаженства, которое должно ему принести не только частичное, но и полное освобождение»{24}. Оставим в стороне выражения вроде «большое дитя» (поистине детскую наивность проявили как раз вожаки Февраля, совершенно не понимавшие, чем обернется для них самих разрушение Государства); существенна мысль о «блаженной» беспредельной воле, мечта о которой всегда жила в народных глубинах и со всей очевидностью воплотилась в русском фольклоре — и во множестве лирических песен, и в заветных сказках о не подвластных никому и ничему Иванушке и тезке Пугачева — Емеле… Но совершенно ясно (об этом уже шла речь выше), что при таком безгранично вольном, пользуясь модным термином, «менталитете» народа само бытие России попросту невозможно, немыслимо без мощной и твердой государственной власти; власть западноевропейского типа, о коей грезили герои Февраля, для России заведомо и полностью непригодна… И, взяв в октябре власть, большевики в течение длительного времени боролись вовсе не за социализм-коммунизм, а за удержание и упрочение власти, — хотя мало кто из них сознавал это с действительной ясностью. То, что было названо периодом «военного коммунизма» (1918 — начало 1921 года), на деле являло собой «бешеную», по слову Троцкого, борьбу за утверждение власти, а не создание определенной социально-экономической системы; в высшей степени характерно, что, так или иначе утвердив к 1921 году границы и устои государства, большевики провозгласили «новую» экономическую политику (нэп), которая в действительности была вовсе не «новой», ибо, по сути дела, возвращала страну к прежним хозяйственным и бытовым основам. Реальное «строительство» социализма-коммунизма началось лишь к концу 1920-х годов. Сами большевики определяли нэп как свое «отступление» в экономической сфере, но это, в сущности, миф, ибо «отступать» можно от чего-то уже достигнутого. Между тем к 1921 году подавляющее большинство — примерно 90 процентов — промышленных предприятий просто не работало (ни по-капиталистически, ни по-коммунистически), а крестьяне работали и жили, в общем, так же, как и до 1917 года (хотя имели до 1921 года очень мало возможностей для торговли своей продукцией). Слово «отступление» призвано было, в сущности, «успокоить» тех, кто считал Россию уже в каком-то смысле социалистически-коммунистической страной: Россия, мол, только на некоторое время вернется от коммунизма к старым экономическим порядкам. Подлинно глубокий историк и мыслитель Л. П. Карсавин, высланный за границу в ноябре 1922 года, писал в своем трактате, изданном в следующем же, 1923 году в Берлине: «Тысячи наивных коммунистов… искренне верили в то, что, закрывая рынки и «уничтожая капитал», они вводят социализм… Но разве нет непрерывной связи этой политики с экономическими мерами последних царских министров, с программою того же Риттиха (министр земледелия в 1916 — начале 1917 г. — В.К.)? Возможно ли было в стране с бегущей по всем дорогам армией, с разрушающимся транспортом… спасти города от абсолютного голода иначе, как реквизируя и распределяя, грабя банки, магазины, рынки, прекращая свободную торговлю? Даже этими героическими средствами достигалось спасение от голодной смерти только части городского населения и вместе с ним правительственного аппарата: другая часть вымирала. И можно ли было заставить работать необходимый для всей этой политики аппарат — матросов, красноармейцев, юнцов-революционеров иначе, как с помощью понятных и давно знакомых им по социалистической пропаганде лозунгов?., коммунистическая идеология (так называемый «военный коммунизм». — В.К.) оказалась полезною этикеткою для жестокой необходимости… И немудрено, что, плывя по течению, большевики воображали, будто вводят коммунизм»{25}. В свете всего этого становится ясно, что народ в первые годы после Октября (как и после Февраля) оказывал сопротивление новой власти (причем любой власти — и красных, и белых), а не еще не существовавшему тогда социализму-коммунизму. И главная, поглощающая все основные усилия задача большевиков состояла тогда — хотя они мало или даже совсем не осознавали это — в утверждении и укреплении власти как таковой. Михаил Пришвин — единственный из крупнейших писателей, проживший все эти годы в деревне, — записал 11 сентября 1922 года: «…крестьянин потому идет против коммуны, что он идет против власти». * * *В связи с этим в высшей степени уместно обратиться к высказываниям одного из наиболее выдающихся руководителей и идеологов «черносотенства» — Б. В. Никольского. Через два месяца после Октябрьского переворота этот ученик и продолжатель Константина Леонтьева писал (29 декабря 1917/11 января 1918 года): «Патриотизм и монархизм одни могут обеспечить России свободу, законность, благоденствие, порядок и действительно демократическое устройство…» — и выдвигал предположение, что «теперь самый исступленный большевик начинает признавать не только правизну, но и правоту моих убеждений»{26}. Это, конечно, было слишком, так сказать, лестное для большевиков предположение; за редчайшими исключениями, они не имели ни силы, ни смелости мышления, чтобы осознать это. И позднее, в октябре следующего, 1918 года, Б. В. Никольский так писал о большевиках: «В активной политике они с нескудеющею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновременно с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриотической программе, созидая вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают…» Вместе с тем, продолжал Никольский, «разрушение исторически неизбежно, необходимо: не оживет, аще не умрет… Ни лицемерия, ни коварства в этом смысле в них (большевиках. — В.К.) нет: они поистине орудия исторической неизбежности… лучшие в их среде сами это чувствуют как кошмар, как мурашки по спине, боясь в этом сознаться себе самим; с другой стороны, в этом их Немезида; несите тяготы власти, захватив власть! Знайте шапку Мономаха!..» И далее: «…они все поджигают и опрокидывают; но среди смердящих и дымящихся пожарищ будет необходимо строить с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей, — а у них (большевиков. — В.К.) никого, кроме обезумевшей толпы» (там же, с. 271–272). Комментируя эти суждения Б. В. Никольского, их публикатор С. В. Шумихин утверждает, что они-де «дают основание пересмотреть традиционную для отечественной историографии… схему, согласно которой монархисты всех оттенков — от умеренных консерваторов до черносотенцев — автоматически оказывались на противоположном от большевиков полюсе и a priori зачислялись в разряд их непримиримых врагов». Между тем, возражает С. В. Шумихин, «осмысление событий привело его (Б. В. Никольского. — В.К.) к позиции сочувственного нейтралитета по отношению к советской власти. Быть может, в его сознании вырисовывались контуры возможного черносотенно-большевистского симбиоза. Однако этим чаяниям не суждено было сбыться» (с. 341, 347). Тезис о подобном «симбиозе» отнюдь не какая-либо новинка (хотя неосведомленным людям он может показаться таковой). Многие либералы после Октября пытались уверять, что-де Ленин, Свердлов, Троцкий, Зиновьев и другие действуют совместно с «черносотенцами», хотя ни одного имени реальных сподвижников большевизма из числа вожаков Союза русского народа и т. п. при этом, понятно, никогда не было названо. Дело заключалось в том, что «черносотенцы» к 1917 году были «очернены» до немыслимых пределов, и присовокупление их к большевикам имело целью окончательно, так сказать, дискредитировать последних. И сегодня этот прием снова пущен в оборот. И С. В. Шумихин явно не хочет обращать внимания на тот факт, что Б. В. Никольский с полной определенностью говорит здесь же о невозможности какого-либо своего сближения с большевиками: «Делать то, что они делают, я по совести не могу и не стану; сотрудником их я не был и не буду», — подчеркивает он и, заявляя тут же, что «я не иду и не пойду против них», объясняет свой «нейтралитет» тем, что большевики — «неудержимые и верные исполнители исторической неизбежности… и правят Россией… Божиим гневом и попущением… Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет и не думает» (с. 372), и отмечает еще: «Враги у нас (с большевиками. — В.К.) общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно» (с. 371). Ранее он писал: «Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов?… Россиею правят сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах» (с. 360). Необходимо уяснить кардинальное, коренное отличие взглядов «черносотенца» от позиций либералов и противостоявших большевикам революционеров (прежде всего эсеров). Если не считать отдельных и запоздалых «исключений», герои Февраля, в сущности, не признавали своей вины в разрушении Русского государства. Они пытались уверять, что содеянное ими было в своей основе — не считая тех или иных «ошибок» — вполне правильным и всецело позитивным. Беда, по их мнению, состояла в том, что русский народ оказался недостоин их прекрасных замыслов и пошел за большевиками, каковые все испортили… И «выход» либералы и революционеры усматривали в непримиримой борьбе с большевиками за власть — то есть в гражданской войне… Б. В. Никольский, напротив, принимал вину даже и на самого себя: большевики, по его словам, «власть, которая нами заслужена», и добавлял, что «глубока чаша испытаний и далеко еще до дна. Доживу ли я до конца — кто знает (Борис Владимирович был без суда расстрелян в конце июля или в начале августа 1919 года. — В.К.). Да, великие требования предъявляет к нам история… Страданий полон путь безвестный, Поэтические строки Б. В. Никольского невольно побуждают вспомнить о стихотворении другого «черносотенного» деятеля, С. С. Бехтеева (1879–1954) — стихотворении, которое, как известно, перед своей гибелью потрясенно читала и переписывала семья Николая II: Пошли нам, Господи, терпенье Итак, Б. В. Никольский, утверждая, что власть большевиков — это беспощадная кара, заслуженная Россией (в том числе и им лично), что они «правят Россией Божиим гневом», вместе с тем признает, что большевики все-таки, в отличие от тех, кто оказался у власти в Феврале, — «правят», все-таки «строят» государство, — притом строят «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никаким прежним деятелям»; ведь после Февраля в стране нет «никого, кроме обезумевшей толпы». И он определяет большевиков вроде бы лестно — «верные исполнители исторической неизбежности», но ни в коей мере не «сочувственно», вопреки утверждению С. В. Шумихина. Верно предвидя грядущее (что вообще было присуще «черносотенцам», не увлекавшимся всякого рода прожектами), Б. В. Никольский уже в апреле 1918 года писал о неизбежном будущем подавлении Революции ею же порожденным «цезаризмом», но отнюдь не собирался «присоединяться» и к этому цезаризму: «Царствовавшая династия кончена… — утверждал он. — Та монархия, к которой мы летим, должна быть цезаризмом, т. е. таким же отрицанием монархической идеи, как революция (мысль исключительно важная. — В.К.). До настоящей же монархии, неизбежной, благодатной и воскресной… далеко, и путь наш тернист, ужасен и мучителен, а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится» (с. 360). (Из последних слов вполне ясно, что Никольский, вопреки утверждениям Шумихина, никаких своих надежд на большевиков не возлагал.) Известно, что о закономерном приходе «цезаря» или «бонапарта» писали многие — например, В. В. Шульгин и так называемые сменовеховцы. Но, во-первых, это было позднее, уже после окончания Гражданской войны и провозглашения нэпа (а не в начале 1918 года!), а, во-вторых, люди, подобные В. В. Шульгину и сменовеховцам, выражали свою готовность присоединиться к этому «цезаризму», усматривая в нем нечто якобы вполне соответствующее русскому духу. Б. В. Никольский же видел в будущем «цезаре» такое же «отрицание» подлинной патриотической идеи, как и в самой Революции. Очевидно, что Б. В. Никольскому даже и «не снился» какой-либо «черносотенно-большевистский симбиоз» — хотя публикатор его писем и пытается внушить их читателям обратное. Б. В. Никольский ведет речь лишь о том, что большевики самим ходом вещей вынуждены — «вопреки своей воле и мысли» — строить государство (и по горизонтали, то есть собирая распавшиеся части России, и по вертикали, создавая властные структуры в условиях безудержного «русского бунта») и полной мерой «нести тяготы власти». А Б. В. Никольский со всей ясностью сознавал, что без мощной и прочной государственности попросту немыслимо само существование России. И потому как истинный патриот, для которого Россия — «превыше всего», Б. В. Никольский заявил: «я не иду и не пойду против них» (большевиков). И в то время, и сегодня, конечно же, могло и может прозвучать решительное и негодующее возражение, что-де Белая армия боролась именно за Россию и каждый патриот должен был именно в ее рядах сражаться против большевиков, за Россию. * * *Вопрос о Белой армии необходимо уяснить со всей определенностью. Во-первых, никак нельзя оспорить того факта, что все главные создатели и вожди Белой армии были по самой своей сути «детьми Февраля». Ее основоположник генерал М. В. Алексеев (с августа 1915-го до февраля 1917-го — начальник штаба Верховного главнокомандующего, то есть Николая II; после переворота сел на его место) был еще с 1915 года причастен к заговору, ставившему целью свержение Николая II, а в 1917-м фактически осуществил это свержение, путем жесткого нажима убедив царя, что петроградский бунт непреодолим и что армия-де целиком и полностью поддерживает замыслы масонских заговорщиков. Главный соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский (который прямо и непосредственно «давил» на царя в февральские дни), позднее признал, что Алексеев, держа в руках армию, вполне мог прекратить февральские «беспорядки» в Петрограде, но «предпочел оказать давление на Государя и увлек других главнокомандующих»{28}. А после отречения Государя именно Алексеев первым объявил ему (8-го марта): «…«Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным»… Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева» (там же, с. 78, 79); впрочем, еще в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кругом измена, и трусость, и обман!»{29} Как уже говорилось, Н. Н. Берберова утверждала, что и М. В. Алексеев, и Н. В. Рузский были масонами{30} и потому, естественно, стремились уничтожить историческую государственность России. Виднейший современный историк российского масонства В. И. Старцев, в отличие от Н. Н. Берберовой, полагает, что «факт» принадлежности этих генералов к масонству «пока еще не доказан», хотя и не исключает сего факта{31}, признавая, в частности, достоверность сообщений, согласно которым Н. В. Рузский участвовал в масонских собраниях в доме своего двоюродного брата, профессора Д. П. Рузского — одного из лидеров масонства, секретаря его Петроградского совета (там же, с. 144, 153). П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал «план ареста царицы (ее считали главной «вдохновительницей» Николая II. — В.К.) в ставке и заточения»{32}. А особенно осведомленный Н. Д. Соколов сообщил, что 9(22) февраля 1917 года Н. В. Рузский вместе с заправилами будущего переворота обсуждал проект, предусматривавший, что Николая II по дороге из ставки в Царское Село «задержат и заставят отречься» (там же, с. 96) — как это в точности и произошло 2–3 марта… Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I великий князь Александр Михайлович (1866–1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли «отцом русской военной авиации», писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: «Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя»{33}. Итак, нельзя с полной уверенностью утверждать (поскольку нет неопровержимых сведений), что создатель Белой армии М. В. Алексеев был членом масонской организации, но, как свидетельствовал А. И. Гучков — и скрупулезный историк В. И. Старцев не оспаривает это свидетельство, — генерал «был настолько осведомлен, что делался косвенным участником» (то есть участником заговора масонов-«февралистов» — В.К.)» {34}. Что же касается других главных вождей Белой армии, генералов А. И. Деникина и Л. Г. Корнилова и адмирала А. В. Колчака, — они так или иначе были единомышленниками Алексеева. Все они сделали блистательную карьеру именно после Февраля. Военный министр в первом составе Временного правительства Гучков вспоминал, как ему трудно было назначать на высшие посты Корнилова и Деникина. О Корнилове Гучков говорил: «Его служебная карьера была такова: он в боях командовал только дивизией; командование корпусом (с конца 1916 года. — В.К.), откуда я взял его в Петербург, происходило в условиях отсутствия вооруженных столкновений. Поэтому такой скачок… до командования фронтом считался недопустимым» (там же, с. 12). Тем не менее в самый момент переворота Корнилов стал командующим важнейшим Петроградским военным округом, 7 июля — командующим Юго-Западным фронтом, а 19 июля Керенский назначил его уже Главковерхом! То же относится и к Деникину, который вскоре после Февраля стал начальником штаба Главковерха (то есть занял пост, который до Февраля занимал Алексеев); Гучков отметил, что «иерархически это был большой скачок… только что командовал (Деникин. — В.К.) дивизией или корпусом» (там же, с. 10); говоря точнее, генерал до сентября 1916 года был командиром (начальником) дивизии, а затем — до переворота — командовал корпусом на второстепенном Румынском фронте. Дабы стало ясно, какую головокружительную карьеру сделали в Феврале Корнилов и Деникин, приведу выразительные цифры, установленные А. Г. Кавтарадзе: в Русской армии к 1917 году было ни много ни мало 68 командиров (начальников) корпусов и 240 — дивизий{35}. При этом очень значительная часть этих военачальников после Февральского переворота была — в противоположность беспрецедентному взлету Корнилова и Деникина — изгнана из армии. Сам Деникин писал об этом так: «Военные реформы начались с увольнения огромного числа командующих генералов… В течение нескольких недель были уволены… до полутораста старших начальников» («Вопросы истории», 1990, № 7, с. 107, 108), то есть около половины… А. В. Колчак занимал до Февраля более высокий пост, чем Деникин и Корнилов: с июня 1916 года он был командующим Черноморским флотом. Но, как утверждает В. И. Старцев, «командующие флотами… Непенин{36} и Колчак были назначены на свои должности благодаря ряду интриг, причем исходной точкой послужила их репутация — либералов и оппозиционеров»{37}. Последний военный министр Временного правительства генерал А. И. Верховский (человек, конечно, весьма «посвященный», хотя и, насколько известно, не принадлежавший к масонству) писал в своих мемуарах: «Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе». И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, «это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинут в нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору… Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских. — В.К.) кругов». А в Феврале и «партия эсеров мобилизовала сотни своих членов — матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака… Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции»{38}. Вскоре Временное правительство производит Колчака в «полные» адмиралы. Далее, все будущие вожди Белой армии имели впечатляющие «революционные заслуги». Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе императрицу и детей Николая II{39}. Нельзя не упомянуть и об еще одной «революционной» акции Лавра Георгиевича. Реальным началом Февральской революции явился бунт располагавшейся в Петрограде учебной команды лейб-гвардии (!) Волынского полка. Ранним утром 27 февраля 1917 года начальник этой команды штабс-капитан Лашкевич, придя в казарму, попытался повести солдат в город для пресечения вызванных продовольственными трудностями «беспорядков». Фельдфебель Кирпичников, который заранее распропагандировал солдат, потребовал от офицера покинуть казарму, а затем или он сам или, может быть, кто-то из солдат (мнения расходятся, так как бунтовщики, по-видимому, договорились о круговой поруке) убил штабс-капитана выстрелом в спину. После этого «повязанные кровью» солдаты взбунтовались и сумели присоединить к себе расположенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовский полки, что окончательно решило победу революции. Как бы ни оценивать Февральскую революцию, убийство офицера выстрелом в спину едва ли являло собой геройское деяние. Тем не менее назначенный 2 марта командующим Петроградским военным округом генерал-лейтенант Корнилов лично наградил Кирпичникова Георгиевским крестом… Правда, «герой» оказался слишком простодушным человеком. Летом следующего, 1918 года, когда ситуация была уже совсем иной, он отправился на Дон, в Добровольческую армию, возглавляемую наградившим его Корниловым, но ближайший тогда сподвижник Корнилова, А. П. Кутепов, в штаб дивизии которого заявился Кирпичников, приказал без каких-либо разбирательств расстрелять этого героя Февраля. Наградивший же его Корнилов никакого наказания за это не получил, что едва ли справедливо… (см., напр.: Иоффе Г. З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989, с. 38). Но вернемся к 7 марта, когда Корнилов лично арестовал императорскую семью. На следующий день, 8 марта, словно вступая в соревнование с подчиненным ему Корниловым, генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте самому императору и сдал его думскому конвою. Затем в Крыму заместитель Колчака (которого как раз в этот момент вызвало в Петроград Временное правительство) контр-адмирал В. К. Лукин руководил арестом находившихся там великих князей, в том числе только что упоминавшегося Александра Михайловича (см.: Верховский А. И., цит. соч., с. 239–240). Все это достаточно ясно характеризует политическое лицо будущих вождей Белой армии. Могут, конечно, возразить, что позднее эти люди изменили свои убеждения: ведь уже в августе 1917 года Керенский объявил их «контрреволюционерами» и даже приказал арестовать Деникина и Корнилова (как ни парадоксально, арест его осуществил Алексеев, который был тогда начальником штаба Главковерха — Керенского, а всего через три с половиной месяца Алексеев и Корнилов возглавили Добровольческую, то есть Белую армию). Но это было, по сути дела, противостояние в одном «февральском» стане; конфликт объяснялся главным образом тем, что Керенский, сознавая свое бессилие в условиях нараставшего с каждым месяцем «русского бунта», усматривал выход в «компромиссах» и с ним, и с использующими в своих целях этот бунт большевиками. Особенное возмущение в военной среде вызвал тот факт, что, отдав приказ об аресте Корнилова, Керенский одновременно приказал освободить Троцкого (который был арестован в связи с июльским выступлением большевиков и провел в заключении сорок дней). Здесь уместно сослаться на тезисы о «Белой идее» из подготовленного ветеранами-эмигрантами издания, посвященного двадцатилетнему юбилею Белой армии (оно вышло в свет в Нью-Йорке в 1937 году). Ближайший сподвижник самого, пожалуй, «консервативного» из белых вождей, П. Н. Краснова, командующий Донской армией генерал С. В. Денисов все же недвусмысленно утверждал на страницах этой книги: «Генерал Корнилов имел полное основание не доверять Временному правительству, которое, постепенно изменяясь в составе, в конечном итоге утеряло признаки власти, созданной революцией (Февральской. — В.К.). Временное правительство… пошло по скользкому пути непристойных уступок черни и отбросам Русского народа… Все без исключения Вожди, и Старшие и Младшие (Белой армии. — В.К.)… приказывали подчиненным… содействовать Новому укладу жизни и отнюдь, и никогда не призывали к защите Старого строя и не шли против общего течения… На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учредительному Собранию, т. е. то же самое, что значилось и на знаменах Февральской революции… Вожди и военачальники не шли против Февральской революции и никогда и никому из своих подчиненных не приказывали идти таковым путем»{40}. Можно признать, что те или иные лица и даже группы людей в составе Белой армии исповедовали и в какой-то мере открыто выражали другие настроения и устремления, в том числе и подразумевающие прямую и полную реставрацию вековых устоев России. Но это никак не определяло основную и официальную линию, в которой, как сказано в той же книге, «нет и тени каких бы то ни было реставрационных вожделений» (с. 14). * * *Интереснейший и в высшей степени основательный исследователь М. В. Назаров, который, кстати сказать, в ряде существенных аспектов понимает проблему Белой армии по-другому, чем я, четко сформулировал (в своей работе «Политический спектр первой эмиграции»): «При всем уважении к героизму белых воинов следует признать, что политика их правительств (не только «правительств» в прямом смысле слова: ведь здесь же М. В. Назаров отмечает, что и «ген. Деникин был «левее», чем его армия». — В.К.) была в основном лишь реакцией Февраля на Октябрь — что и привело их к поражению так же, как незадолго до того уже потерпел поражение сам Февраль»{41}. Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе не была борьбой между «новой» и «старой» властями; это была борьба двух «новых» властей — Февральской и Октябрьской. Нельзя, правда, не оговорить, что М. В. Назаров, противореча своему процитированному обобщающему тезису, не раз стремится преуменьшить и ограничить «февралистскую» направленность Белой армии. Он говорит, например, о «февральских элементах (только! — В.К.) в Белом движении» и о том, что «большинство его вождей» шло «на вынужденную зависимость от недружественных России иностранных сил» (там же, с. 184). Но выше уже было показано, что не какие-то там «элементы», а главные руководители — Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак — были несомненными «героями Февраля», и их теснейшая связь (а не «зависимость») с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не «вынужденной». М. В. Назаров немало — и абсолютно верно — говорит о предательском поведении Запада в отношении Белой армии. Но этот вопрос явно имеет двойственный характер. Политика Запада исходила, во-первых, из чисто прагматических соображений, которые для него всегда играли определяющую роль: стоит ли вкладывать средства и усилия в Белую армию, «окупится» ли это? И когда к концу 1918 года Деникину удалось объединить антибольшевистские (в частности, белоказачьи) силы на юге России, Запад стал достаточно щедрым. Рассказав в своих «Очерках русской смуты» о предшествующей катастрофической нехватке вооружения, Деникин удовлетворенно констатировал, что «с февраля (1919 года. — В.К.) начался подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с тех пор мы испытывали редко»{42}. Не приходится сомневаться, что без этого «снабжения» был бы немыслим триумфальный поначалу поход Деникина на Москву, достигший в октябре 1919 года Орла. Во-вторых, Запад издавна и даже извечно был категорически против самого существования великой — мощной и ни от кого не зависящей — России и никак не мог допустить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия восстановилась. Запад, в частности в 1918–1922 годах, делал все возможное для расчленения России, всемерно поддерживая любые сепаратистские устремления. Деникин подробно рассказал об этом в своем труде — рассказал подчас с достаточно резким возмущением (между прочим, сообщая о весомейшей английской помощи с февраля 1919 года — «пароходы с вооружением, снаряжением, одеждой и другим имуществом, по расчету на 250 тысяч человек», — он тут же с горечью замечает: «Но вскоре мы узнали, что есть… «две Англии» и «две английские политики»…» («Вопросы истории», 1993, № 7, с. 100). Вместе с тем совершенно очевидно, что и самое крайнее возмущение не могло побудить генерала и его соратников не только порвать с Западом, но и хотя бы выступить с протестом против его политики в России. И дело здесь не только в том, что Белая армия была бы бессильной без западной помощи и поддержки. Биограф А. И. Деникина Д. Лехович вполне верно определил политическую платформу Деникина как «либерализм», основанный на вере в то, что «кадетская партия… сможет привести Россию… к конституционной монархии британского типа»{43}; соответственно, «идея верности союзникам (Великобритания, Франция, США. — В.К.) приобрела характер символа веры» (там же, с. 158). Без всякого преувеличения следует сказать, что Антон Иванович Деникин находился в безусловном подчинении у Запада. Это особенно ясно из его покорного признания «верховенства» А. В. Колчака. Дело в том, что еще с ноября 1917 года Деникин был одним из вожаков формирующейся Белой — Добровольческой — армии, а с сентября 1918-го, после кончины М. В. Алексеева, стал ее главнокомандующим. Между тем Колчак лишь через два месяца после этого, в ноябре 1918 года, начал боевые действия против большевиков в Сибири и тем не менее был тут же объявлен Верховным правителем России. И все же Деникин безропотно признал верховенство новоявленного вождя. В пространнейших деникинских «Очерках русской смуты» об этом весьма значительном событии сказано со странной лаконичностью и неопределенностью: «…подчинение мое адм. Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую Верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно» («Вопросы истории», 1994, № 3, с. 104). Александр Васильевич Колчак был, вне всякого сомнения, прямым ставленником Запада и именно поэтому оказался Верховным правителем. В отрезке жизни Колчака с июня 1917-го, когда он уехал за границу, и до его прибытия в Омск в ноябре 1918 года много невыясненного, но и документально подтверждаемые факты достаточно выразительны. «17(30) июня, — сообщал адмирал самому близкому ему человеку А. В. Тимиревой, — я имел совершенно секретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном… я ухожу в ближайшем будущем в Нью-Йорк. Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру»{44}, — то есть наемному военачальнику… В начале августа, только что произведенный Временным правительством в адмиралы («полные»), Колчак тайно прибыл в Лондон, где встречался с морским министром Великобритании и обсуждал с ним вопрос о «спасении» России. Затем он опять-таки тайно отправился в США, где совещался не только с военным и морским министрами (что было естественно для адмирала), но и с министром иностранных дел, а также — что наводит на размышления — с самим тогдашним президентом США Вудро Вильсоном. В октябре 1917 года Колчака нашла в США телеграмма из Петрограда с предложением выставить свою кандидатуру на выборы в Учредительное собрание от партии кадетов; он тут же сообщил о своем согласии. Но всего через несколько дней совершился Октябрьский переворот. Адмирал решил пока не возвращаться в Россию и поступил… «на службу его величества короля Великобритании»… В марте 1918-го он получил телеграмму начальника британской военной разведки, предписывавшую ему «секретное присутствие в Маньчжурии» — то есть на китайско-российской границе. Направляясь (по дороге в Харбин) в Пекин, Колчак в апреле 1918 года записал в дневнике, что должен там «получить инструкции и информацию от союзных послов. Моя миссия является секретной, и хотя догадываюсь о ее задачах и целях, но пока не буду говорить о ней» (цит. изд. с. 29). В конце концов в ноябре 1918 года Колчак для исполнения этой «миссии» был провозглашен в Омске Верховным правителем России. Запад снабжал его много щедрее, чем Деникина; ему были доставлены около миллиона винтовок, несколько тысяч пулеметов, сотни орудий и автомобилей, десятки самолетов, около полумиллиона комплектов обмундирования и т. п. (разумеется, «прагматический» Запад доставил все это под залог в виде трети золотого запаса России…){45}. При Колчаке постоянно находились британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником — капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом Я. М. Свердлова), принадлежавшим, между прочим, к французскому масонству. Эти представители Запада со всем вниманием опекали адмирала и его армию. Генерал А. П. Будберг — начальник снабжения, затем военный министр у Колчака — записал в своем дневнике 11 мая 1919 года, что генерал Нокс «упрямо стоит на том, чтобы самому распределять приходящие к нему запасы английского снабжения, и делает при этом много ошибок, дает не тому, кому это в данное время надо»{46} и т. п. Все подобные факты (а их перечень можно значительно умножить) ясно говорят о том, что Колчак — хотя он, несомненно, стремился стать «спасителем России» — на самом деле был, по его же собственному слову, «кондотьером» Запада, и в силу этого остальные предводители Белой армии начиная с Деникина должны были ему подчиняться… Что же касается Запада, его планы в отношении России были вполне определенными. О них четко сказал в 1920 году человек, которого едва ли можно заподозрить в клевете на западную демократию. Речь идет о корифее российского либерализма П. Н. Милюкове. Летом 1918 года из-за своего прямого сотрудничества с германской контрразведкой он вынужден был уйти с поста председателя кадетской партии, и, хотя в октябре того же года принес за это «покаяние», ему уже не пришлось играть ведущую роль в политике. Однако именно эта определенная «отстраненность» дала ему возможность — и смелость — взглянуть правде в глаза. Милюков, который долгие годы беззаветно превозносил Запад и его благородную помощь демократизирующейся России, 4 января 1920 года написал из Лондона своей сподвижнице, знаменитой графине С. В. Паниной, находившейся тогда в Белой армии на Дону: «Теперь выдвигается (на Западе. — В.К.) в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии (выделено самим П. Н. Милюковым. — В.К.) ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов»{47}. И уж если убежденный «западник» Милюков (кстати, находившийся в Великобритании еще с начала 1919 года) сообщает такое, не приходится сомневаться в истинности «диагноза». Разумеется, Белая армия постоянно провозглашала, что она воюет за Россию и ее коренные интересы. Однако есть все основания утверждать, что в действительности борьба Белой армии определялась — пусть даже, как говорится, в известной мере и степени — интересами Запада. Между прочим, М. В. Назаров, хотя он видит многое иначе, чем я, все же недвусмысленно утверждает, что «ориентация Белого движения на Антанту заставила многих опасаться, что при победе белых стоявшие за ними иностранные силы подчинят Россию своим интересам» (цит. соч., с. 218). И эти «опасения» были совершенно верными не только из-за мощного давления «иностранных сил»; сама политическая программа Белой армии в очень многом соответствовала чаяниям Запада. Вот поистине обнажающее всю суть дела рассуждение Деникина: «…та «расплавленная стихия» (то есть «русский бунт». — В.К.), которая с необычайной легкостью сдунула Керенского, попала в железные тиски Ленина — Бронштейна и вот уже более трех лет (Деникин писал это в начале 1921 года. — В.К.) не может вырваться из большевистского плена. Если бы такая жестокая сила… взяла власть и, подавив своеволие, в которое обратилась свобода, донесла бы эту власть до Учредительного собрания, то русский народ не осудил бы ее, а благословил» («Вопросы истории», 1990, № 12, с. 127). Итак, Деникин (хотя он — едва ли сколько-нибудь основательно — приписывает свое мнение «русскому народу») готов «благословить» любое (именно этот смысл в слове «такая» — такая, как у большевиков) жестокое насилие, если оно завершится утверждением в России власти парламента. Это означает, во-первых, что целью для Деникина была все же не Россия, а — как и у большевиков — определенный социально-политический строй, и, во-вторых, что речь шла о строе, угодном Западу: буквально во всех документах, обращенных западными «партнерами» к Белой армии, парламент указывается как совершенно обязательная, неукоснительная цель борьбы. И трудно спорить с тем, что жестокое насилие ради парламентского государства западного типа было, ничуть не более приемлемо для «своевольного» русского народа, чем такое же насилие ради коммунизма… Между прочим, уже упомянутый колчаковский генерал А. П. Будберг 17 октября 1918 года писал в своем дневнике о председателе белого правительства в Сибири кадете П. А. Вологодском, который «заявил, что крестьяне готовы к добровольной самомобилизации (в Белую армию. — В.К.). Последнее заявление в устах главы правительства показывает его легковесность, малоосведомленность и опасное незнание народного настроения; крестьяне, быть может, и готовы к самомобилизации, но именно «само», для защиты своих собственных интересов и для обеспечения себя от прочих «ций» — реквизиций, экзекуций, национализации и т. п. Характерной иллюстрацией к заявлению главы правительства является телеграмма из Славгорода (город в четырехстах километрах юго-восточнее Омска. — В.К.), сообщающая, что по объявлении призыва (в Белую армию. — В.К.) там поднялось восстание, толпы крестьян напали на город и перебили всю городскую администрацию и стоявшую там офицерскую команду» (цит. изд., с. 229). Уже после полугодового правления Колчака, 18 мая 1919 года, генерал Будберг записал: «Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири… главными районами восстания являются поселения столыпинских аграрников… посылаемые спорадически карательные отряды… жгут деревни, вешают и, где можно, безобразничают. Такими мерами этих восстаний не успокоить… в шифрованных донесениях с фронта все чаще попадаются зловещие для настоящего и грозные для будущего слова «перебив своих офицеров, такая-то часть передалась красным». И не потому, — совершенно верно писал генерал, — что склонна к идеалам большевизма, а только потому, что не хотела служить… и в перемене положения… думала избавиться от всего неприятного» (с. 261). * * *Здесь уместно и важно сделать отступление от нашей непосредственной темы, но отступление, которое позволит глубже понять ход Революции в целом. Упомянув о том, что «главными районами восстания являются поселения столыпинских аграрников», А. П. Будберг позже, 26 августа 1919 года, пишет в своем дневнике еще более определенно: «…главными заправилами всех восстаний являются преимущественно столыпинские аграрники» (с. 308; выделено мною. — В.К.). Для многих людей это сообщение явится, несомненно, неожиданностью, ибо ведь столь уважаемый ныне (и вполне заслуженно уважаемый) П. А. Столыпин полагал, что щедро наделяемые землей в ходе столь тесно связанной с его именем реформы переселенцы явятся как раз надежным противовесом всяческому бунтарству. Петр Аркадьевич — конечно же, выдающийся, даже подлинно великий государственный деятель России. Его политический разум и воля имели огромное значение для преодоления всеобщей смуты, в которую была ввергнута страна в 1905 году. Неоценима та его историческая роль, о которой вскоре после его гибели писал В. В. Розанов: «После долгого времени… явился на вершине власти человек, который гордился тем именно, что он русский, и хотел соработать с русскими. Это не политическая роль, а, скорее, культурная» («Новое время» от 7 октября 1911 года; цит. по перепечатке в «Литературной России» от 30 августа 1991 г.). Вообще во главе государственной власти встал в лице П. А. Столыпина человек высокой культуры, достойный брат (хоть и троюродный) самого Лермонтова. Однако прочно связанная с именем Столыпина «аграрная реформа» явно не могла оправдать возлагавшихся на нее надежд. Об этом сразу же после принятия решения о реформе основательно писал один из виднейших тогдашних экономистов, член-корреспондент Российской академии наук А. И. Чупров (1842–1908). Об его предостережениях недавно напомнил в своей статье «Чупров против Столыпина» кандидат экономических наук Юрий Егоров. В начатой в 1906 году «революции экономической он (Чупров. — В.К.) видел неизбежный пролог революции социальной — ближайшее будущее подтвердило его правоту. И когда Столыпин для своей реформы просил 15–20 лет спокойствия, Чупров и его ученики возражали, что как раз такая реформа лет через десять приведет к социальному взрыву. И в самом деле, о каком успехе могла идти речь, если сами новоявленные собственники в 1917 году с таким энтузиазмом уничтожали частные земельные владения, которые вроде бы должны были защищать» (это явствует и из сообщений А. П. Будберга. — В.К.). Вообще, как утверждал А. И. Чупров, «мысль о… распространении отрубной (или, иначе, хуторской. — В.К.) собственности на пространстве обширной страны представляет собою чистейшую утопию, включение которой в практическую программу неотложных реформ может быть объяснено только малым знанием дела» (см.: Былое. Ежемесячное приложение к журналу «Родина», 1996, № 5, с. 3; выделено мною. — В.К.). К сожалению, «приговор» верен. Жизнь П. А. Столыпина началась и почти целиком прошла (кроме нескольких лет студенчества и службы в Петербурге) в западной части Ковенской губернии (ныне — Литва). С русской деревней он соприкоснулся лишь на пятом десятке, в 1903 году, когда был назначен саратовским губернатором (к тому же вскоре в губернии начались «беспорядки», которые не способствовали объективному изучению деревенского бытия). В Ковенской губернии и в соседней Восточной Пруссии, где часто бывал Петр Аркадьевич, господствовали хуторские хозяйства, сложившиеся в давние времена. И ему в какой-то мере представлялось, что эта — по сути дела, западноевропейская — «модель» может привиться в русском крестьянстве. Однако, будучи перенесенной — к тому же очень поспешно — в совсем иной мир, модель эта дала и совершенно иные результаты, чем на Западе. Русские «хуторяне» оказались даже более склонными к бунту, чем «общинные» крестьяне… Казалось бы, все это принижает личность П. А. Столыпина. Но дело обстояло сложнее, что показал в наше время внимательный историк П. Н. Зырянов. «Столыпинская аграрная реформа, — читаем в его книге о Петре Аркадьевиче, — о которой в наши дни много говорят и пишут, в действительности — понятие условное. В том смысле условное, что она, во-первых, не составляла цельного замысла и при ближайшем рассмотрении распадается на ряд мероприятий, между собой не всегда хорошо состыкованных. Во-вторых, не совсем правильно и название реформы, ибо Столыпин не был ни автором основных ее концепций, ни разработчиком. Он воспринял проект в готовом виде и стал как бы его приемным отцом… но это не значит, что между отцом и приемным чадом не было противоречий. И, наконец, в-третьих, у Столыпина, конечно же, были и свои собственные замыслы, которые он пытался реализовать. Но случилось так, что они не получили значительного развития, ходом вещей были отодвинуты на задний план, зачахли, а приемный ребенок… наоборот, начал расти и набирать силу. Пожалуй, можно сказать; что Столыпин «высидел кукушкина птенчика» (Зырянов П. Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992, с. 44). Сам П. А. Столыпин, доказывает П. Н. Зырянов, «предлагал организовать широкое содействие созданию крепких индивидуальных крестьянских хозяйств на государственных землях». Однако, «когда Столыпин пришел в МВД (Министерство внутренних дел. — В.К.), оказалось, что там на это дело смотрят несколько иначе… В течение ряда лет группа чиновников во главе с В. И. Гурко разрабатывала проект… основные идеи и направления проекта уже сформировались… В отличие от столыпинского замысла, проект Гурко имел в виду создание хуторов и отрубов на надельных (крестьянских) землях (а не на государственных)… ради другой цели — укрепления надельной земли в личную собственность… С агротехнической точки зрения такое новшество не могло принести много пользы… но оно было способно сильно нарушить единство крестьянского мира, внести раскол в общину» (с. 45). Между тем Столыпин «изначально вовсе не хотел насильственного разрушения общины» (с. 53). И П. Н. Зырянов не без оснований констатирует: «Психология государственных деятелей, говорящих одно и делающих другое, — явление поистине загадочное. По-видимому, редко кто из них в такие моменты сознательно лжет и лицемерит. Благие намерения провозглашаются чаще всего вполне искренне… Другое дело, что не они, выступающие с высоких трибун, составляют множество тех бумаг, в которые и выливается реальная политика…» (с. 53). В цитируемом исследовании П. Н. Зырянова убедительно раскрыта противоречивость знаменитой реформы и, в частности, показано, что чиновники (они охарактеризованы историком конкретно, поименно), непосредственно осуществлявшие реформу (Петр Аркадьевич, возглавлявший всю деятельность верховной власти, не мог постоянно держать в руках многогранную практику аграрной реформы), делали не совсем то или даже совсем не то, что имел в виду председатель Совета министров. Он ведь так или иначе предполагал самую весомую роль государства в развитии сельского хозяйства (начиная с предоставления крестьянам государственной земли, а не ориентации на частную земельную собственность) и сохранение (а не целенаправленное разрушение) основ крестьянской общины. Реальность реформы оказалась недостаточно определенной, даже запутанной, но нельзя не учитывать, что историческая ситуация была слишком сложной и напряженной, а к тому же Петру Аркадьевичу было отпущено для осуществления его замыслов всего лишь пять лет… А. П. Будберг называет главных бунтовщиков в Сибири «столыпинскими аграрниками», но — о чем и сказал П. Н. Зырянов — имя великого государственного деятеля употреблено здесь (как и во многих случаях) «условно», в сущности — «неправильно». То, к чему стремился П. А. Столыпин, было, без сомнения, искажено уже при его жизни и особенно после его убийства. * * *Вернемся к сибирскому бунту 1919 года. Большевики, разумеется, использовали этот бунт, и в начале 1920 года колчаковская армия потерпела полное поражение. Однако не прошло и года, и бунт — уже против большевистской власти — разгорелся в Сибири с новой силой — главным образом в округе Тобольска. Мощное народное восстание против власти Колчака достаточно хорошо изучено, но новая сибирская «пугачевщина» конца 1920-го — начала 1921 года до последнего времени оставалась почти «закрытой» темой. В цитированной выше работе М. С. Бернштама, стремившегося выявить все факты «народного сопротивления коммунизму» (что, как уже говорилось, весьма неточно), лишь в одной фразе упоминается, что одновременно с гораздо более широко известным восстанием в Тамбовской губернии «происходило большое восстание в Западной Сибири, поднявшее крестьянство на огромной территории» (цит. соч., с. 21). В течение тридцати лет изучал это действительно грандиозное — хотя и почти полностью забытое — восстание тюменский писатель К. Я. Лагунов. Наконец ему удалось издать крохотным тиражом документальный рассказ об этом безудержном и крайне беспощадном бунте (Лагунов К. …И сильно падает снег. Тюмень, 1992). Он во многом сумел преодолеть любую пристрастность и показал, что равно беспощадны были и повстанцы, и подавлявшая их власть. Помимо прочего, книга К. Я. Лагунова убеждает, что Сибирское восстание по своему размаху, в сущности, превзошло более «знаменитое» Тамбовское (пользуясь случаем, приношу свою благодарность Константину Яковлевичу, приславшему мне свою предельно малотиражную книгу, которая иначе едва ли бы оказалась в моих руках). Нельзя не отметить, что характеристика Тобольского восстания нуждается в некоторых уточнениях. К. Я. Лагунов говорит в конце своего труда: «Я хочу, чтобы эта книга стала первой свечой, зажженной в память о безвинно убиенных в зиму 1920–1921 года. В память о «белых» и «красных»; о тех, кто восстал, и о тех, кто подавил восстание» (с. 234). Слово «белых» здесь явно совершенно неуместно, ибо речь идет о народе, восставшем против «красных» точно так же, как ранее против «белых». Между прочим, и сам К. Я. Лагунов на предыдущей странице говорит о сибиряках, которые поднялись «на бессмысленный бунт» (с. 233; о Пушкине не упоминается, ибо его слова давно стали как бы ничьими, словами самой Истины). Но ведь к белым в истинном значении слова это определение («бунт») никак не применимо, — не говоря уже о том, что до победы красных те же самые сибиряки бунтовали против белых… Тот факт, что в книге К. Я. Лагунова, как говорится, не вполне сведены концы с концами, ясно выражается и в другом «противоречии»: с одной стороны, писатель гневно клянет «красных» за жесточайшие меры против бунта, с другой же — сообщает, что весна 1921 года «властно поманила крестьянина к земле… Чтоб воротиться к привычному делу, труженик не только спешил покинуть повстанческие полки, но и помогал Красной армии поскорее заглушить пламя восстания»… (с. 225). Естественно вспоминаешь о сподвижниках Пугачева, доставивших его капитан-поручику Маврину. Таким образом, выявляется реальная историческая ситуация, о которой в книге К. Я. Лагунова не сказано с должной четкостью: красные и белые воюют между собой за власть, но одновременно и тем и другим приходится отчаянно бороться с «русским бунтом», который, по признанию Ленина и Троцкого, представлял наибольшую опасность («во много раз, — по словам Ленина, — превышающую» угрозу со стороны всех белых, «сложенных вместе») для красных и, без сомнения, точно так же для белых… И Деникин в приведенном выше рассуждении начала 1921 года сказал именно об этом, выражая свою мечту (да, только мечту…) о такой же, как у красных, «жестокой силе», которая бы «взяла власть и, подавив своеволие (то есть «русский бунт». — В.К.)… донесла бы эту власть до Учредительного собрания». Когда он это писал, красные все еще продолжали «подавлять своеволие». * * *В своей совокупности и взаимосвязи изложенные факты и мнения (сами по себе, по отдельности, подчас вроде бы не столь уж фундаментальные) дают основания для действительно фундаментальных выводов. Война между Белой и Красной армиями как таковая имела в конечном счете гораздо менее существенное значение, чем воздействие и на белых, и на красных всеобъемлющего «русского бунта». Так, например, если бы весной 1919-го не вспыхнуло восстание донского казачества (то самое, которое запечатлено в «Тихом Доне»), армия Деникина вряд ли смогла бы совершить свой поход на Москву, достигший Орла. Точно так же Красная армия не сумела бы в конце 1919-го — начале 1920 года менее чем за два месяца выбить армию Колчака из Сибири, если бы не мощное народное восстание против власти белых, основную массу участников которого большевики явно неадекватно называли «красными партизанами»: ведь многие из этих самых «партизан» менее чем через год взбунтовались уже против большевистской власти… А. П. Будберг писал 1 сентября 1919 года: «…теперь для нас, белых, немыслима партизанская война, ибо население не за нас, а против нас» (с. 310). Но через год это могли бы уже сказать, напротив, красные. Чтобы со всей очевидностью понять относительную «незначительность» войны между Белой и Красной армиями в общей картине того времени, достаточно обратиться к цифрам человеческих потерь в этой войне. Благодаря недавнему рассекречиванию архивных материалов выяснено, что в 1918–1922 годах так или иначе погибли 939 755 красноармейцев и командиров{48}. Что касается Белой армии, о ее потерях есть только ориентировочные суждения; согласно одним из них, количество погибших было примерно то же, что и в Красной, согласно другим — значительно меньшее. Допустим, что в общей сложности обе армии потеряли все же около 2 миллионов человек. Но в целом человеческие жертвы — даже не считая умерших в условиях всеобщей разрухи малых детей{49} — составили за 1918–1922 годы примерно около 20 миллионов человек, — то есть на целый порядок больше! Ведь из тех 147,6 миллиона человек, которые жили на территории будущего СССР (в границах до 1939 года) в 1917 году, за следующие десять лет исчезли — согласно вполне достоверным данным переписи 1926 года — 37,5 миллиона человек, то есть каждый четвертый (точно — 25,5 %)! Для осознания всей громадности людских потерь тех лет следует вдуматься в следующее сопоставление. В 1926 году, как и в 1917-м, в стране жили именно 147 млн. человек (это совпадение дает особенную наглядность), и за следующие десять лет (то есть в 1927–1936 годах), несмотря на тяжелейшие потери в период коллективизации, из этих 147 млн. умерли 21,7 млн. человек — то есть почти на 16 миллионов (!) меньше, чем за предыдущие десять лет, в 1917–1926 годах (все это рассматривается мною в специальной статье){50}. Понятно, что из 37,5 миллиона людей, умерших за первое десятилетие после 1917 года (не считая детей до 10 лет), многие ушли из жизни в силу «естественной» смертности; но около 20 миллионов были жертвами Революции (во всем объеме этого явления). Даже по официальной статистике к концу 1922 года в стране было 7 миллионов (!) беспризорных — то есть лишившихся обоих родителей — детей…{51} Как уже говорилось, потери Красной и Белой армий вместе взятых не превышают двух миллионов военнослужащих; остальные около 18 миллионов — это так называемое мирное население, гибель которого тогда, по существу, не «учитывалась». И это с беспощадной очевидностью показывает, что «главное» было не в самом по себе столкновении Белой и Красной армий. Но прежде чем говорить о наиболее трагической сущности Революции, надо завершить разговор о проблеме двух армий. М. В. Назаров (который — подчеркну еще раз — по-иному понимает некоторые стороны проблемы), говоря о несомненной «ориентации Белой армии на Антанту», на Великобританию, Францию и США, — ориентации, которая в случае победы белых привела бы к подчинению России иностранным силам, делает следующий вывод: «В немалой степени это обстоятельство… толкнуло к большевикам и ту часть офицеров, которые не стали… служить в Красной армии (как ген. Брусилов; всего добровольно или вынужденно по этому пути пошло не менее 20 процентов офицеров Генштаба)» (цит. соч., с. 218). Нельзя не отметить, что «20 процентов» — это весьма значительное и даже, если разобраться, очень значительное преуменьшение доли офицеров Генштаба, оказавшихся в Красной армии. Умевший собирать информацию В. В. Шульгин писал — и, как теперь выяснено, справедливо — еще в 1929 году: «Одних офицеров Генерального штаба чуть ли не половина осталась у большевиков. А сколько там было рядового офицерства, никто не знает, но много»{52}. М. В. Назаров ссылается на статью эмигранта генерала А. К. Баиова (кстати сказать, его родной брат генерал-лейтенант К. К. Баиов служил в Красной армии!), опубликованную в 1932 году в парижской газете «Часовой», и трактат превосходного военного историка А. Г. Кавтарадзе, изданный в 1988 году в Москве. Но М. В. Назаров принимает на веру именно цифру А. К. Баиова, который не имел возможности подсчитать количество офицеров в Красной армии. Между тем А. Г. Кавтарадзе по документам установил количество генералов и офицеров Генерального штаба, служивших в Красной армии (преобладающее большинство из них предстает в его книге даже поименно), и выяснилось, что отнюдь не 20, а 33 процента их общего количества оказались в Красной армии{53}. Если же говорить об офицерском корпусе вообще, в целом, то в Красной армии служили, по подсчетам А. Г. Кавтарадзе, 70 000–75 000 человек, то есть примерно 30 процентов общего его состава (меньшая доля, чем из числа генштабистов, — что имело свою многозначительную причину). Однако и эта цифра — 30 процентов — в сущности, дезориентирует. Ибо, как доказывает А. Г. Кавтарадзе, еще 30 процентов офицерства в 1917 году оказались вне какой-либо армейской службы вообще (указ. соч., с. 117). А это означает, что в Красной армии служили не 30, а около 43 процентов наличного к 1918 году офицерского состава, в Белой же — 57 процентов (примерно 100 000 человек). Но особенно выразителен тот факт, что из «самой ценной и подготовленной части офицерского корпуса русской армии — корпуса офицеров Генерального штаба» (с. 181) в Красной армии оказались 639 (в том числе 252 генерала) человек, что составляло 46 процентов — то есть в самом деле около половины — продолжавших служить после октября 1917 года офицеров Генштаба; в Белой армии их было примерно 750 человек (цит. соч., с. 196–197). Итак, почти половина лучшей части, элиты российского офицерского корпуса служила в Красной армии! До последнего времени приведенные цифры никому не были известны: этот исторический факт не хотели признавать ни белые, ни красные (поскольку тем самым выявлялась одна из истинных, но не делающих им чести причин их победы над белыми); однако это все же непреложный факт. Между прочим, его достаточно весомо воссоздавала художественная литература; вспомним хотя бы образ полковника Генштаба Рощина в «Хождении по мукам» А. Н. Толстого. Но этот всецело характерный для эпохи образ воспринимался большинством читателей как некое исключение, как отклонение от «нормы». Конечно, можно попытаться утверждать, что генералы и офицеры шли в Красную армию по принуждению, или с голодухи, или для последующего перехода к белым (впрочем, из Белой армии в Красную перешло гораздо больше офицеров, чем наоборот). Но, когда речь идет о выборе, который сделали десятки тысяч человек, подобные объяснения не представляются достоверными. Дело обстоит, без сомнения, значительно сложнее. Между прочим, недавно был опубликован подсчет, согласно которому (цитирую) «общее количество кадровых офицеров, участвовавших в Гражданской войне в рядах регулярной Красной армии, более чем в 2 раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых» («Вопросы истории», 1993, № 6, с. 189). Но это, очевидно, преувеличение. «Достаточно» и того, что количество офицеров в Белой армии не намного превышало их количество в Красной. Размышляя об этом — могущем показаться парадоксом — историческом факте, следует прежде всего осознать, что служа — нередко на самых высоких и ответственных постах (например, из 100 командиров армий у красных в 1918–1922 годах 82 были «царскими» генералами и офицерами) — в Красной армии, эти офицеры и генералы сами не становились «красными». А. Г. Кавтарадзе подчеркивает, например, говоря о кадровых офицерах, что «среди них членов партии большевиков насчитывались буквально единицы. Реввоенсовет Республики отмечал в 1919 году, что, «чем выше была командная категория, тем меньшее число коммунистов мы могли для нее найти…» (с. 211). Все говорит о том, что русские офицеры и генералы, «избиравшие» для себя Красную армию (или, по крайней мере, большинство из них), делали тем самым выбор из двух зол в пользу зла, представлявшегося им меньшим. Это были люди, которые, надо думать, хорошо знали своих коллег по воинской службе и отчетливо видели, что во главе Белой армии стоят исключительно «дети Февраля», его нераскаявшиеся до самого конца выдвиженцы. Явно не хотели иметь дела с Белой армией те офицеры, которые с самого начала восприняли Февраль как разрушение государства (и прежде всего — армии) или же вовремя «прозрели». Между тем главные деятели Белой армии если и прозревали, то уже в эмиграции (как, например, генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский). Сейчас даже как-то странно читать, например, недавно впервые опубликованный дневник одного из наиболее видных деятелей Белой армии — дворянина из донских казаков, генерал-лейтенанта А. П. Богаевского. Он был ближайшим сподвижником А. И. Деникина (а позднее — П. Н. Врангеля) и в феврале 1919 года стал войсковым атаманом Войска Донского (сменив на этом посту более «консервативного» П. Н. Краснова); некоторое время он был даже председателем «Правительства Юга России». В советской историографии Африкан Богаевский нередко изображался как «ярый реакционер», «монархист» и т. п. Но вот его задушевная запись в дневнике, сделанная в Екатеринодаре 1 марта 1920 года: «…сформировано Южнорусское правительство… вместе дружно работают — социалист П. М. Агеев (министр земледелия) и кадет В. Ф. Зеелер (министр внутренних дел, видный масон; кроме него, в последнее деникинское правительство вошли масоны М. В. Бернацкий, Н. В. Чайковский и др. — В.К.). Я очень рад, что мой совет А. И. Деникину и Мельникову (новый глава правительства. — В.К.) назначить Агеева министром сделал свое дело… Итак, Глава есть. Правительство — тоже. Дело стало за Парламентом, как полагается во всех благовоспитанных демократических государствах»{54}. И это пишется всего за 12 дней до того момента, когда Богаевский на одном из последних пароходов отчалил из Новороссийского порта «под огнем красных…» (там же, с. 33)! Не менее примечательна запись, сделанная Богаевским через месяц, 30 марта 1920 года, в последнем пристанище Белой армии — Севастополе. Вспоминая об обороне Севастополя в 1854–1855 годах, Богаевский начинает свою запись так: «Суровый царь был — Император Николай Первый… тяжкой памятью в истории России останутся годы бесчеловечного рабства… жесток был гнет полицейско-жандармского режима и управления «40 тысяч чиновников»…»{55} (последнее выражение, по-видимому, видоизмененная цитата из монолога Хлестакова, хотя Богаевский этого не осознает…). Словом, перед нами человек, насквозь пропитанный либеральным прекраснодушием и пустословием, человек, от которого нельзя было ожидать реальной созидательной деятельности в армии и государстве… И вполне естественно, что исполненных государственно-патриотическим сознанием офицеров и генералов не привлекала Белая армия. Было точно подсчитано, что 14 390 офицеров перешли из Белой армии в Красную (то есть каждый седьмой){56}. Чтобы еще яснее понять, почему почти половина офицеров и генералов Генерального штаба оказалась в Красной армии, стоит вдуматься в слова из «Книги воспоминаний» деятельнейшего русского адмирала — великого князя Александра Михайловича, о котором уже шла речь выше. Еще раз скажу, что это был выдающийся представитель семейства Романовых, человек подлинно высокой и многогранной культуры, профессионально владевший морским и авиационным делом и в то же время вовсе не чуждый искусству и философии (чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с его суждениями о творчестве Н. С. Лескова и В. В. Розанова). В отличие от нелепо либеральничавших великих князей Николая Николаевича, Кирилла Владимировича, Павла Александровича, Николая, Сергея и Георгия Михайловичей (последние трое были его родными братьями), он ясно понимал суть Февраля. Прежде чем процитировать его слова, следует напомнить, что более двадцати его родственников были зверски убиты большевиками вместе с его двоюродным племянником и родным братом его жены Ксении Александровны Николаем II; в числе убитых и трое его родных братьев («либеральных»). Тем не менее вот какое заявление сделал он в эпилоге «Книги воспоминаний» накануне своей кончины (он умер в 1933 году в Париже) как своего рода завещание: «По-видимому, «союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию», — писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генрихом Детердингом (британский «нефтяной король». — В.К.) или же следуя просто старой программе Дизраэли — Биконсфилда (влиятельнейший государственный деятель Великобритании в 1840–1870-х годах. — В.К.), британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар… Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались своею собственною изобретательностью: они надеялись одним ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов, с другой стороны — на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи…»{57} Нынешнее модное поклонение (в частности, по закону контраста) Белой армии привело к тому, что в царских офицерах и генералах, служивших в Красной армии, хотят видеть корыстных приспособленцев. Однако у умиравшего в Париже великого князя Александра Михайловича не было, да и не могло быть никаких «практических» мотивов для подлаживания к большевикам. Он думал только о судьбе России, во главе которой триста лет находились его предки, включая его родного деда Николая I (как мы видели, «разоблачаемого» даже и в 1920 году белым генералом Африканом Богаевским). И к его приведенным только что словам, без сомнения, с чистой совестью присоединились бы многие из десятков тысяч служивших в Красной армии генералов и офицеров. Необходимо со всей определенностью сказать, что дело было не только в очевидном настоятельном стремлении большевиков сохранить — по мере возможности — государственное пространство России. Не менее существенно было и целенаправленное созидание прочной государственной структуры начиная с самой армии. И здесь следует вспомнить приведенные выше суждения «черносотенца» Б. В. Никольского (октябрь 1918 года) о том, что большевики созидают «вопреки своей воле и мысли новый фундамент для того, что сами разрушают», выступая как «орудие исторической неизбежности», притом осуществляют эту неизбежность «с таким нечеловеческим напряжением, которого не выдержать было бы никому из прежних деятелей» (в первую очередь, конечно, из деятелей Февраля, в том числе и стоявших тогда, осенью 1918 года, во главе Белой армии). Вполне понятно, что Б. В. Никольский был абсолютно не согласен с большевистскими планами строительства социализма-коммунизма и с программой «мировой революции». Речь шла только о том, что можно определить как восстановление «костяка», «скелета» России (что на нем будет наращиваться — это уже следующий, второй вопрос). Но деятели Февраля были явно не способны восстановить хотя бы этот самый костяк… И потому-то отношение к укрепляющейся большевистской власти, которое выразилось в размышлениях Б. В. Никольского и великого князя Александра Михайловича, а также в жизненном выборе почти половины генералов и офицеров Генерального штаба и т. д. и т. п., было проявлением истинного патриотизма, мучительно озабоченного вопросом о самом бытии России, а не вопросом, скажем, о том, будет ли в России парламент… Мне могут с недоумением — и возмущением — напомнить о том, что очень значительная часть генералов и офицеров, служивших в Красной армии, позднее была безжалостно репрессирована. Их участь может показаться неопровержимым аргументом в пользу мнения о том, что «выбор», сделанный этими людьми, был их заведомой и страшной ошибкой. Однако еще более значительная часть собственно большевистских командиров Красной армии также подверглась жестоким репрессиям. Во всех революциях неумолимо действует своего рода закон: подобно мифологическому титану Кроносу, они пожирают своих собственных детей. Ныне весьма популярно представление, согласно которому в «красной» России власть захватили «иудо-масоны», или, быть может, правильнее выражаясь, «иудеомасоны» (огрубленный вариант — «жидомасоны»). Но это словечко, если основываться на действительном, реальном положении вещей, приходится разделить надвое. В составе «красной» власти в самом деле было исключительно много иудеев или, точнее, евреев. Но что касается масонов, они-то находились как раз в составе «белой», а вовсе не «красной»{58} власти (влиятельных же евреев среди белых, напротив, было очень мало — М. М. Винавер, А. И. Каминка, М. С. Маргулиес, Д. С. Пасманик, М. Л. Слоним и еще немногие люди, которых можно было бы занести в рубрику «иудеомасоны»). Правда, почти все наиболее знаменитые деятели-масоны, из которых состояло Временное правительство, а также президиум и секретариат Совета рабочих и солдатских депутатов, не могли действовать непосредственно в Белой армии; они были слишком скомпрометированы. Но множество менее «одиозных» лиц играли решающую политическую роль в Белом движении, о чем говорится, в частности, в указанной выше книге Лоллия Замойского «За фасадом масонского храма» (с. 265–267). М. В. Назаров справедливо утверждает, что именно масоны «взяли на себя (при поддержке западных эмиссаров) организационно-политические дела в тылу Белых армий, обещая поддержку Антанты… Особенно заметно участие масонов в антибольшевистских правительствах: Н. Д. Авксентьев (он, кстати сказать, побывал и в министрах Временного правительства. — В.К.) во главе Уфимской директории, Н. В. Чайковский во главе Северного правительства в Архангельске, не говоря уже о многих их министрах и сотрудниках. Северо-Западное правительство при ген. Юдениче возглавил С. Г. Лианозов. («Думаю, все это правительство составлялось «союзниками» из масонов», — писал Р. Гуль). Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина. У Врангеля их, кажется, было меньше, поскольку он свел гражданскую администрацию к минимуму». И заключает М. В. Назаров так: «…о масонской принадлежности своих правителей-тыловиков, конечно, вряд ли могли знать белые бойцы да и сами их генералы» (цит. изд., с. 115). Все это в целом совершенно верно, но необходимы и некоторые уточнения. Начну с конца. Да, «бойцы» и даже генералы Белой армии едва ли знали, что делавшие политику в их стане люди принадлежат к масонству. Но направленность этой политики все же осознавалась. Так, один из наиболее выдающихся военачальников Белой армии генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский (он — единственный среди белых — получил такого рода «именование», призванное поставить его в один ряд с Потемкиным, Суворовым, Кутузовым) 5 апреля 1920 года писал в своем «рапорте» П. Н. Врангелю (с пометой «Секретно в собственные руки»): «Сейчас в Вашем штабе остались лица Керенского направления… к этому присоединяются карьеризм и переменчивость взглядов некоторых старших начальников». Генерал назвал даже и вполне конкретное имя, утверждая, что начальники-карьеристы «портят все дело… проведением на государственные должности «лиц», подобных Оболенскому»{59}. Князь В. А. Оболенский (1869–1950) был одним из влиятельнейших деятелей масонства, членом его немногочисленного «Верховного совета». И, надо думать, именно понимание политической сути Белого движения не в последнюю очередь определило уход Я. А. Слащова в отставку 2 августа 1920 года (то есть менее через четыре месяца после процитированного «рапорта») и его позднейшую — в ноябре 1921 года — просьбу о принятии его в Красную армию… Характерно заглавие статьи Я. А. Слащова о смысле борьбы Белой армии, — заглавие, в которое стоит вдуматься: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». Но вернемся к рассуждению М. В. Назарова. Сказав о том, что главные политические руководители Белого движения в Уфе, Архангельске и Ревеле (Таллине) являлись масонами, он пишет: «Были влиятельные масоны в правительствах Колчака и Деникина». Эту фразу вполне можно понять в том смысле, что в основных центрах Белой армии роль масонов была не очень уж значительной. А между тем дело обстояло по-иному. Так, скажем, в июле 1919 года — в период наибольшего подъема Деникина — его правительство («Особое совещание») состояло из 24 человек. Шестеро из них — это генералы (а военные, как уже сказано, почти не вступали в масонство), но из остальных 18 человек 8 «начальников управлений» (то есть министерств), притом важнейших, были масонами: начальник управления внутренних дел Н. Н. Чебышев, юстиции В. Н. Челищев, земледелия В. Н. Колокольцев, финансов М. В. Бернацкий, вероисповеданий Г. Н. Трубецкой, государственного контроля В. А. Степанов и наиболее важные «министры без портфеля» Н. И. Астров и М. М. Федоров{60}. Словом, Деникин, как и Гучков в феврале, «был, — пользуясь определением В. И. Старцева, — окружен масонами со всех сторон», и его политика «была все-таки масонской»… И дело здесь, разумеется, не в самом этом ярлыке «масонство», но в стоящей за ним программе, которая отнюдь не определялась подлинными интересами России — как ее государства, так и ее народа. Мне возразят, что и «красная» политика не определялась этими интересами, — хотя бы уже в силу неслыханных жертв и разрушений, к которым она привела страну. Но эту исключительно сложную и острую тему мы еще будем исследовать. P.S. Когда эта глава моего сочинения уже была сдана в набор, на прилавках появилась книга не раз упомянутого выше У. Лакера «Черная сотня. Происхождение русского фашизма», изданная в Москве «при поддержке» пресловутого «Фонда Сороса». Благодаря этой «поддержке» книга вышла немалым в нынешних условиях тиражом и продается по весьма низкой цене. Поэтому было бы неправильным умолчать о ней в этом сочинении. Нечто подобное фашизму, без сомнения, имело место в России XX века. Так, например, 17 сентября 1918 года в одной из влиятельнейших тогда газет, «Северная коммуна», было опубликовано следующее беспрецедентное требование члена ЦК РКП(б) и председателя Петросовета Г. Е. Зиновьева (с 1919-го — глава Коминтерна): «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать»{61}. И, как было показано выше, за последующие четыре года жертвами стало даже в два раза больше людей — примерно 20 (а не 10) миллионов… Но Лакер об этом даже не упоминает и пытается углядеть фашизм в совсем иных явлениях; к тому же он определяет его уже в самом заглавии книги как «русский». Основы этого фашизма заложил, как утверждает Лакер, Союз русского народа, который, оказывается, исповедовал «расизм»{62}, как и впоследствии германские фашисты. Написав об этом, Лакер, по всей вероятности, испугался, что лживость его утверждения будет слишком очевидна, и счел нужным сделать оговорку: «Чистокровный, примитивный расизм нельзя было внедрять в стране, где половина населения была нерусского происхождения… Можно было еще взять курс на изгнание или уничтожение всех нерусских, однако такое решение было бы чересчур радикальным для партии, которая хотя и шла к фашизму, но была еще далека от этих неясных целей» (с. 64–65). Итак, Союз русского народа вообще-то жаждал изгнать или уничтожить «всех нерусских», однако еще не дозрел до этого; к тому же было, так сказать, и объективное препятствие: половину населения Империи составляли-де «нерусские». Что сказать по этому поводу? Провозглашение половины населения Империи «нерусским» — это фальсификация, грубая даже и для уровня Лакера. Ведь любой чуть-чуть знакомый с проблемой человек знает, что для Союза русского народа «русскими» являлись в равной мере все три восточнославянских племени, более того, самыми многочисленными сторонниками Союз располагал среди малороссов-украинцев. И потому русские (великороссы, малороссы и белорусы) составляли не 50, а около 70 процентов населения страны. Но, может быть, Лакер прав по отношению к остальным 30 процентам, и Союз русского народа если и не уничтожал их, то, во всяком случае, относился к ним как к враждебным чужакам? Забавно, что сам Лакер тут же себя опровергает. Ему хочется дискредитировать «черносотенцев» во всех возможных аспектах, и, стремясь показать их национальную «несостоятельность», он сообщает, что немало видных «черносотенных» деятелей «было нерусского происхождения: Пуришкевич, Грингмут, Бутми де Кацман, Крушеван, генерал Каульбарс, Левендаль, Энгельгардт, Плеве, Пеликан, генерал Ранд, Рихтер-Шванебах и другие» (с. 69). Перечень таких нерусских лидеров «черносотенства» можно продолжать и продолжать. Но как это совместить с «расизмом» — или хотя бы с национализмом — Союза русского народа? Что это за националисты, которые избирают в качестве вожаков многочисленных людей иного национального происхождения? Впрочем, к насквозь лживой книге Лакера мы еще вернемся; здесь же нельзя не сказать об его рассуждении о российском масонстве XX века, поскольку я подробно рассматривал эту тему. Лакер не отрицает (да это и невозможно) существование масонов в революционной России, но без всяких аргументов утверждает, что они не играли хоть сколько-нибудь существенной роли. Их «миссия» в Феврале — это-де выдумка нескольких эмигрантов и современных русских историков. Трудно поверить, что Лакер ничего не знает о целом ряде работ западных историков (Л. Хаймсон, Б. Нортон, Н. Смит, Б. Элкин и др.){63}, пришедших, в сущности, к тем же выводам, что и их русские коллеги. Словом, перед нами опять заведомая ложь. Впрочем, это обычный «прием» Лакера. Так, например, он упоминает коллективный труд «Погромы: противоеврейское насилие в новейшей русской истории», изданный в 1992 году Кембриджским университетом (я писал о нем; см. «Наш современник», 1994, № 8, с. 138–140), и даже дает ему высокую оценку: «Глубокое исследование причин и обстоятельств погромов» (с. 56). В этом труде показано, в частности, что «черносотенцы» отнюдь не устраивали погромов. Однако Лакер всего через две страницы беспардонно пишет, что-де Н. Е. Марков планировал, как «в грядущих погромах погибнут все евреи, до последнего» (с. 59). Но на каких же основаниях Лакер отвергает все многочисленные исследования о роли масонства в Февральской революции? А крайне просто: он ссылается на написанную еще в 1981 году книгу воинствующего советского историка А. Я. Авреха «Масонство и революция», которая якобы содержит истину в последней инстанции (с. 20). Из книги Авреха можно узнать, что историки, говорящие о роли масонства, «практически отвергают марксистско-ленинскую концепцию развития революционного процесса в России»{64}. Это в самом деле так, и Аврех — вслед за «академиком И. И. Минцем», на статью которого он почтительно ссылается в своей книге, — ринулся отстаивать сию концепцию. Так что Лакер — хочет он того или не хочет — оказывается единомышленником Авреха и Минца. Могут возразить, что в книге Лакера есть нападки на тех или иных коммунистов. Это действительно так, но с одним в высшей степени многозначительным уточнением: Лакеру не нравятся те коммунисты, которые хоть в какой-либо мере склонны к патриотизму. Истинный враг для Лакера — вовсе не коммунизм (в любом смысле этого слова), но Россия. И это необходимо осознать каждому, кто возьмет в руки его книгу, — как, кстати сказать, и многие другие западные сочинения о России…. >ИСТОРИОСОФСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: О византийском и монгольском «наследствах» в судьбе России >Размышление о «черносотенцах» и Революции было сосредоточено на очень кратком — хотя и поистине перенасыщенном событиями и конфликтами — периоде русской истории: это всего лишь полтора десятилетия — с 1905 по 1921 год. Но в силу беспримерной динамики и обостренности этого периода, в нем, надо думать, должны были так или иначе воплотиться основные, сущностные особенности всего русского бытия, каким оно складывалось в течение веков. И для более глубокого и полного понимания того, что происходило в начале XX века, необходимо хоть в какой-то мере иметь в виду эти тысячелетние основы России, — для чего следует обратиться даже не к русской истории как таковой (то есть многовековой цепи событий), но к «смыслу» русской истории, то есть, пользуясь давно существующим, но до последнего времени прочно забытым и, более того, «запрещенным» термином, — к русской историософии. Вместе с тем невозможно, разумеется, изложить эту историософию во всем ее объеме сколько-нибудь кратко. Поэтому я избираю для рассмотрения две стороны, две координаты исторического пути Руси-России — ее взаимосвязи с Византийской и Монгольской империями — взаимосвязи, которые, несомненно, играли громадную судьбоносную роль (чего не отрицал, пожалуй, ни один из авторитетных мыслителей, касавшихся этих взаимосвязей, хотя их роль толковалась и оценивалась принципиально различным образом). Размышляя о двух указанных. взаимосвязях, можно, как представляется, сделать существенные выводы об основах русского пути вообще, в целом (например, об его идеократическом и евразийском характере; понятия эти будут уяснены в дальнейшем изложении). То, что произошло в России в 1905–1921 годах, имеет самые что ни есть глубокие исторические корни, и предлагаемое «Историософское приложение» призвано так или иначе выяснить неотвратимую «закономерность» пережитого нашей страной катаклизма. >Русь и «Царство ромеев» Понимание и ценностное восприятие Византийской империи в русском самосознании допетровского времени и, с другой стороны, в идеологии XIX–XX вв. очень существенно, даже принципиально расходятся. Говоря кратко и просто, до XVIII века Византия воспринималась на Руси — в общем и целом — в самом положительном духе, а в последующее время для наиболее влиятельных идеологов характерно негативное отношение к ней. Правда, в конце XIX — начале XX в. начинает складываться и противоположная тенденция (особенно ярко выразившаяся в течении евразийства), но она, в свою очередь, наталкивается на сильное сопротивление, и можно без преувеличения утверждать, что и сегодня очень широко распространена более или менее «отрицательная» оценка роли Византийской империи в истории России. Тут мне почти наверняка возразят, что дело обстоит не совсем так, ибо общепризнано позитивное значение приятия Русью христианства от византийской церкви. Однако, рассматривая проблему во всей ее многосторонности, мы убедимся, что она значительно более сложна и противоречива. Во-первых, существует и в последнее время усиливается стремление переоценить уже и само по себе обращение к христианству, подавившему восточнославянские языческие верования, которые, по убеждению сторонников этого взгляда, воплощали в себе подлинно самобытные начала Руси. С другой стороны, многие историки — и это не случайно — пытались и пытаются доказать, что русские в действительности восприняли христианство не из Византии, но либо из Болгарии (см., например, работы влиятельного в свое время историка М. Д. Приселкова), либо из Моравии (Н. К. Никольский), либо от норманнов-варягов (Е. Е. Голубинский); в последнее время была выдвинута еще особая версия об ирландском происхождении русского христианства (наш современник А. Г. Кузьмин). Наконец, очень многие из тех историков и идеологов, которые признают византийские истоки христианской Руси, вместе с тем стремились и стремятся утвердить представление о том, что древнерусская церковь — как и Древняя Русь в целом — с самого начала находилась будто бы в состоянии упорной борьбы с Византией за свою независимость, каковой, мол, постоянно угрожал Константинополь. Так, великий деятель Русской Церкви и культуры XI века, митрополит Киевский Иларион преподносится в качестве своего рода непримиримого борца с византийской церковью, и созданное Иларионом гениальное «Слово о Законе и Благодати» с XIX века и до нашего времени пытаются толковать как якобы противовизантийское по своей основной цели и смыслу выступление. Между тем подобное истолкование поистине нелепо; чтобы убедиться в этом, достаточно беспристрастно вдуматься хотя бы в следующее суждение митрополита Илариона — в его слова о «благоверении земли Греческе, христолюбии же и сильне Верою, како единого Бога в Троици чтут и кланяются, како в них деются силы и чудеса и знамения, како церкви люди исполнены, како вси града благоверени, вси в молитвах предъстоят и вси Богови простоят…» Или слова о Владимире Святославиче, который «принесъша крсть (крест) от Новага Иерусалима — Константина града». Выдающийся историк М. Н. Тихомиров не без иронии заметил в свое время: «В таких словах нельзя было говорить против Византии»{1}… Но и до сего дня Илариона тщатся изобразить неким принципиальным врагом Византии и ее Церкви… Все это не могло не иметь существенной причины. И дело здесь, как я буду стремиться доказать, в том, что начиная со времени Петра I Россия и вполне реально, практически устремилась на Запад, и в своем самосознании испытывала мощнейшее воздействие западной идеологии. А Запад издавна, — можно даже сказать извечно, — непримиримо противостоял Византии. …В V веке «варварские» племена, создавшие впоследствии современную западноевропейскую цивилизацию и культуру, беспощадно разгромили ослабевший Рим. Словно предвидя эту участь великого города, римский император Константин I Великий еще в 20-е годы предыдущего, IV века перенес центр Империи на 1300 км к Востоку, в древний греческий город Византии, получивший затем имена «Новый Рим» и «Город Константина» (Константинополь). Этот город, в отличие от Рима, сумел отстоять себя в борьбе с «варварами», и Византия явилась единственной прямой наследницей античного мира и прожила свою богатую и сложную историю, длившуюся более тысячи ста лет. Правда, в 1204 году — через восемь столетий после разгрома Рима — в «Новый Рим» вторглись далекие потомки тех самых варваров — крестоносцы. В основанной на многолетних разысканиях книге М. А. Заборова «Крестоносцы на Востоке» (1980) сообщается, в частности: «В разрушительных оргиях погибли… замечательные произведения античных художников и скульпторов, сотни лет хранившиеся в Константинополе. Варвары-крестоносцы ничего не смыслили в искусстве. Они умели ценить только металл. Мрамор, дерево, кость, из которых были некогда сооружены архитектурные и скульптурные памятники, подвергались полному уничтожению. Впрочем, и металл получил у них своеобразную оценку. Для того чтобы удобнее было определить стоимость добычи, крестоносцы превратили в слитки массу расхищенных ими художественных изделий из металла. Такая участь постигла, например, великолепную бронзовую статую богини Геры Самосской… Был сброшен с постамента и разбит гигантский бронзовый Геркулес, творение гениального Лисиппа (придворного художника Александра Македонского)… Западных вандалов не остановили ни статуя волчицы, вскармливавшей Ромула и Рема… ни даже изваяние Девы Марии, находившееся в центре города… В 1204 г. западные варвары… уничтожили не только памятники искусства. В пепел были обращены богатейшие константинопольские книгохранилища… произведения древних философов и писателей, религиозные тексты, иллюминованные евангелия… Они жгли их запросто, как и все прочее… Византийская столица никогда уже не смогла оправиться от последствий нашествия латинских крестоносцев»{2}. Картина впечатляющая, но необходимо осознать, что едва ли сколько-нибудь уместны употребленные в этом тексте слова «варвары» и «вандалы»; к XIII веку западноевропейская средневековая культура была уже достаточно высоко развита, — ведь это время Проторенессанса; архитектура, церковная живопись и скульптура, прикладное искусство, письменность Западной Европы переживали период расцвета, — что показано, например, в классической работе О. А. Добиаш-Рождественской «Западное средневековое искусство» (1929). Словом, поведение крестоносцев диктовалось не их чуждостью культуре вообще, но чуждостью и, более того, враждебностью по отношению именно к Византии и ее культуре, — потому и вели они себя примерно так же, как их действительно еще «варварские» предки, захватившие Рим в далеком V столетии… Чтобы признать справедливость этого утверждения, достаточно, полагаю, познакомиться с «позицией» основоположника ренессансной культуры Запада — Франческо Петрарки. Через полтора столетия после захвата Константинополя крестоносцами, в 1352 году, Византии в очередной раз нанесли тяжелейший ущерб генуэзские купцы-пираты (генуэзцы и венецианцы вообще сыграли главную роль в крушении Византии; турки в 1453 году захватили уже почти бессильный к тому времени Константинополь). И Петрарка (которого не заподозришь в недостатке культуры!) писал в своем послании «Дожу и Совету Генуи», что он «очень доволен» разгромом «лукавых малодушных гречишек» и хочет, «чтобы позорная их империя и гнездо заблуждений были выкорчеваны вашими (то есть генуэзскими. — В.К.) руками, если только Христос изберет вас отмстителями за Свое поношение и вам поручит возмездие, не к добру затянутое (даже так! — В.К.) всем католическим народом» (Ф. Петрарка. Книга о делах повседневных. XIV, 5. Перевод В. В. Бибихина). Но вернемся еще раз к «крестоносному» разгрому Константинополя в 1204 году. При мысли о нем естественно напрашивается чрезвычайно выразительное сопоставление. В 988 или 989 году, то есть еще за два столетия с лишним до нашествия крестоносцев, русский князь Владимир Святославич овладел главным византийским городом в Крыму — Херсонесом (по-русски — Корсунью). Как и Константинополь, Херсонес был создан еще в древнегреческую эпоху и являл собой подобное же совокупное воплощение античной и собственно византийской культуры. До недавнего времени в историографии господствовало мнение, согласно которому русское войско, войдя в Херсонес, будто бы обошлось с городом так же, как крестоносцы с Константинополем, — разрушило и сожгло все до основания и дотла. Однако в новейших исследованиях вполне убедительно доказано, что никакого урона Херсонес тогда не претерпел (см. «Византийский Временник» на 1989 и 1990 гг. — то есть тома 50 и 51), — о чем свидетельствует, кстати, и русский летописный рассказ о взятии Корсуни. Правда, Владимир Святославич увез в Киев ценные трофеи; как сказано в летописи, «взя же ида, 2 капища медяны и 4 кони медяны, иже и ныне стоять за Святою Богородицею, якоже несведуще мнятъ я мрамаряны суща» («взял с собой, уходя, двух бронзовых идолов и четырех бронзовых коней, что и теперь стоят за церковью Святой Богородицы и которых невежды считают мраморными»). Сама детальность рассказа убеждает, что в начале XII века (когда создавалась «Повесть временных лет») бронзовые фигуры людей и коней все еще красовались в центре Киева. И это отношение русских (еще в X веке!) к ценностям культуры Византии о многом говорит. Мне, правда, могут напомнить, что и фактический руководитель похода крестоносцев в 1204 году, венецианский дож Энрико Дандоло спас от уничтожения четверку бронзовых коней, изваянных тем же Лисиппом, и ее привезли из Константинополя в Венецию. Но это было все же исключением на фоне тотального уничтожения византийских культурных сокровищ… А поскольку, как уже отмечено, ровно никаких достоверных сведений о «варварском» поведении русских в Херсонесе нет, приходится сделать вывод, что версия о мнимом разорении этого византийского города в 988 (или 989) году сконструирована историками XIX века «по образцу» опустошения Константинополя в 1204 году… На деле отношение Запада и Руси к Византии было принципиально различным. Здесь невозможно охарактеризовать всю многовековую историю взаимоотношений Руси и Византии начиная с хождения в Константинополь первого (правившего на рубеже VIII–IX вв.) киевского князя Кия, который, по летописи, «велику честь приял» от византийского императора. Остановимся только на первом военном столкновении русских и византийцев. 18 июня 860 года войско Руси осадило Константинополь (сведения о более ранних подобных атаках недостоверны). Новейшие исследования показали, что этот поход был совершен под диктатом Хазарского каганата. Это неоспоримо явствует, в частности, из того факта, что в том же 860 году Византия отправила посольство во главе со святыми Кириллом и Мефодием не в Киев, а в тогдашнюю столицу Хазарского каганата — Семендер на Северном Кавказе (есть, правда, серьезные основания полагать, что на обратном пути это посольство посетило и Киев). Отмечу еще, что в одном из позднейших византийских сочинений предводитель похода на Константинополь (это был, очевидно, киевский князь Аскольд) точно определен как «воевода кагана» (то есть властитель Хазарии). Особенное, даже исключительное значение имеют для нас рассказы непосредственного свидетеля и прямого участника событий — одного из наиболее выдающихся деятелей Византии за всю ее историю, константинопольского патриарха св. Фотия (он, кстати сказать, называет русских «рабствующим» народом, — имея в виду, как полагают, тогдашнюю подчиненность Руси Хазарскому каганату; именно по его инициативе и было отправлено к хазарам посольство его великих учеников свв. Кирилла и Мефодия). Св. Фотий свидетельствовал, что в июне 860 года Константинополь «едва не был поднят на копье», что русским «легко было взять его, а жителям невозможно защищать», что «спасение города находилось в руках врагов и сохранение его зависело от их великодушия… город не взят по их милости» и т. п. Фотия даже уязвило, как он отметил, «бесславие от этого великодушия». Но так или иначе 25 июня жители Константинополя неожиданно «увидели врагов… удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения». Впоследствии, в XI веке, византийские хронисты, не желая, по всей вероятности, признавать это русское «великодушие», выдумали, что будто бы буря по божественной воле разметала атакующий флот (эта выдумка была воспринята и нашей летописью). Между тем очевидец событий Фотий недвусмысленно сообщает, что во время нашествия русских «море тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плавание». Позже патриарх Фотий писал, что «россы» восприняли «чистую и неподдельную Веру Христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей, вместо грабления нас и великой против нас дерзости, которую имели незадолго»{3}. Правда, это свершившееся в 860-х годах приобщение русских христианству не было широким и прочным; действительное Крещение Руси совершилось только через столетие с лишним. Но речь сейчас идет о другом — о том, что можно назвать «архетипом», изначальным прообразом отношения Руси к Византии. Нелегко или даже невозможно дать вполне определенный ответ на вопрос, почему в 860 году русские, уже почти захватив Константинополь, по своей воле сняли осаду и вскоре — пусть пока в лице немногих — обратились к религии византийцев. Но во всяком случае ясно, что в IX веке русские вели себя в отношении Второго Рима совершенно иначе, чем западные народы в V веке в отношении Первого и в XIII — Второго Рима. Могут напомнить, что после 860 года Русь не раз вступала в военные конфликты с Византией (походы Олега и Игоря, затем Святослава и, наконец, в 1043 году — Владимира, сына Ярослава Мудрого); однако новейшие исследования доказали, что каждый раз дело обстояло гораздо сложнее, чем это представлялось до недавнего времени (так, и Святослав, и Владимир Ярославич отправлялись в свои походы по приглашению определенных сил самой Византии). Но здесь, разумеется, нет места для освещения этих многообразных исторических ситуаций и их истинного значения. Вернемся к теме «Византия и Запад». Наиболее существен именно тот факт, что Запад воспринимал и поныне воспринимает иные — даже и самые высокоразвитые — цивилизации планеты только как не обладающие собственной безусловной ценностью «объекты» приложения своих сил. Это присуще мироощущению и «среднего» человека Запада, и крупнейших его мыслителей. Так, в 1820 году Гегель в своей «Философии истории» утверждал, что, мол, «самим Провидением» именно и только на Запад «возложена задача… свободно творить в мире исходя из субъективного самосознания», и что-де в тех случаях, когда «западный мир устремлялся в иные страны в Крестовых походах, при открытии и завоевании Америки… он не соприкасался с предшествовавшим ему всемирно-историческим народом» (то есть народами, имеющими «самоценное» значение в истории мира) — и потому имел полное право «творить» все по-своему во всех «иных странах», в частности в Византии (тут же Гегель без каких-либо доказательств заявил, что «история высокообразованной Восточной Римской империи…. представляет нам тысячелетний ряд беспрестанных преступлений, слабостей, низостей и проявлений бесхарактерности, ужаснейшую и потому всего менее интересную картину»{4}; естественно, что разбой крестоносцев получает при этом полное оправдание…). Вместе с тем, несомненно, что лишь благодаря этому своему геополитическому «эгоцентризму» и «эгоизму» Запад смог сыграть грандиозную роль на планете. И было бы заведомо неправильным воспринимать его роль в мировой истории только критически, только «отрицательно». Уже само по себе стремление «свободно творить в мире исходя из субъективного самосознания», — беря таким образом на себя всю полноту ответственности, — являет подлинно героическую суть Запада. С этой точки зрения Запад в самом деле не имеет себе равных, и его последовательное овладение всей планетой — до самых дальних континентов и даже затерянных в Мировом океане островков — одно из ярчайших выражений человеческого героизма вообще. Необходимо только сознавать, что понятие «героическое», которое безоговорочно покоряет души юношей, вовсе не сводится к «положительному» содержанию и отнюдь не совпадает с критериями нравственности. Для «объектов» героического деяния оно вполне может предстать как нечто крайне негативное. Еще более важно понять, что, вполне обоснованно восхищаясь героикой Запада, ни в коем случае не следует разделять его восприятие и оценку остального мира, иных цивилизаций и культур. В высшей степени прискорбно, что в русском самосознании Запад слишком часто и прочно представал и предстает в качестве непререкаемой, даже единственной «меры вещей». Западное непризнание всемирно-исторической ценности всего «другого», «иного», чем он сам, с особенной ясностью выступает в отношении Византийской империи. Даже такой, казалось бы, широкий и терпимый (в сравнении, например, с французскими просветителями, говорившими о Византии в жанре грубой брани) западный идеолог, как Гердер, писал в своем фундаментальном трактате «Идеи к философии истории человечества» (1782–1788), что Византия предстает-де в качестве «двуглавого чудовища, которое именовалось духовной и светской властью, дразнило и подавляло другие народы и… едва может отдать себе спокойный отчет в том, для чего нужны людям религия и для чего правительство… Отсюда пошли все пороки, все жестокости омерзительной (даже так! — В.К.) византийской истории…»{5}. Мне могут возразить, что такое отрицание чуть ли не самого права на существование Византии имело место два столетия назад, а ныне Запад понимает, дело иначе, ибо в его идеологии в XX веке начало утверждаться представление о равноправности или даже равноценности различных цивилизаций и культур. Это вроде бы действительно так: во-первых, в новейшее время на Западе было создано немало более или менее объективных исследований истории Византии (и других «незападных» государств), а во-вторых, западная историософия в лице Шпенглера и Тойнби так или иначе провозгласила равенство цивилизаций (здесь стоит напомнить, что в России это было осуществлено еще в XIX веке — в историософии Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева). Да, казалось бы, крупнейший представитель английской историософии Арнольд Тойнби (1889–1975) уже в 1920–1930-х годах искупил грех западной идеологии, утвердив представление о десятках вполне «суверенных» и равно достойных внимания цивилизаций, существовавших и существующих на Земле и в том числе православных — византийской, а затем российской. Однако при обращении к конкретным рассуждениям Тойнби о Византии мы сталкиваемся с поистине поразительными противоречиями. С одной стороны, британский мыслитель утверждает, что «первоначально у православия были более многообещающие перспективы, чем у Запада» и что Византия вообще «опередила западное христианство на семь или восемь столетий, ибо ни одно государство на Западе не могло сравниться с Восточной Римской империей вплоть до XV–XVI вв.» (это, в сущности, простая констатация фактов, изученных западными историками Византии в течение XIX — начала XX в.). И тем не менее столь «лестные» для Византии суждения тут же, по сути дела, полностью опровергаются. После первой из процитированных фраз Тойнби заявляет, что «византийские императоры неустанно искажали и уродовали свое истинное наследие», а в связи со второй фразой выражает решительное недовольство по тому поводу, что уже в VIII веке византийский император Лев III «смог повернуть православно-христианскую историю на совершенно не западный путь»{6}. Здесь важно заметить, что, рассуждая о ряде других цивилизаций, Тойнби не попрекает их за их явно «незападный» путь. Но о Византии он неожиданно (ведь именно он последовательнее, чем какой-либо другой представитель западной историософии, провозгласил равенство всех самостоятельных цивилизаций!) начинает говорить точно так же, как те идеологи, для которых Запад — это, в сущности, как бы единственная имеющая безусловное право на существование цивилизация. И в заключение параграфа «Восточная Римская империя…» Тойнби без обиняков клеймит, по его словам, «извращенную и греховную природу» этой империи. Объясняется все это достаточно просто. Византия была единственной прямой соперницей Запада. Это совершенно наглядно отразилось в том, что в X веке (точно — в 962 году) на Западе была провозглашена «Священная Римская империя» (то есть как бы другой «Новый Рим»), надолго ставшая основой всего западного устройства. И впоследствии Запад (как мы еще увидим) стремился отнять у своей восточной соперницы даже и само это имя «Римская»… При этом соперничество складывалось сначала явно не в пользу Запада. Тойнби в приведенном выше высказывании напомнил, что «вплоть до XV–XVI вв.» Византия «опережала» Запад… Немаловажно заметить, что Тойнби, который в общетеоретическом плане так или иначе отказывается от прямолинейного понятия «прогресс», не смог в данном случае преодолеть западный соблазн; ведь в глубоком смысле Византия не «опережала» кого-либо, а развертывала свое самостоятельное, своеобразное культурное творчество, мерить которое по шкале «прогресса» — занятие, прямо скажем, примитивное (вот выразительный пример: Франческо Петрарка и преподобный Сергий Радонежский были современниками, но решать, кто кого из них «опережал», — дело не только неблагодарное, но и просто нелепое, — хотя сопоставление этих двух личностей может многое прояснить). Впрочем, Тойнби говорит и о своеобразии Византии, — правда, тут же толкуя его в сущности как «безобразие». Он сопоставляет Запад и Византию в следующем рассуждении: «История отношений между церковью и государством указывает на самое большое и самое серьезное расхождение между католическим Западом и православным Востоком»; на Западе эти отношения сложились в виде «системы подчинения множества местных государств единой вселенской церкви» (пребывающей в Риме). Между тем в Византии имело место слияние церкви и государства, слияние, которое Тойнби едва ли адекватно определил как «подчинение церкви государству», ибо для истории Византии не менее характерно и обратное — подчинение государства церкви. Тойнби стремится представить империю, в которой было-де установлено безоговорочное «подчинение церкви государству», как заведомо деспотическую, всецело основанную на голом насилии. В его рассуждениях о Византии постоянно говорится о «жестком контроле», «нещадном подавлении», «государственных репрессиях», даже «свирепости» и т. п. Однако, поскольку ко времени создания его историософии западные исследователи более или менее объективно осветили фактическую, реальную историю Византии, Тойнби, явно противореча своим собственным общим оценкам, говорит, например, что в Византии «использование политической власти в религиозных целях было, следует отметить, весьма тактичным по сравнению с кровопролитными религиозными войнами, которые вел Карл Великий в аналогичной ситуации». В отличие от Византии, констатирует также Тойнби, «западное христианство… прибрало к рукам… все европейские земли… вплоть до Эльбы». К тому же, пишет он, «на Западе безоговорочно считали, что латынь является единственным и всеобщим языком литургии… Разительным контрастом этой латинской тирании выглядит удивительный либерализм православных. Они не предприняли ни одной попытки придать греческому языку статус монопольного» (в связи с этим стоит вспомнить, что в IX веке свв. Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность, а в XIV веке — как бы продолжая их дело — русский святой Стефан Пермский создал зырянскую, т. е. коми). Итак, существуют два совершенно различных «представления» о Византии, одно из которых — всецело тенденциозная западная идеологема, мрачный и нередко даже зловещий миф о Византии, а другое — так или иначе просвечивающая сквозь этот миф реальность византийской истории. Исходя из фактов Тойнби пишет, например, что «восточноримское правительство традиционно отличалось умеренностью». Но он же, подвергая резкой критике византийское монашество за недостаточную «активность», противопоставляет ему в качестве своего рода идеала западноевропейское монашество: «Франциск и Доминик вывели монахов из сельских монастырей в широкий мир… Напрасно мы будем искать какую-либо параллель этому движению в православии». Но ведь это «выведение» западного монашества в «широкий мир» выразилось «ярче» всего в создании доминиканцами (и, отчасти, францисканцами) Святой инквизиции, которая отправила на пытки и казни сотни тысяч «еретиков»! А в истории Византии действительно не было «какой-либо параллели» этому явлению. Не менее характерна и судьба иудеев на Западе и, с другой стороны, в Византии. В западноевропейских странах в XII–XVI веках было уничтожено, согласно сведениям «Еврейской энциклопедии», примерно 400 тысяч приверженцев иудаизма — то есть 40 процентов тогдашнего мирового иудейства… А многие из уцелевших нашли убежище в Византии, где, несмотря на все конфликты христиан и иудеев, ничего подобного западноевропейскому «геноциду» все же не произошло. Речь идет, разумеется, отнюдь не о том, что Византия являла собой совершенство. Но, безусловно, необходимо преодолеть навязанное западной идеологией представление о Византийской империи как о некоем «уродстве». Ведь даже обладающий репутацией апологета равноценности цивилизаций Тойнби постоянно употребляет по отношению к Византии такие «термины», как «уродование», «искажение», «дисгармония», «извращение» и т. п. Ясно, что в качестве якобы беспристрастного «критерия» берется здесь цивилизация и культура Запада. И в самом деле: Тойнби с какой-то даже наивной откровенностью утверждает, что единственным «спасением» для Византии было бы превращение ее в прямое подобие Запада. Он пишет, например, что в Византии «в VII в. появились некоторые признаки… возвращения на путь, избранный для Запада папой Григорием Великим (590–604)». Однако «развитие вселенского патриарха в духе папства» все же не свершилось, и в результате, мол, «православное христианство выглядело болезненно дисгармоничным, что было платой за выбор неверного пути». Вполне понятно, что на «неверном пути» нельзя было достичь никаких действительно ценных результатов… В 1984–1991 годах в Москве вышел в свет фундаментальный (объемом около 180 авт. листов) трехтомный труд «Культура Византии», созданный первоклассными современными специалистами России. Со всей доказательностью раскрывается здесь богатейшее — чрезвычайно многообразное и глубоко самобытное — культурное творчество, совершавшееся в продолжение более чем тысячелетия в Византии. Но проштудировали этот труд немногие, и в сознании большинства из тех, кто так или иначе касается проблемы «византийского наследства», по-прежнему господствует заведомо ложное и по самой своей сути негативное «мнение» об этом наследстве — мнение, в конечном счете восходящее к идеологам Запада. Очень характерно, что в России — под воздействием западноевропейских представлений — принято относить Византию к «Востоку», хотя Константинополь расположен западнее Киева и тем более Москвы… Еще раз повторю, что нельзя, да и ни к чему «идеализировать» Византию (хотя такая тенденция — правда, весьма узкая — имела место в русской мысли) и усматривать в ее истории — в противовес идеологам Запада — «превосходство» над западной цивилизацией и культурой. Речь может и должна идти только об имеющем полное право на существование своеобразии. Если на Западе с давних времен средоточие церкви существовало (о чем говорит, в частности, Тойнби) само по себе, «отдельно», — как специфическое теократическое государство (Stato Pontifico — т. е. Государство Первосвященника, в Папской области, возникшей еще в VIII веке), то в Византии так или иначе сложилось единство церкви и государства. Византийскую империю вполне уместно поэтому определить как идеократическое (имея в виду власть православных идей) государство, между тем Западу присуще то, что следует определить термином «номократия» — власть закона (от греч. номос — закон); с этой точки зрения азиатские общества уместно определить термином «этократия» — от греч. etos — обычай. И именно об этом неприязненно и саркастически писал Гердер. В Византии, согласно его по-своему достаточно метким характеристикам, христианская идея «сбила с толку ум человеческий («ум», конечно, понимается в чисто западном смысле. — В.К.), — вместо того чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху… долг людей по отношению к государству путали с чистыми отношениями людей к Богу и, сами не ведая того, положили в основу Византийской христианской империи… религию монахов, как же могли не утратиться верные соотношения… между обязанностями и правами, наконец, даже и между сословиями государства?… Здесь, конечно, произносили речи бого-вдохновенные мужи патриархи, епископы, священники, но к кому они обращали свои речи, о чем говорили?… Перед безумной, испорченной, несдержанной толпой должны были изъяснять они Царство Божие… О как жалею я тебя, о Златоуст, о Хризостом!..»{7} (великий деятель византийской церкви IV–V вв. Иоанн Златоуст). Все это, повторю, по-своему метко и даже — не побоюсь сказать — верно. И западные государства, цель которых в конечном счете сводилась к установлению строго упорядоченных соотношений «между правами и обязанностями» и «между сословиями», к четкому утверждению «долга людей по отношению к государству» и т. п., предстают в сравнении с Византией действительно как нечто принципиально более «рациональное», всецело направленное на устроение реальной, земной человеческой жизни. И нельзя не видеть, что большинство русских идеологов (да и вообще русских людей) XIX–XX веков относились к «благоустроенности» западной цивилизации с глубоким уважением или даже преклонением и, более того, с острой завистью. Правда, в России не столь уж редко раздавались голоса, обличавшие «бездуховность» этой цивилизации, но можно со всей основательностью утверждать, что подобные нападки чаще всего порождало стремление противостоять господствующему в России безоговорочному пиетету перед Западом. Между тем в западной идеологии не только царило принципиально негативное восприятие Византии (и — о чем еще пойдет речь — ее наследницы России), но и, как мы видели, отрицалось, по сути дела, само ее право на существование. И поглощение Византии в XV веке Османской империей Запад воспринимал как совершенно естественный итог. Гердер говорил даже об «удивлении», вызываемом у него тем фактом, что «империя, так устроенная, не пала еще гораздо раньше» (ту же точку зрения отстаивал через полтораста лет и Тойнби, утверждая, что Византия была «тяжелобольным обществом… задолго до того, как на исторической сцене появились тюрки», — то есть задолго до XI века!). Как уже сказано, фактическая, реальная история Византии подчас все же заставляла Гердера и других западных идеологов впадать в прямое противоречие с утверждаемым ими мифом о ней. Так, например, Гердер, для своего времени неплохо знавший византийскую историю, признавал, что главную роль в падении Константинополя сыграли чрезвычайно динамичные и мощные западные силы — Венецианская (она, кстати, нанесла Византии наибольший урон еще во время крестовых походов) и Генуэзская республики; их атаки и грабеж (Гердер даже назвал его «позорным») продолжались в течение нескольких веков, и (цитирую Гердера) «империя была в итоге так ослаблена, что Константинополь без труда достался турецким ордам» (вспомним, что еще Петрарка столетием ранее призывал генуэзцев и вообще Запад поскорее «выкорчевать» Византию…). Короче говоря, Византийская империя прекратила существование не в силу некой своей внутренней, имманентной несостоятельности; она была раздавлена между беспощадными жерновами Запада и Востока: такому двустороннему давлению едва ли бы смогло противостоять какое-либо государство вообще… Предпринятое мною своего рода оправдание Византийской империи продиктовано стремлением «противустать» отнюдь не цивилизации и культуре Запада, имеющим свою великую самобытную ценность, но навязываемой западными идеологами тенденциозной дискредитации Византии — дискредитации, объясняемой тем, что эта сыгравшая громадную роль в истории — в том числе и в истории самой Западной Европы! — цивилизация шла по принципиально «незападному» пути. Кстати сказать, тот факт, что Византия сыграла грандиозную и необходимую роль в развитии самого Запада, не могут полностью игнорировать никакие ее критики. Так, по словам того же Гердера, «благодеянием для всего образованного мира было то, что греческий язык и литература так долго сохранялись в Византийской империи, пока Западная Европа не созрела для того, чтобы принять их из рук константинопольских беженцев», и даже «венецианцы и генуэзцы научились в Константинополе вести более крупную торговлю… и оттуда перенесли в Европу множество полезных вещей». Впрочем, и признавая «заслуги» Византии в развитии Запада и мира в целом (эти заслуги, конечно, не сводятся к указанным Гердером фактам), западные идеологи тем не менее всегда были готовы объявить ее тысячелетнюю историю в целом «уродливой» и бесперспективной. И это западное неприятие Византии основывалось не только на том, что она была идеократическим государством; Запад отталкивала и евразийская суть Византийской империи. Ибо даже самые «гуманистические» идеологи не были свободны от своего рода «западного расизма». Вот выразительный пример. В 1362–1368 годах Петрарка жил в Венеции, куда пираты-купцы свозили тогда из Причерноморья множество рабов; это были, как нам известно, люди, принадлежавшие к различным народам Кавказа, половцы и — в меньшей мере — русские. Многие из этих людей (что также хорошо известно) были христианами. Но Петрарка, чей гуманизм простирался только на народы Запада (он ведь и самих греков именовал «малодушными гречишками»), писал об этих людях как о неких полуживотных: «Диковинного вида толпа мужчин и женщин наводнила скифскими мордами прекрасный город…» (Венецию). И выражал свое настоятельное пожелание, чтобы «не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы… а в своей Скифии… по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы»{8}. В Византии же никто не усматривал в людях, принадлежавших к народам Азии и Восточной Европы, «недочеловеков», и, в частности, любой человек, исповедовавший христианство, мог занять в империи любой пост и достичь высшего признания: так, император Лев III Великий (VIII век) был сирийцем, Роман I Лакапин (X век) — армянином, а патриарх Константинопольский Филофей (XIV век) — евреем. Между тем тот же прославленный западный гуманист Петрарка отказывал в высшем «благородстве» даже и самим грекам, утверждая, в частности, что-де «никакой самый наглый и бесстыжий грек не посмеет сказать ничего подобного», а «если кто такое скажет, пусть уж говорит заодно, что благородней быть рабом, чем господином»… Гердер, живший через четыре столетия после Петрарки, не был склонен к такому неприкрытому «расизму», но, рассуждая об «омерзительной византийской истории», он все же счел необходимым сказать, что в основу этой истории легла «та злосчастная путаница, которая бросила в один кипящий котел… и варваров, и римлян» (византийские греки называли себя «ромеями», то есть римлянами). Таким образом, и для западного идеолога XVIII века был неприемлем многоплеменный евразийский «котел» Византии… Россия — единственное из государств — в сущности унаследовала евразийскую природу Византии. Характерно в этом отношении «крылатое» словцо, приписываемое двум совершенно разным (это важно отметить, ибо, значит, мы имеем дело с западной ментальностью вообще) европейцам — Наполеону и его непримиримому противнику графу Жозефу де Местру: «Поскоблите русского и вы найдете татарина». Отсюда уже не так далеко до нацистской концепции «неарийства» русских. Не могу не сказать в связи с этим, что меня ни в коей мере, абсолютно не волнует проблема расовой и этнической «чистоты» русских людей, ибо тезис об особой ценности этой самой чистоты не имеет никакого реального обоснования; это только один из характерных западных мифов. Едва ли уместны, например, сомнения в высшем человеческом совершенстве Пушкина, а между тем, если обратиться к третьему (прадедовскому) поколению его предков, то пятеро из восьми его прадедов и прабабок, возможно, были «чисто русского» — или, шире, славянского — происхождения (хотя и в них не исключена столь характерная для России «примесь» тюркской или финской «крови»): Александр Петрович Пушкин (дед отца поэта), его племянник — Алексей Федорович Пушкин (дед матери поэта, Надежды Осиповны Ганнибал), Евдокия Ивановна Головина, Лукерья Васильевна Приклонская и Сарра Юрьевна Ржевская. Однако остальными предками Пушкина в этом поколении были эфиоп Абрам Ганнибал, немка Христина-Регина фон Шеберг и имеющий тюркское (по гораздо менее достоверной версии — итальянское) происхождение Василий Иванович Чичерин. Кстати сказать, есть все основания утверждать, что в далекие — «доисторические» — времена и население самой Западной Европы представляло собой именно «кипящий котел», в котором сваривались воедино самые разные этносы и расы; своеобразие Византии (и, позднее, России) состояло лишь в том, что они являли собой такие «котлы» в уже историческое время, на глазах уже сформировавшейся цивилизации Запада, которая неодобрительно или просто с презрением взирала на эту евразийскую «путаницу» (по слову Гердера). Подводя итог рассмотрению проблемы «Запад и Византия», обращу внимание на, казалось бы, «формальное», но, если вдуматься, чрезвычайно многозначительное явление: уже само название «Византия» было (о чем ныне знают немногие) присвоено Западом государству, называвшему себя «Империей ромеев» (то есть римлян), в качестве, по сути дела, принижающего прозвища (исходящего из древнего названия Константинополя). С. С. Аверинцев пишет об этом так: «Примерно через сто лет после ее (Империи ромеев. — В.К.) гибели западноевропейские эрудиты, не жаловавшие ее, прозвали ее Византийской; ученая кличка… вошла в обиход, время от времени возвращая себе статуе бранного слова (например, в либеральной публицистике прошлого века)»{9}. Нет смысла призывать к отказу от давно и прочно утвердившегося названия, но поистине необходимо освободить его от того негативного заряда, который был внедрен в это название — и особенно в производные от него термины «византизм» (или «византинизм») и «византийство» — западными, а по их примеру и российскими либеральными идеологами. Еще в 1875 году К. Н. Леонтьев писал в своем трактате «Византизм и славянство»: «В нашей образованной публике распространены о Византии самые превратные, или, лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия… Византия представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым». Между тем, говорил далее Леонтьев, даже и малого, но действительного ознакомления с наследием империи «достаточно, чтобы убедиться, сколько в византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии»{10}. Как раз тогда, когда Леонтьев писал эти строки, достигли своей научной зрелости выдающиеся творцы русского византиноведения — академики В. Г. Васильевский (1838–1899), Ф. И. Успенский (1845–1928) и Н. П. Кондаков (1844–1925), труды которых подтверждали полную правоту Леонтьева. Но мало кто из российских идеологов изучил или хотя бы имел желание изучить эти труды. И слова «византизм» и «византийство» по-прежнему имели в их устах, по сути дела, «бранный» смысл… Но вот иной факт. 12 апреля 1918 года в петроградской эсеровской газете «Воля народа» было опубликовано стихотворение Анны Ахматовой, говорящее о трагическом крушении прежней России в таких словах: Когда в тоске самоубийства Это звучало явным диссонансом по отношению к «общепринятому» в интеллигентских кругах (кстати сказать, после 1918 года эти строки были снова опубликованы в России лишь в 1990 году); можно предположить, что уважение к «духу византийства» поэтесса восприняла от своего отца А. А. Горенко (1848–1915), действительного члена Русского собрания — православно-монархической (в бранном словоупотреблении — «черносотенной») организации, существовавшей с 1901-го до февраля 1917 года. Однако в наше время из журнала «Вопросы философии» читатели могут «узнать», что Ахматову и других давил-де «сталинский византизм» (1989, № 9, с. 78). Едва ли русская поэтесса согласилась бы с подобным употреблением этого термина, хотя она и сказала о «суровости» духа византийства. Дело в том, что действительно суровые проповеди св. Иоанна Кронштадтского и, скажем, «Злые заметки» Бухарина о Есенине или страницы доклада Жданова, «обличавшие» Ахматову, — это вещи не просто различные, но несовместимые. Нельзя исключить, что св. Иоанн Кронштадтский мог бы осудить те или иные мотивы ахматовской поэзии (как в свое время осудил — в стихотворной форме — пушкинское «Дар напрасный, дар случайный…» митрополит Московский Филарет), но это был бы суд не во имя интересов власти, а совсем иной, подобный тому суду, правомерность которого явно признавала в своем стихотворении 1913 года сама Ахматова: … И осуждающие взоры Россия, подобно Византии, сложилась и как евразийское, и как идеократическое государство. В евразийстве Руси-России нередко видят следствие ее долгого пребывания в составе Монгольской империи. Однако в действительности эта пора была закреплением и углублением уже давно присущего Руси качества. 862 годом (на самом деле событие, по-видимому, произошло несколько раньше) помечено в летописи известие о создании государственности Руси, и в этом акте, согласно летописи, вместе со славянами равноправно участвуют «уральские» (финноугорские) племена («Реша… — сообщает летопись — чудь, словене, и кривичи, и весь…»). В X веке в походах князя Игоря принимают участие и европейцы-скандинавы, и азиаты-печенеги, а среди высших лиц русского государства XI века представлены и те же скандинавы, и люди из различных тюркских и финноугорских племен и т. д. Да, еще задолго до монгольского нашествия существует и постоянно возрастает «азийский компонент» русской истории. Это, в частности, ясно выразилось в династических браках, имевших прямое и непосредственное государственное значение. Если сыновья Ярослава Мудрого обручаются с невестами из династий Запада (Франции, Германии, Дании, Норвегии и т. д.), а также Византии, то по меньшей мере трое из девяти сыновей Ярославова внука (и вместе с тем внука византийского императора Константина VIII) Владимира Мономаха породнились (в начале XII века) с восточными династиями — половецкими и ясской (осетинской), и с тех пор это стало на Руси прочной традицией. Правда, глубокий смысл заключен не в самих по себе подобных брачных союзах; они — только одно из наглядных проявлений русского «евразийства». Примитивно и в конечном счете просто ложно представление, согласно которому это евразийство толкуется прежде всего и главным образом как взаимодействие русского и, скажем, тюркских народов. Если сказать о сути дела со всей определенностью, русские — эти наследники византийских греков — как бы изначально, по самому своему определению были евразийским народом, способным вступить в органические взаимоотношения и с европейскими, и с азиатскими этносами, которые — если они действительно включались в магнитное поле Руси-России — и сами обретали евразийские черты. Между тем в случае их выхода из этого поля они опять должны были в конечном счете стать «чисто» европейскими или «чисто» азиатскими народами; русские же не могут не быть народом именно евразийским. Евразийская суть Руси ярко отразилась в летописном рассказе о том, как Владимир Святославич, не предрешая заранее итога, избирал одну веру из четырех — западного и византийского христианства и, с другой стороны, азиатских мусульманства и иудаизма (выбор — что было вполне закономерно — пал на религию «евразийской» Византии). Притом в данном случае не столь уж важно, имеем ли мы дело с легендой или же с сообщением о реально состоявшемся выборе; действительно существенно то, что летописец, воплощавший так или иначе в своем рассказе представления русских людей XI — начала XII в., не усматривал ничего противоестественного в подобном акте, явно подразумевающем, что западные и восточные религии равноправны (хотя избрание именно византийской веры было, повторяю, закономерным итогом). И если не забывать о верховном и всестороннем значении религии в бытии тогдашних обществ, станет ясно, что это восприятие верований Европы и Азии как равно достойных внимания имеет чрезвычайно существенный смысл: «евразийская» природа русского духа выступает тут с наибольшей несомненностью. Но не менее важно и характерно и другое: будучи воспринятым, христианство становится на Руси определяющим и всепроницающим стержнем бытия. Ведь невозможно, например, переоценить тот факт, что не позднее XIV века основная часть населения Руси обрела название — и самоназвание — крестьяне (вариант слова «христиане»). Более того, уже из памятника начала XII века явствует, что слово «христианин» («хръстиянинъ») имело, помимо обозначения принадлежности к определенной религии, смысл «житель Русской земли» (см. И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка, т. III, с. 1410). Естественно, и сам государственный строй Руси, подобно византийскому, представал как идеократический. Выше приводились иронические слова Гердера о Византии, где «вместо того, чтобы жить на земле, люди учились ходить по воздуху» и т. д. Следует всецело, безоговорочно признать эту «критику»: и в Византии, и, впоследствии, на Руси люди в самом деле не создали, да и никак не могли бы создать такое совершенное земное устройство, как на Западе. И русские идеологи, как уже отмечалось, остро, подчас даже мучительно осознавали «неблагоустроенность» (в самом широком смысле — от установлений государства до домашнего быта) России. Именно это осознание породило сыгравшее огромную роль крайне резкое «Философическое письмо» Чаадаева, опубликованное в 1836 году. Глубоко изучив западное бытие (он объехал в течение трех лет — в 1823–1826 годах — весь Запад от Англии до Италии), Чаадаев предпринял острейшее сопоставление двух цивилизаций, которое вызвало негодование людей «патриотического» склада и восхищение тех, кого несколько позднее назвали «западниками». Но обе реакции на чаадаевскую статью были, в сущности, всецело ложными. Возражая «патриотам», Чаадаев писал в следующем, 1837 году, что появившаяся годом ранее «статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением» — введением в большой труд, «который остался неоконченным… Без сомнения, была нетерпеливость в ее (статьи. — В.К.) выражениях, резкость в мыслях, но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не враждебно Отечеству»{11}. Однако это «пояснение» было опубликовано лишь в 1913 году (впрочем, и тогда почти никто в него не вдумывался), и «введение» явилось, по сути дела, единственным источником общепринятых представлений о чаадаевской историософии России… В результате многие «патриоты» проклинали и проклинают доныне этого гениального философского сподвижника Пушкина, а «антипатриоты», с точки зрения которых единственно возможный путь для России — превращение ее в страну западного типа (пусть даже «второсортную»), считают Чаадаева своим славнейшим предшественником. Между тем еще в 1835 году (то есть еще до опубликования «злополучной» — это определение самого мыслителя — «вводной» статьи) Чаадаев с полной определенностью писал (слова эти, увы, были опубликованы в России опять-таки только в 1913 году и также остаются неосмысленными): «… Мы не Запад… Россия… не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы… И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно такое представление лежит в основе заведомо утопического российского западничества! — В.К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. X., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов… Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед…» (т. 2, с. 96, 98). Позднее, в 1846 году, Чаадаев вновь обратился к этой историософской теме. И — как это ни неожиданно для всех, поверивших в «западничество» мыслителя! — сказал в письме к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру о засилье «чужеземных идей» как о тяжком препятствии, которое необходимо преодолеть для плодотворного развития России. Он констатировал: «Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне… является… существенной чертой нашего нрава, — и тут же призывал: «этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свойство… путем непредубежденного и искреннего уразумения нашей истории». И далее совсем уж парадоксальный с точки зрения «западников» ход рассуждения. Принято считать, что «традиционный» дефицит свободы слова в России мешал прежде всего воспринимать «прогрессивные» идеи Запада. Чаадаев же, сам испытавший тяжкое давление российского «деспотизма», писал о как раз прямо противоположном прискорбном результате: «Можно ли ожидать, что при таком… социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей (напомню: Чаадаев обращается к европейцу Сиркуру. — В.К.) культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек… Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь…» (т. 2, с. 188, 191, 192). Чаадаев глубоко сознавал, что Россия, в отличие от стран Запада, держава идеократическая («великий народ, — писал Чаадаев, — образовавшийся всецело под влиянием религии Христа»; что же касается номократии, то есть законовластия, Чаадаев недвусмысленно утверждал: «Идея законности, идея права для русского народа — бессмыслица», — притом последнее слово выделено им самим) и евразийская (чаадаевская мысль такова: «стихии азиатские и европейские переработаются в оригинальную Русскую цивилизацию»). Впрочем, историософское содержание сочинений Чаадаева очень богато и сложно; его анализу необходимо посвятить специальную статью. Здесь же я преследовал только одну цель: показать, насколько ложны господствующие представления об этом основоположнике новейшей (XIX–XX вв.) русской философской культуры. Нельзя, впрочем, не сказать еще о том, что Чаадаев — в отличие и от западников, и от славянофилов — стремился понять Россию не как нечто, говоря попросту, «худшее» или, напротив, «лучшее» по сравнению с Западом, но именно как самостоятельную цивилизацию, в которой есть и свое зло, и свое добро, своя ложь и своя истина. Он ни в коей мере не закрывал глаза на самые прискорбные «последствия» и российской идеократии, и российского евразийства, но он же написал в 1837 году: «…у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны… завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества» (т. 1, с. 534). Всего лишь через полвека наиболее проницательные западные наблюдатели, в сущности, именно так оценили великие свершения русской литературы (неразрывно связанные с наиболее глубокими исканиями русской мысли). И тут, вполне естественно, встает вопрос: если идеократическая и евразийская Россия была столь несовершенна в сравнении со странами Запада, каким образом она смогла создать духовные ценности всемирного значения? Ведь давно общепризнано, что величайшие эпохи в истории культуры — это классическая Греция, западноевропейское Возрождение и русский XIX век. В этом отношении весьма показателен трактат современного представителя еврейско-иудаистской историософии — американского раввина Макса Даймонта «Евреи, Бог и история» (1960). Россия вообще изображена здесь, надо прямо сказать, в крайне негативном свете. Хотя бы один характерный иронический тезис: «Пять Романовых правили Россией в 19 веке. Они ухитрились приостановить в России развитие просвещения и благополучно вернуть страну в лоно феодального деспотизма» и т. д. Именно поэтому, резюмирует Даймонд, «когда пять белых армий вторглись в советскую Россию, чтобы восстановить власть царя (едва ли цель белых армий была таковой. — В.К.), евреи вступили в Красную армию, созданную Львом Троцким». Однако в этом же трактате читаем: «За пять тысяч лет своего существования мировая литература знала всего четыре великие литературные эпохи. Первой была эпоха книг пророков в библейские дни (это вполне понятно, а далее — две эпохи, названные выше. — В.К.)… Наконец, четвертой была эпоха русского психологического (едва ли уместное «ограничение». — В.К.) романа 19 века. Всего за пятьдесят лет Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой создали одну из величайших литератур мира»{12} (и это — несмотря на приостановку «развития просвещения» и «феодальный деспотизм»…). Необходимо только уточнить, что для человека, действительно изучившего историю России и ее культуру, не подлежит никакому сомнению, что русская литература XIX столетия — естественный плод тысячелетнего развития, и ствол, на котором пышно разрослась в прошлом веке поразившая весь мир крона, существовал уже в X–XI веках, когда были созданы русский богатырский эпос, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Сказание о святых Борисе и Глебе». В этих творениях уже ясно воплотились те основные духовные начала, которые имели решающее значение для творчества Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого (а также, конечно, для философского творчества Чаадаева, Константина Леонтьева и других). Итак, принципиально «незападный» путь России не лишил ее возможности воздвигнуть одну из трех (или четырех) высочайших вершин литературы. Впрочем, прагматически мыслящие люди могут возразить, что литература — это все же «только» слово, а держава должна мериться и делом, или, говоря торжественнее, деяниями. Странно, но многие склонны — особенно в последние годы — забывать или, вернее, не помнить, что за тысячу двести лет существования Руси-России было три попытки трех народов — монголов, французов и немцев — завоевать и подчинить себе остальной мир, и — этого все же никак не оспорить — все три мощнейшие армады завоевателей были остановлены именно в России… На Западе — да и у нас (особенно сегодня) — есть, правда, охотники оспаривать эти факты: монголы, мол, сами вдруг решили не идти дальше Руси, французов погубили непривычные им северные морозы (хотя беспорядочное бегство наполеоновской армии началось сразу после ее поражения под Малоярославцем 14/26 октября, когда, как точно известно, температура не опускалась ниже 5 градусов тепла, и даже позднее, 1 ноября, Наполеон заметил: «Осень в России такая же, как в Фонтенбло»){13}, а немцы-де проиграли войну из-за налетов англо-американской авиации на их города… Но все это, конечно, несерьезно, хотя вместе с тем нельзя не сказать, что исход трагических эпопей XIII, начала XIX и середины XX в. не так легко понять, и то и дело заходит речь об иррациональном «русском чуде». В самом последнем своем стихотворении Пушкин так сказал о 1812 годе: …Русь обняла кичливого врага, Это вроде бы неуместное «обняла» еще более, пожалуй, подходит для характеристики отношений Руси к полчищам Батыя и его преемников. Все три беспримерные армады, стремившиеся завоевать мир (других в этом тысячелетии и не было), утратили свою мощь именно в «русских объятиях»… Естественно вспомнить и строки Александра Блока: …Хрустнет ваш скелет Итак, первостепенная, выдерживающая сравнение с чем угодно роль России во всемирно-историческом бытии и сознании выявляется с полной неопровержимостью на двух самых разных «полюсах» — от грандиозного деяния русского народного тела — конечно же, не бездуховного — до высочайшего духовного творчества в русском слове (многие плоды этого творчества давно нашли свое инобытие на всех языках мира), — хотя мировое значение России, разумеется, не исчерпывается этими двумя аспектами. Поэтому любая самая резкая «критика» (безусловно, имеющая свою обоснованность) идеократической и евразийской природы Руси-России никак не может поколебать высшего (сопоставимого, повторю, с чем угодно в мире) значения ее цивилизации и культуры. Правда, и «критика» России действительно имеет веские основания; это с очевидностью выявляется, например, в своего рода уникальной, беспрецедентной уязвимости русского государства. Так, в начале XVII и в начале XX века оно рушилось прямо-таки подобно карточному домику, — что было обусловлено, как явствует из непреложных фактов, именно его идеократичностью, а также его многоэтничным евразийством. В. В. Розанов констатировал в 1917 году с характерной своей «удалью» (речь шла о Февральском перевороте): «Русь слиняла в два дня. Самое большое — в три. Даже «Новое время» (эта «черносотенная» газета выходила до 26 октября. — В.К.) нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска… Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего»{14}. И тогда же Розанов вопрошал: «Как же это мы просмотрели всю Россию и развалили всю Россию, делая точь-в-точь с нею то же самое, что с нею сделали поляки когда-то в Смутное время, в 1613-й год!..» Василий Васильевич был не вполне точен, говоря о Смутном времени: поляки пришли в страну с уже рухнувшим государством. Но он всецело прав в своем беспощадном диагнозе: русская государственность во всех своих сторонах и гранях перестала существовать в 1917 году прямо-таки мгновенно, ибо для ее краха достаточно было решительно дискредитировать властвующую идею (те же «православие, самодержавие, народность»…). В начале XVII века властвующая идея как бы исчезла потому, что пресеклась — в силу поочередной смерти всех трех сыновей скончавшегося в 1584 году Ивана Грозного — воплощавшая ее в себе (для того времени это было своего рода необходимостью) династия Рюриковичей. Могут сказать, что пресечение династии «наложилось» на имевший место в стране глубокий социальный кризис. Однако подобные кризисы бывали ведь и в другие времена (и раньше, и позже), но наличие воплощающего (буквально — в своей «царственной плоти») идею Божьего помазанника препятствовало полному краху государства. Для понимания идеократической сущности России многое дает сопоставление судьбы большевиков и их противников, возглавивших Белую армию. Последние — при всех возможных оговорках — ставили своей задачей создать в России номократическое государство западного типа (характернейшей чертой программы Белой армии было так называемое «непредрешенство», подразумевающее не какую-либо государственную идею, а «законное» решение «законно» избранного Учредительного собрания). И это заранее обрекало на поражение врагов большевизма, для которого, напротив, власть — в полном соответствии с тысячелетней судьбой России (хотя большевики явно и не помышляли о таком соответствии) — была властью идеи (пусть и совершенно иной, чем ранее), идеократией. И в высшей степени закономерно, что дискредитация этой новой идеи к 1991 году опять-таки привела к мгновенному краху… Короче говоря, идеократическое государство — заведомо «рискованная» вещь. И это так или иначе выявляется вовсе не только в периоды острейших кризисов. Все помнят и часто твердят тютчевскую строку: «В Россию можно только верить». Строка эта нередко воспринимается как некая сугубо «оригинальная» постановка вопроса. Но, между прочим, на Западе почти в одно время с появлением тютчевского стихотворения было опубликовано следующее многозначительное рассуждение: Россия «является единственным в истории примером огромной империи, само могущество которой, даже после достижения мировых успехов, всегда скорее принималось на веру (выделено мною. — В.К.), чем признавалось фактом. С начала XVIII столетия и до наших дней (писано в 1857 году. — В.К.) ни один из авторов, собирался ли он превозносить или хулить Россию, не считал возможным обойтись без того, чтобы сначала доказать само ее существование»{15}. Это рассуждение принадлежит Карлу Марксу, но следует иметь в виду, что в своем отношении к России он предстает чаще всего, в сущности, не как марксист, а как западный идеолог вообще, — весьма проницательный, но характерно тенденциозный (Маркс, например, говорит там же, что «чарам, исходящим от России, сопутствует скептическое отношение к ней, которое… издевается над самим ее величием как над театральной позой, принятой, чтобы поразить и обмануть зрителей», о принципиальном «актерстве» русских рассуждал еще до Маркса известный маркиз де Кюстин). Утверждение, согласно которому Россия не «факт», а только объект «веры», может показаться чисто риторическим вывертом (ведь перед нами как-никак шестая часть планеты, миллионы людей и т. п.!). И все же в этом есть глубокая правда, ибо при крахе идеи мгновенно как бы превращаются в ничто вся мощь и все богатство громадной страны и, помимо прочего, распадается на куски ее евразийская многоэтничность… И ощущение, что Россия держится на идее, порождает то ее переживание, которое схвачено знаменитой тютчевской строкой. Едва ли можно усомниться в том, что именно идеократическая и евразийская суть России определяла ее беспрецедентные крахи и падения; однако не стоит сомневаться и в том, что именно эта суть выражалась в ее великих победах и взлетах, в ее, по словам отнюдь не благоволившего к России Маркса, «мировых успехах». Маркс, между прочим, более всего нападал на Россию, даже прямо проклинал ее за ее взаимоотношения с монголами — взаимоотношения, которые, согласно его — в общем верной — мысли, именно и определили ее очередной «подъем» в XV веке. К этой теме мы теперь и переходим. >Монголы и Русь Здесь перед нами до сего дня и в очень многом загадочная эпоха русской истории. Монгольская армада нанесла первое поражение Руси в 1223 году, а в 1237–1240 годах прошла по почти всей ее территории огнем и мечом. И около четверти тысячелетия Русь являлась монгольским улусом, только в 1480 году Иван III отверг свое подчинение ее повелителям. Но, как верно констатировал тот же Карл Маркс, «изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита»{16}. Не правда ли, по меньшей мере странный итог двух с половиной столетий «монгольского ига», о которых и западные, и вторившие им русские историки повествовали как о времени полнейшего упадка Руси? Разбираясь в существе дела, пришлось бы, между прочим, повторить многое из того, что сказано в начале этой статьи о восприятии Византийской империи в допетровской Руси и, с другой стороны, в России XIX–XX веков, на историческое сознание которой оказывала сильнейшее воздействие западная идеология. Гегель в своей «Философии истории» сказал о монголах (имея в виду, как он пояснил, и другие «кочевые» азиатские народы), что они-де живут, в сущности, бессодержательной «патриархальной жизнью», но «часто они собираются большими массами и благодаря какому-нибудь импульсу приходят в движение. Прежде мирно настроенные, они внезапно, как опустошительный поток, нападают на культурные страны, и вызываемый ими переворот не приводит ни к каким иным результатам, кроме разорения и опустошения. Такие движения народов происходили под предводительством Чингиз-хана и Тамерлана: они все растаптывали, а затем опять исчезали, как сбегает опустошительный лесной поток, так как в нем нет подлинного жизненного начала»{17}. Подобное представление о монголах, несмотря на все возможные оговорки и уточнения, присуще Западу и доныне. Так, через столетие после Гегеля Арнольд Тойнби писал, что «евразийские кочевники» — и в том числе монголы — являлись-де «не хозяевами, а рабами степи… Время от времени они покидали свои земли и врывались во владения соседних оседлых цивилизаций. Однако кочевник выходил из степи и опустошал сады цивилизованного общества не потому, что он решил изменить маршрут своего привычного годового климатико-вегетационного перемещения… Это происходило под воздействием внешних сил, которым кочевник подчинялся механически. Кочевника выталкивало из степи резкое изменение климата, либо его засасывал внешний вакуум, который образовывался в смежной области местного оседлого общества… Таким образом, несмотря на нерегулярные набеги на оседлые цивилизации, временно включающие кочевников в поле исторических событий, общество кочевников является обществом, у которого нет истории (выделено мною. — В.К.). Судьба империй, основанных номадическими (то есть кочевническими. — В.К.) завоевателями, покорившими оседлые народы, заставляет вспомнить притчу о семени, которое «упало на места каменистые… и, как не имело корня, засохло» (Матф. 13, 5–6)»{18}. Внешнее «наукообразие» смягчает характеристику Тойнби, но по своей сути она вполне совпадает с гегелевской, которая, собственно говоря, отказывала Монгольской империи в самом праве на существование. Имеет смысл тут же привести суждения выдающегося азиатского идеолога — Дж. Неру, который в одно время с Тойнби писал в своем сочинении «Взгляд на всемирную историю» (1930–1933 гг.): «Монголы были кочевниками… Многие думают, что, поскольку они были кочевниками, они должны были быть варварами. Но это ошибочное представление… у них был развитый собственный уклад жизни, и они обладали сложной организацией… Чингис, без сомнения, был величайшим военным гением и вождем в истории. Александр Македонский и Цезарь кажутся незначительными в сравнении с ним… Он был в высшей степени способным организатором и достаточно мудрым человеком… Его империя, возникшая так быстро, не распалась с его смертью… Его изображают крайне жестоким человеком. Он, без сомнения, и был жесток, но он не слишком отличался от многих других властителей того времени… Когда умер Чингисхан, Великим ханом стал его сын Угедей (при нем его племянник Батый и покорил Русь. — В.К.)… он был гуманным и миролюбивым человеком… Спокойствие и порядок установились на всем огромном протяжении монгольской империи… Европа и Азия вступили в более тесный контакт друг с другом…»{19} (это можно определить и как создание евразийской империи). Конечно, не исключено возражение, что «азиат» Неру слишком благосклонно оценил империю, созданную азиатом, и следует внести в его рассуждение определенные коррективы. Но вот что наиболее существенно: западные идеологи, как правило, применяют откровенный — даже, прошу извинения за резкость, наглый — двойной счет в отношении западных и, с другой стороны, восточных империй. Приведу только один, но выразительнейший образчик такого двойного счета. Дискредитируя Монгольскую империю, которая-де занималась только тем, что «опустошала» цивилизованные общества, Тойнби в то же время поет дифирамбы западным империям. Он пишет, например, о деятельности короля, а затем императора франков Карла Великого и его преемников, которые совершали дранг нах Остен, жесточайшим образом покоряя земли саксов, вендов (венедов), пруссов и т. п.: «Восемнадцать саксонских кампаний Карла могут сравниться лишь с военными успехами Тамерлана (выделено мною. — В.К.). За военными и политическими достижениями Карла последовали первые слабые проявления интеллектуальной энергии западного мира… Оттон уничтожил вендов… как Карл Великий уничтожил своих собственных саксонских предков… И только обитатели континентального побережья Балтийского моря оставались непокорными. На этом участке саксонский форпост призван был продолжить борьбу Отгона против вендов, которые в упорных сражениях продержались два столетия… Окончательная победа была достигнута… уничтожением непокорных в Бранденбурге и Мейсене… Города Ганзы и походы тевтонских рыцарей обеспечили продвижение границы западного христианства от линии Одера до линии Двины… к концу XIV в. континентальные европейские варвары… исчезли с лица земли»{20}. С явным торжеством перечисляя факты уничтожения племен, не желавших добровольно стать частью Западной империи, Тойнби по-своему прямо-таки замечательно говорит, что только Тамерлан достиг таких же «успехов», как Карл Великий! Впрочем, если учесть, что «уничтожение», начатое этим Карлом, длилось, по сообщению самого Тойнби, с конца VIII до конца XIV века (шестьсот лет!), западноевропейская империя далеко превзошла и Чингисхана, и Тамерлана со всеми их преемниками… Но вернемся к «двойному счету». Западная империя — это прекрасно, а восточные-де не только чудовищны, но и вообще не имеют права на существование (они ведь только «опустошение»). Таков приговор западноевропейской идеологии, которая, увы, во многом определяла и определяет русскую идеологию XIX–XX веков. Наиболее известный современный английский историк России Джон Феннел писал в своей книге «Кризис средневековой Руси» (1983), что, мол, «находиться в вассальной зависимости» от Монгольской империи «было позорно и бессмысленно»{21}. Совершенно иначе оценивают западные историки вассальную зависимость тех или иных народов от империй Карла Великого или Карла V (XVI век); эта зависимость, по их убеждению, вводила каждый покоряемый народ в истинную цивилизацию. К сожалению, многие русские историки и идеологи утверждают подобно Феннелу, что зависимость от Монгольской империи — это только «позор» и «бессмыслица». Воздействию западной идеологии в этом отношении не подчинялись лишь подлинно глубокие и самостоятельные люди, — такие, как уже не раз упомянутый Чаадаев, который писал в 1843 году, что «продолжительное владычество татар (вернее, монголов. — В.К.) — это величайшей важности событие… как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того, чтобы разрушить народность, оно только помогло ей развиться и созреть… оно сделало возможными и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание» (т. 2, с. 161). В XX веке чаадаевская постановка вопроса была развита и обоснована «евразийцами», показавшими, что Монгольская империя явилась окончательным утверждением Евразии как таковой — Евразии, основой которой позднее, после упадка империи, стало Московское царство, чьи границы уже во второй четверти XVII века достигли Тихого океана (как ранее — границы Монгольской империи). Но в этой статье речь идет не об историософском наследии евразийцев (его освоением и так заняты сейчас многие и многие авторы), но о реальном историческом «наследстве» самой Монгольской (как и Византийской) империи. При достаточно углубленном изучении русских исторических источников XIII–XVII столетий неопровержимо выясняется, что выразившиеся в них восприятие и оценка Монгольской (как и Византийской) империи решительно отличается от того восприятия и той оценки, которые господствуют в русской историографии и идеологии XIX–XX веков. Мне могут напомнить, что в русском фольклоре — от исторических песен до пословиц — имеет место весьма или даже крайне негативное отношение к «татарам». Однако не столь уж трудно доказать, что здесь перед нами отражение намного более поздней исторической реальности; дело идет в данном случае о татарах Крымского ханства, об их, по существу, разбойничьем образе жизни: опираясь на мощную поддержку Турецкой империи, они с середины XVI до конца XVIII века совершали постоянные грабительские набеги на русские земли и, в частности, увели сотни тысяч русских людей в рабство. Принципиально по-иному (чем позднейшее Крымское ханство) воспринимали и оценивали на Руси Монгольскую империю и ее — в русском словоупотреблении — царей. Обратимся хотя бы к сочинениям одного из виднейших церковных деятелей и писателей XIII века, архимандрита прославленного Киево-Печерского монастыря, а затем епископа Владимирского Серапиона. Он ни в коей мере не закрывал глаза на страшные бедствия монгольского нашествия, пережитого им вместе со всеми в юности. Около 1275 года он в высоком риторическом слоге вопрошал: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взята ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощены быхом оставшеи горькою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лет приближает томление и мука…» Но вот что Серапион писал о монголах, нелицеприятно сопоставляя их со своими одноплеменниками. Хотя они, писал он, «погании (то есть язычники. — В.К.) бо Закона Божия не ведуще, не убивают единоверних своих, ни ограбляют, ни обадят, ни поклеплют (оба слова означают «клеветать», «оговаривать». — В.К.), ни украдут, не запряться (зарятся) чужого; всяк поганый своего брата не продаст; но кого в них постигнет беда, то искупят его и на промысл дадут ему… а мы творимся, вернии, во имя Божие крещени есмы и заповеди его слышаще, всегда неправды есмы исполнени и зависти, немилосердья; братью свою ограбляем, убиваем, в погань продаем; обадами, завистью, аще бы можно, снеди (съели. — В.К.) друг друга, но вся Бог боронит…» Явное утверждение нравственного превосходства монголов (даже несмотря на их язычество) — не некий странный, «исключительный» образ мысли; напротив, перед нами типичная для той эпохи русская оценка создателей Монгольской империи. И вассальная зависимость Руси от этой империи отнюдь не рассматривалась как нечто заведомо «позорное и бессмысленное» (точно так же на Западе никто не считал «позором и бессмыслицей» зависимость тех или иных народов от Священной Римской империи германской нации, в рамках которой развивалась западная цивилизация). И потому, в частности, нет ничего неожиданного в том, что наивысшим признанием пользовались на Руси те «руководители» XIII–XIV веков, которые всецело «покорялись» вассалитету — св. Александр Невский, Иван Калита, свв. митрополиты Петр и Алексий и т. п. (историки начали «критиковать» их за «покорство» монголам лишь в XIX веке). Тут, конечно, встает вопрос о времени конца XIV века, о Дмитрии Донском, святых Сергии Радонежском и митрополите Киприане, решившихся на Куликовскую битву. Однако существо этого события начало действительно открываться нам лишь в самое последнее время. Александр Блок, создавший замечательный поэтический цикл «На поле Куликовом», отнес битву 1380 года к таинственным «символическим» событиям и прозорливо сказал о таких событиях: «Разгадка их еще впереди». Куликовская битва, свершившаяся почти через полтора века после монгольского нашествия и за сто лет до конца «монгольского ига», требует отдельного и тщательного рассмотрения. Но один аспект дела уместно затронуть и здесь. Всем известно, что преп. Сергий Радонежский благословил св. Дмитрия Донского на бой и победу, сказав ему (как сообщено в житии этого величайшего русского святого): «Пойди противу безбожных, и Богу помогающи ти, победиши…» Однако в древних рукописях жития преп. Сергия сохранился и совершенно иной ответ святого на просьбу великого князя Дмитрия о благословлении на битву с Мамаем: «… пошлина (то есть давно установленный порядок. — В.К.) твоя держит (препятствует. — В.К.), покорятися ордынскому царю должно»{22}. Существует точка зрения, согласно которой этот ответ преп. Сергий дал не в 1380 году, но ранее, в 1378-м — перед битвой (11 августа) на реке Боже (недалеко от старой Рязани) с войском Бегича. Но так или иначе едва ли есть основания сомневаться, что преп. Сергий не предлагал идти на битву с «царем», то есть с повелителем Монгольской империи. В том тексте жития, где рассказано о безоговорочном благословлении святого, Мамай назван не «царем», но «князем». И для того времени это было исключительно существенным различием. «Великий князь» (а он назывался именно так) Дмитрий вышел на бой не с царем, а, собственно говоря, с самозванцем, который был заклятым врагом и самой Монгольской империи. Как сообщается в наиболее подробных летописях (см., напр., ПСРЛ, т. XV, вып. 1), сразу после победы над Мамаем, «на ту же осень (то есть 1380 года. — В.К.) князь великий отпустил в Орду своих киличеев (послов. — В.К.) Толбугу да Мокшея к новому царю (имеется в виду недавно воцарившийся Тохтамыш. — В.К.) с дары и поминки» (стб. 142). Сообщает летопись и о том, что в конце 1380-го или начале 1381 года «царь Тохтамыш победи Мамая» — то есть окончательно добил его, — и «послы своя отпусти к князю Дмитрию и ко всем князьям русским, поведая… како супротивника своего и их врага Мамая победи… Князи же русстии послов его (царя. — В.К.) отпустиша в Орду с честию и с дары, а сами на зиму ту и на весну (1381 года. — В.К.), за ними, отпустиша своих киличеев с многыми дары ко царю Токтамышю» (стб. 141). Итак, Дмитрий Донской сообщил монгольскому царю о своей победе на Куликовом поле как о заслуге и перед ним, царем, затем царь известил князя Руси об осуществленном им окончательном разгроме Мамая, и, наконец, Русь поблагодарила царя за эту его победу. Об этих существеннейших фактах историки, как правило, полностью умалчивают, ибо они никоим образом не вписываются в предлагаемую ими картину взаимоотношений Руси и Монгольской империи. Ведь из приведенных сообщений, в достоверности которых у нас нет никаких оснований усомниться, ясно, что Дмитрий Донской сражался на Куликовом поле отнюдь не против Монгольской империи, и преп. Сергий Радонежский благословил его на эту битву, надо думать, лишь тогда, когда стало очевидно, что Мамай — враг и Руси, и всей империи. Конечно, все это нуждается в подробном и масштабном анализе и осмыслении; в частности, как непонятное — без специального исследования — противоречие предстает последующий набег царя Тохтамыша на Москву (23 августа 1382 года). Но во всяком случае едва ли можно утверждать (хотя это постоянно делается), что Куликовская битва являла собой выступление Руси против Монгольской империи. Не менее важно правильно понять само окончание вассалитета Руси по отношению к империи. Здесь опять-таки дело вовсе не сводилось к борьбе: в XV веке Москва, выражаясь вполне точно, переняла эстафету власти над Евразией у ослабевшей и распадающейся империи и постепенно присоединяла к себе ее «куски» — Казанское, Астраханское, Сибирское ханства. Только ханство Крымское, ставшее, по сути дела, частью Турецкой империи, сохранялось вплоть до конца XVIII века. О том, что события XV–XVI веков являли собой не столько войну с остатками Монгольской империи, сколько именно переход власти в руки Москвы, убедительно писали историки-евразийцы, прежде всего Г. В. Вернадский (речь идет здесь не об его идеях, а об освоенных им исторических фактах). В своем «Начертании русской истории» (1927) он показал, в частности, как целый ряд знатнейших потомков Чингисхана — таких, как Шах-Али (Шигалей), Саин-Булат (Симеон Бекбулатович), Симеон Касаевич, — добровольно перешли на службу московского царя и обрели здесь самое высокое признание. Так, Шах-Али являлся главнокомандующим русским войском в Ливонской и Литовской войнах 1550–1560-х годов, а крестившийся Саин-Булат (Симеон) был даже провозглашен в 1573 году «великим князем Всея Руси» и после кончины царя Федора Иоанновича (1598 г.) считался одним из главных претендентов на русский престол. Нельзя не сказать еще, что переход в Москву тех или иных людей из монгольских верхов начался раньше и даже намного раньше того 1480 года, когда Иван III отверг вассалитет. Уже в XIII веке племянник Батыя принял христианство с именем Петра и стал так верно служить Руси, что был причислен к лику святых (преп. Петр, царевич Ордынский; его потомком, между прочим, был величайший иконописец эпохи Ивана III Дионисий). Одним из приближенных Дмитрия Донского был царевич-чингизид Черкиз; его сын Андрей Черкизов командовал одним из шести русских полков, пришедших на Куликово поле. Когда в 1476 году — то есть еще до «свержения ига» — итальянский дипломат Амброджо Контарини приехал в Москву, он столкнулся с парадоксальной, но вполне типичной для Руси того времени ситуацией. Великий князь Иван III, сообщал Контарини (надо думать, не без удивления), имеет «обычай ежегодно посещать… одного татарина (по-видимому, речь шла о хане Касимовском. — В.К.), который на княжеское жалованье держал пятьсот всадников… они стоят на границах с владениями татар, дабы те не причиняли вреда стране великого князя»{23}. Нельзя не коснуться в связи с этим акта присоединения к России Казанского ханства, ибо его смысл явно неосновательно толкуется и русскими историками (точнее, большинством из них), в глазах которых взаимоотношения Руси и Монгольской империи (и ее остатков) предстают как непримиримая война, и некоторыми (к счастью, далеко не всеми) историками Татарстана, усматривающими во взятии русскими войсками Казани акт порабощения и даже чуть ли не геноцида своего дотоле свободного народа. Казань (точнее, «Старая Казань»), по-видимому, еще в конце XII века стала столицей существовавшего с X века государства волжско-камских булгар. Но вскоре Булгария (почти в одно время с Русью) была завоевана Батыем и до тридцатых годов XV века являлась, по сути дела, таким же вассалом Монгольской империи, как и Русь; булгарские князья, подобно русским, платили дань и исполняли вассальные обязанности. Но к середине XV века, после фактического распада государства монголов, бывший его царь Уду-Мухаммед, изгнанный соперниками из Сарая и затем из Крыма и оставшийся, таким образом, без владения, захватил Казань, убил ее булгарского владетеля Али-Бека (иначе — Алибея) и сел на его место (согласно другой, менее достоверной, версии, это сделал сын Уду-Мухаммеда, Махмутек). Есть, между прочим, достаточные основания полагать, что вначале Уду-Мухаммед имел намерение «сесть» подобным же образом не в Казани, а в Москве, но, по-видимому, счел этот план нереальным. В дальнейшем Казанское ханство существовало — наряду с Крымским, Астраханским, Сибирским — как своего рода осколок империи; ханства уже никак не могли объединиться, подчас активно соперничали, но нередко — в трудные моменты так или иначе поддерживали друг друга. В частности, после смерти в 1518 году правнука Уду-Мухаммеда, не оставившего сыновей, из Крыма в Казань был прислан с войском и свитой младший брат тамошнего хана, Сагиб-Гирей; особенно знаменательно, что позднее он вернулся в Крым, а в Казань прислал оттуда своего племянника Сафа-Гирея, правившего до своей кончины в 1549 году — за три года до взятия Казани русским войском. Двухлетний сын Сафа-Гирея, Утемыш-Гирей, естественно, не мог править, и помощь Казанскому ханству на этот раз пришла уже не из Крыма, а из Астрахани. В начале 1552 года в Казань явился царевич Едигер — сын хана Астраханского правнук Ахмата (который пытался в 1480 году заставить подчиниться ему Ивана III). Он пришел, сообщает составленный вскоре после событий их непосредственным очевидцем «Казанский летописец», и «с ним прийде в Казань 10 000 варвар (то есть нехристиан. — В.К.), кочевных самоволных, гуляющих в поле». Цифру эту, могущую показаться произвольной, подтверждает другой очевидец — князь Курбский в своем рассказе о взятии Казани (в его сочинении 1573 года «История о великом князе Московском»), сообщая, что во время последней решающей схватки хана Едигера окружали именно 10 000 отборных воинов. Из этого, естественно, следует вывод, что битва за Казань шла — хотя бы прежде всего, главным образом — не между русскими и коренным населением ханства, а между боевыми силами чингизида Едигера, которые он привел из Астрахани, и московским войском. При любых возможных оговорках все же никак нельзя считать правление Едигера и его воинов воплощением национальной государственности народа, жившего вокруг Казани, — хотя это и делают некоторые татарские историки. Итак, судьба Москвы и Казани со времен монгольского нашествия и до 1430–1440-х годов была аналогичной: правившие в этих городах князья являлись вассалами монгольского хана — «царя». Но с момента захвата Казани Уду-Мухаммедом, убившим принадлежавшего к коренному населению князя Алибея, положение стало принципиально иным: представим себе, что чингизид Уду-Мухаммед смог захватить не Казань, а Москву, убить княжившего тогда Василия II (отца Ивана III) и править в Москве вместе со своим войском и свитой… Поэтому, повторяю, по меньшей мере некорректно усматривать во взятии Казани московским войском в 1552 году подавление национальной государственности. Впрочем, и вопрос о борьбе Москвы с чингизидами и их войсками, основу которых составляли люди, называвшиеся к тому времени «татарами», не так прост, как чаще всего думают. Дело в том, что московское войско, пришедшее в Казань, включало в себя больше татар, нежели войско Едигера. Неверное представление о всей исторической ситуации эпохи заставляет закрыть глаза даже на предельно выразительные факты. Уже упомянутый «Казанский летописец» рассказывает о том, как царь Иван Васильевич (Грозный) по пути на Казань, в Муроме, «благоразумно… учиняет началники воев»: «В преднем же полку началных воевод устави над своею силою: татарского крымского царевича Тактамыша и царевича шибанского Кудаита… В правой руце началных воевод устави: касимовского царя Шигалея… В левой же руце началные воеводы: астороханский царевич Кайбула… В сторожевом же полце началныя воеводы: царевич Дербыш-Алей». К этому необходимо добавить, что ранее в «Летописце» сообщено следующее: «прийде в Муром град царь Шигалей ис предела своего, ис Касимова, с ним же силы его варвар 30 000; и два царевичя Астраханской Орды… Кайбула именем, другой же — Дербыш-Алей… дающиеся волею своею в послужение царю великому князю, а с ними татар их дватцать тысяш»{24}. Разумеется, основу войска составляли русские (я опустил в цитатах имена русских воевод), но летописец на первые места везде ставил чингизидов, — хотя бы потому, что русские военачальники никак не могли сравниться с чингизидами с точки зрения знатности. Как же все это понять? При верном общем представлении о том, что совершалось в XV–XVI веках, здесь нет никаких загадок. Власть на тех территориях, которые принадлежали Монгольской империи, переходила в руки Москвы, поскольку — в силу многих причин — чингизиды уже не могли удержать эту власть. Наиболее дальновидные чингизиды постепенно переходили на московскую службу, получая очень высокое положение в русском государстве и обществе. Конечно, это был не простой процесс. Так, тот самый астраханский царевич Едигер, который в 1552 году стал ханом Казанским, десятью годами ранее прибыл в Москву, а в 1547-м во время неудачного похода на Казань был одним из русских «началных воевод». Но чаша весов еще, казалось, колеблется, и через пять лет Едигер, став ханом Казанским, отвергал все предложения подчиниться Москве. Впрочем, оказавшись в плену, он через какое-то время принял Крещение с именем Симеона Касаевича (сын Касима), сохранил титул «царь Казанский» и занял высшее положение при Московском дворе и государстве в целом (так, в летописных описаниях церемоний царь Казанский Симеон стоит на втором месте после Ивана Грозного). Ярко раскрывается судьба «монгольского наследства» и в участи потомков всем известного сибирского хана Кучума. Сибирь дольше других областей (исключая занятый турками Крым) переходила под руку Москвы. Только в январе 1555 года тогдашний хан Сибири Едигер (тезка хана Казанского) признал себя вассалом московского царя. Однако в 1563-м потомок старшего сына Чингисхана Джучи (старшим сыном этого Джучи был, кстати сказать, и сам Батый) хан Кучум разгромил и убил Едигера и вскоре порвал отношения с Москвой. В 1582 году он потерпел поражение от Ермака, а в 1585-м, напротив, Ермак погиб в бою с Кучумом, который до 1598 года продолжал отстаивать свою власть над Сибирью. Впрочем, широко распространенное представление о Кучуме как бы исчерпывается словами явно не очень осведомленного в сибирских делах Кондратия Рылеева: «Кучум, презренный царь Сибири…» Итак, потомок Чингисхана Кучум не пожелал подчиниться московскому царю. Тем не менее его сыновья Алей (который, кстати сказать, долго воевал против Москвы вместе с отцом), Абулхаир, Алтапай, Кумыш сохранили титулы «царевичи Сибирские» и пользовались на Руси самым высоким почетом. Сын Алея, Алп-Арслан в 1614–1627 годах был правителем относительно автономного Касимовского ханства. А сын последнего, Сеид-Бурхан, принял христианство с именем «Василий, царевич Сибирский» и выдал свою дочь (то есть праправнучку Кучума) царевну Сибирскую Евдокию Васильевну ни много ни мало за брата русской царицы (супруги Алексея Михайловича и матери Петра I), Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Другой праправнук Кучума (правнук его сына Кумыша), также названный Василием (по-видимому, царевичи Сибирские уже знали, что по-гречески «Василий» означает «царь»), стал близким сподвижником русского царевича — сына Петра I, злополучного наследника престола Алексея. Из-за этого пострадали все царевичи (вместе с ними, конечно, подверглось гонениям немало и русских людей из окружения царевича Алексея): с 1718 года им было повелено считаться отныне только князьями Сибирскими. Тем не менее внук опального царевича Василия, князь Василий Федорович Сибирский, живший уже во второй половине XVIII — начале XIX века, стал генералом от инфантерии (чингизидская военная косточка!) и сенатором при Александре I; он едва ли мог без возмущения воспринимать рылеевскую балладу… Этот генеалогический экскурс, как мне представляется, небезынтересен и сам по себе, но важнее всего осознать, что ложные и в конечном счете внушенные западной идеологией понятия о роли Монгольской империи и ее наследства в России как бы вычеркивают подобные факты из нашего внимания. А между тем факты такого рода поистине неисчислимы, и они ясно говорят о том, что господствующие представления об отношениях Руси и Монгольской империи (и ее наследии) совершенно не соответствуют исторической реальности. Как уже сказано, восприятие Русью монгольского наследства окончательно сделало ее евразийской державой и, в частности, исключало какое-либо «высокомерие» русского национального сознания в отношении азиатских народов. В связи с этим стоит привести два очень весомых высказывания крупнейших политических деятелей Запада. Один из них — князь Отто фон Бисмарк (1815–1898), посланник Пруссии в Петербурге, затем прусский министр-президент и министр иностранных дел и, наконец, канцлер Германии. Он со знанием дела писал: «Англичане ведут себя в Азии менее цивилизованно, чем русские; они слишком презрительно относятся к коренному населению и держатся на расстоянии от него… Русские же, напротив, привлекают к себе народы, которые они включают в свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними»{25}. Характерно, что это подтвердил позднее и виднейший английский политик, лорд Джордж Керзон (1859–1925), вице-король Индии, а затем министр иностранных дел Великобритании: «Россия, — писал он, — бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами… Я вспоминаю церемонию встречи царя (Николая II. — В.К.) в Баку, на которой присутствовали четыре хана из Мерва в русской военной форме. Это всего лишь случайная иллюстрация последовательно проводимой Россией линии… Англичане никогда не были способны так использовать своих недавних врагов»{26}. В этих, можно сказать, «завистливых» высказываниях крупнейших политиков Запада существенны не только верные наблюдения, но и — в равной мере — довольно грубые неточности. Во-первых, и Бисмарк, и Керзон едва ли правильно характеризуют поведение русских в Азии только как выражение осознанной политической линии; евразийство России — органическое качество, естественно сложившееся в течение тысячелетия (хотя, конечно, имела место и политическая стратегия и тактика). Далее, ошибочно бисмарковское положение о большей, в сравнению с англичанами, «цивилизованности» поведения русских в Азии; речь должна идти не о количественной мере цивилизованности, но о качественно иной цивилизации. И уж совсем ложны слова Керзона о том, что русские не уклоняются от общения с «низшими расами»: в русской ментальности (какие-либо «исключения» здесь только подтверждают правило) просто нет самого этого — сложившегося на Западе — представления о «низших» (и «высших») расах и т. д. Нельзя не предвидеть, впрочем, что все сказанное мной о евразийском «составе» России может вызвать резкое возражение такого характера: к чему все эти благодушные рассуждения, если Россия была и остается «тюрьмой народов»?… «Формула» эта восходит, как полагают, еще к книге маркиза де Кюстина{27}, — то есть опять-таки к западной идеологии, но она давно стала обязательной и в устах всех туземных «критиков» Российского государства. Необходимым исходным пунктом данной формулы является (хотя это не очень уж осознается) тот факт, что основные страны современного Запада, в отличие от России, предстают в качестве мононациональных. Вот, мол, французы, англичане, немцы создали свои государства на своих же территориях, не захватывая земель, принадлежавших иным народам, а русские, не ограничиваясь «собственными» землями, поработили множество других народов и племен… Между тем это сопоставление стран Запада и России, вне которого и не могла бы возникнуть формула «тюрьма народов», основано на поистине странной слепоте или, скажем так, забывчивости. Ибо не надо быть специалистом в области этнографии, дабы знать, что в силу уникально благоприятных для жизни людей географических условий (гораздо более благоприятных, чем российские) Западная Европа с давних времен влекла к себе массу различных племен, и к тому историческому моменту, когда французы, англичане и немцы начали создавать свои государства, на землях, где воздвигались эти государства, жило великое множество различных этносов — кельтских, иллирийских, балтских, славянских и т. д. Их имелось не меньше (если не больше), чем на территории России. Однако в течение веков они были стерты с лица земли посредством самого жесткого давления со стороны трех господствующих этносов или даже прямого физического уничтожения, — о чем, кстати, не без более чем сомнительного воодушевления сообщается в приводившихся выше высказываниях Арнольда Тойнби… Не секрет, что преобладающая часть всей топонимики (названий местностей, рек, гор, даже городов и селений и т. д.) Франции, Великобритании и Германии не является французской, английской и немецкой. Более того, даже общее название «Великобритания» происходит от кельтского народа бриттов (а не германского — англов); точно так же самая обширная часть Германии — Пруссия — это территория стертого с лица земли наиболее значительного и культурного балтского народа — пруссов. И, между прочим, нет никакого сомнения, что если бы немцы в давние времена смогли надолго подчинить себе и земли восточнее Немана, то и от других балтских этносов — литовцев и латышей — уцелели бы в лучшем случае только названия (стоит в связи с этим подумать о судьбе данных народов в составе России…). Невозможно излагать здесь всю этническую историю стран Запада, но для уяснения проблемы достаточно в самых общих чертах сравнить ее с этнической историей России — той России, даже в центральной части которой на протяжении веков жили, росли и крепли вроде бы совсем «чужие» русским народы — башкиры, коми, марийцы, мордва, татары, удмурты, чуваши и т. д., а на окраинах столетиями сохранялись даже и самые малочисленные этносы в несколько тысяч или даже в несколько сот (!) человек. На Западе же многие десятки народов либо вообще исчезали, либо превратились к нашему времени в своего рода этнические реликты (как шотландцы, валлийцы, бретонцы, гасконцы, лужичане и т. п.). Ныне всего только два народа, живущие на территориях крупных западноевропейских стран, продолжают отстаивать себя как еще живые силы — ирландцы (в британском Ольстере) и баски (в Испании и Франции). Много лет они ведут кровавую войну за элементарную национальную автономию… И если уж называть Россию «тюрьмой народов», то, в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны Запада не иначе как «кладбищами народов», а потом уж решать, что «лучше» — тюрьма или кладбища… Во всяком случае, совершенно неосновательна «критика» России, продиктованная, в сущности, самим тем фактом, что в ее пределах (в отличие от основных стран Запада) жило и живет сегодня множество различных народов; при всех возможных оговорках этот факт должен бы вызывать восхищение, а не поношение… На этом я завершаю свое — конечно же, ни в коей мере не исчерпывающее проблему, — размышление, хотя вполне естественно встает вопрос: как же понимать в свете идеократической и евразийской природы России все то, что происходит с нашей страной в наше время? Но не надо, полагаю, доказывать и то, что эта тема нуждается в специальном развернутом осмыслении… >ПРИМЕЧАНИЯ >К главе первой «Кто такие «черносотенцы»? id="c1_1">1) Ключевский В. О. Сочинения в восьми томах. М., 1959, т. VI, с. 157, 159, 165. id="c1_2">2) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 9. id="c1_3">3) Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 18. id="c1_4">4) Степанов С. А., указ. соч., с. 226. id="c1_5">5) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М., Л., 1963, т. 7, с. 14. id="c1_6">6) Звенья. Исторический альманах. Выпуск 2. М. — СПб., 1992, с. 342. id="c1_7">7) Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 15, 16. id="c1_8">8) Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1973, с. 69. id="c1_9">9) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 230. id="c1_10">10) Гиппиус Зинаида. Живые лица. Воспоминания. Тб., 1991, с. 26, 28. id="c1_11">11) Интеллигенция в России. Сборник статей. СПб., 1910, с. 130, 113, 171, 191. id="c1_12">12) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 302, 300. id="c1_13">13) Цит. по кн.: Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 182. id="c1_14">14) Булгаков С. цит. изд., с. 310, 300, 302, 313. id="c1_15">15) Булгаков Сергей, прот. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991, с. 121, 137. id="c1_16">16) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. Очерки и публицистика. М., 1991, с. 58, 49. id="c1_17">17) Бердяев H. Л. Новое средневековье. М., 1991, с. 46. id="c1_18">18) См.: «Наш современник», 1990, № 10, с. 112. id="c1_19">19) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 183. id="c1_20">20) Нестеров М. В. Письма. Избранное. М., 1988, с. 198. id="c1_21">21) Никонова И. Михаил Васильевич Нестеров. М., 1962, с. 101. id="c1_22">22) Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 92. id="c1_23">23) Михаил Васильевич Нестеров. 1862–1942. М., 1990, с. 92. id="c1_24">24) Франк С. Л. Сочинения. М., 1990, с. 154. id="c1_25">25) Столпнер Б. Г. (1871–1967) — лектор и переводчик в области философии, с 1920 г. — профессор. id="c1_26">26) Розанов В. В. Мимолетное, 1915. См.: «Начала», 1992, № 3, с. 21. >К главе второй «Что такое Революция?» id="c2_1">1) Розанов В. В. Из воспоминаний и мыслей об А. С. Суворине. М., 1992, с. 18. id="c2_2">2) Тэри Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор. Paris, 1986, с. 1. id="c2_3">3) Назаров А. И. Книга в советском обществе. М., 1964, с. 28. id="c2_4">4) «Вопросы философии», 1990, № 8, с. 133, 134–135, 136. id="c2_5">5) Федотов Г. П. Империя и свобода. Нью-Йорк, 1989, с. 99–100. id="c2_6">6) Там же, с. 91. id="c2_7">7) Бердяев H. Душа России. М., 1990, с. 12, 14. id="c2_8">8) Токвиль. Старый порядок и Революция. М., 1905, с. 196–197. id="c2_9">9) См.: Миронов Б. H. История в цифрах. Л., 1992, с. 136. id="c2_10">10) Там же, с. 82, 83. id="c2_11">11) «Вопросы истории», 1992, № 2–3, с. 82. id="c2_12">12) Родионов И. А. Два доклада. СПб., 1912, с. 79, 77, 71. id="c2_13">13) Цит. по кн.: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. Мюнхен, 1949, т. II, с. 256, 257. id="c2_14">14) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. М., 1990, с. 40. id="c2_15">15) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. М., 1988, с. 30. id="c2_16">16) Деникин А. И. Поход на Москву. М., 1989, с. 75, 76. id="c2_17">17) Разгром Колчака. Воспоминания. М., 1969, с. 242. >К главе третьей «Неправедный суд» id="c3_1">1) Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991, с. 270. id="c3_2">2) Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977, с. 280. id="c3_3">3) Булгаков С. Н., цит. изд., с. 28. id="c3_4">4) Палеолог Морис. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 265, 291. id="c3_5">5) Цит. по кн.: Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 334. id="c3_6">6) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914). М., 1992, с. 91. id="c3_7">7) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 172. id="c3_8">8) Журн. «Родина», 1992, № 2, с. 20. id="c3_9">9) Обнинский В. П. Новый строй. М., 1909, с. 18. id="c3_10">10) Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991, с. 281–283. id="c3_11">11) «Исторические записки». М., 1971, т. 91, с. 269–270. id="c3_12">12) Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…» СПб., 1992, с. 234. id="c3_13">13) Герасимов А. В. На лезвии с террористами. М., 1991, с. 150. Эти воспоминания известны С. А. Степанову только по цитатам в других работах (ср. с. 92 и 118 его книги). id="c3_14">14) Шульгин В. В. цит. соч., с. 235. id="c3_15">15) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 325. id="c3_16">16) Цит. по кн.: Яковлев Н. 1 августа 1914. М., 1974, с. 141. id="c3_17">17) Милюков П. Н. цит. соч., с. 445. id="c3_18">18) Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920). М., 1982, с. ПО, 114, 117. Историк, правда, назвала здесь великого герцога Гессенского и Рейнского «принцем». id="c3_19">19) Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е издание, т. 34, с. 348. id="c3_20">20) «Вопросы истории», 1991, № 7–8, с. 154. id="c3_21">21) Цит. по кн.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985, с. 136. id="c3_22">22) Цит. по кн.: Шульгин В. Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной Думы. М., 1979, с. 267. id="c3_23">23) Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993, с. 335–336. id="c3_24">24) Аврех А. цит. соч., с. 134–135. id="c3_25">25) Булгаков С. Н. цит. соч., с. 300, 308. (Выделено мною. — В.К.) id="c3_26">26) Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989, с.153. id="c3_27">27) Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной Думы. М., 1932, с. 284. >К главе четвертой «Правда о погромах» id="c4_1">1) Inquisition and Society in Early Modern Europe. London, 1987, p. 10–25. id="c4_2">2) Гессен Ю. История еврейского народа в России. Москва-Иерусалим, 1993, с. 217–218; Он же. Погромы в России. ЕЭ, т. 12, с. 612 и след. id="c4_3">3) См.: Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. II. Восьмидесятые годы. Прг. —М., 1923, с. 529–542. id="c4_4">4) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I. Прг., 1919, с. 135–137. id="c4_5">5) «Литературная учеба», 1992, № 1–3, с. 114–115. id="c4_6">6) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. 1,с. 354–355. id="c4_7">7) Сироткин В. Так кто же раскручивает «кровавую карусель»? В кн.: Резник С Кровавая карусель. М., 1991, с. 209, 214. (Курсив мой. — В.К.) id="c4_8">8) Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 68. id="c4_9">9) Малая Советская Энциклопедия. М., 1931, т. 6, с. 627–628. id="c4_10">10) Еврейская Энциклопедия, т. 12, с. 618, 622; в последней цитируемой фразе я опустил упоминание о том, что погром произошел в 1906 году еще и в Гомеле — притом здесь же дана такая отсылка: «см. Гомельский процесс, Евр. Энц., т. 6, с. 666–667». По-видимому, слово «Гомель» вставил не автор статьи — весьма точный человек, — а какой-нибудь редактор, не обративший внимание на тот факт, что в 1906 году завершился судебный процесс по делу о гомельском погроме, а сам-то погром состоялся еще в 1903 году (см. указанную статью в 6-м томе ЕЭ). id="c4_11">11) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 8. id="c4_12">12) Левицкий В. Правые партии. В кн.: Общественное движение в России в начале XX века. СПб., 1914, т. III, кн. 5, с. 392. id="c4_13">13) Материалы для истории антиеврейских погромов в России, т. I, с. XII. id="c4_14">14) Малая Советская Энциклопедия, т. 6, с. 628. id="c4_15">15) Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX в. — 1920 г.). М., 1977, с. 92, 171. id="c4_16">16) «Родина», 1992, № 2, с. 19. id="c4_17">17) Laqueur Walter. Stalin. The Glasnost Revelations. N.Y., 1990, p. 247. id="c4_18">18) Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 120. id="c4_19">19) Государственная Дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сессия IV. СПб., 1911, ч. III, стб. 3146. id="c4_20">20) Цит. по кн.: Кузьмичев А., Петров Р. Русские миллионщики. Семейные хроники. М., 1993, с. 108. >К главе пятой «Истинная причина травли «черносотенцев» id="c5_1">1) Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History. Cambridge University Press, 1992. id="c5_2">2) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 2, с. 232. id="c5_3">3) Там же, с. 233. (Курсив мой. — В.К.) id="c5_4">4) «Родина», 1994, № 1, с. 25. id="c5_5">5) Цит. по кн.: Марков Н. Е. Войны темных сил. М., 1993, с. 147. id="c5_6">6) См.: Минувшее. Исторический альманах, 14. М. — СПб., 1993, с. 145–225. id="c5_7">7) См.: Лакер Уолтер. Россия и Германия. Наставники Гитлера. Вашингтон, 1991, с. 146. id="c5_8">8) «Наш современник», 1991, № 9, с. 90, 93. id="c5_9">9) Жаботинский Владимир (Зеев). Избранное. Иерусалим-Санкт-Петербург, 1992, с. 74–75. id="c5_10">10) «Исторический архив», 1993, № 4, с. 220. id="c5_11">11) «Российский архив», IV. М., 1993, с. 6. id="c5_12">12) Обнинский В. Новый строй. М., 1909, с. 271. id="c5_13">13) Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991, с. 237. id="c5_14">14) Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992, Т. 2, с. 43. id="c5_15">15) Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981, с. 227. id="c5_16">16) Виктор Михайлович Васнецов. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. М., 1987, с. 213. id="c5_17">17) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 147. id="c5_18">18) Цит. по кн.: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992, с. 104. id="c5_19">19) Русские писатели… Т. 2, с. 44. id="c5_20">20) Цит. по кн.: Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978, с. 132. id="c5_21">21) Цит. по журн.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 152. id="c5_22">22) Аврех А. Я. П. А. Столыпин…, с. 226–227. id="c5_23">23) Жаботинский., цит. соч., с. 72, 73. id="c5_24">24) См.: «Вестник Еврейского университета в Москве», 1993, № 4, с. 151. id="c5_25">25) Жаботинский, цит. соч., с. 122. id="c5_26">26) Сироткин В. Г. Вехи отечественной истории. М., 1991, с. 52. id="c5_27">27) Карсавин Л. П. Россия и евреи. В кн.: Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX века. СПб, 1993, с. 407. В 1928 году статья впервые опубликована в эмигрантском журнале «Версты», одним из редакторов которого был муж М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрон. id="c5_28">28) Шафаревин И. Р. Сочинения. В трех томах. М., 1994, т. 2, с. 142–143, 158. id="c5_29">29) Нежный Александр. Комиссар дьявола. М., 1993, с. 7. id="c5_30">30) Марков Н. Е., цит. соч., с. 121. id="c5_31">31) Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 61. id="c5_32">32) Альбац Евгения. Мина замедленного действия. (Политический портрет КГБ). М., 1992, с. 129–130. id="c5_33">33) Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав. М., 1992, с. 162, 204. id="c5_34">34) Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Л., 1983, т. 25, с. 86. (Выделено автором.) id="c5_35">35) «Вестник Еврейского университета в Москве», 1994, № 1, с. 42. id="c5_36">36) СССР в цифрах. М., 1935, с. 273. id="c5_37">37) Бела Моте. Мир Жаботинского. Иерусалим — Москва, 1992, с. 153. id="c5_38">38) См., напр.: «Наш современник», № 6 за 1990 г. и № 9 за 1991 г. и мою книгу «Судьба России: вчера, сегодня, завтра» (М., 1990, с. 221–246). >К глава шестой «Что же в действительности произошло в 1917 году?» id="c6_1">1) Войсковые комитеты действующей армии. Март 1917 г. — март 1918 г. М., 1981, с. 18. id="c6_2">2) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 207. id="c6_3">3) Цит по кн.: Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980, с. 69. id="c6_4">4) Деникин А. И. Очерки русской смуты. «Вопросы истории», 1990, № 8, с. 78. id="c6_5">5) Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1990, т. 1, с. 53. id="c6_6">6) Блок Александр. Собрание сочинений в восьми томах. М.-Л., 1963, т. 8, с. 498. id="c6_7">7) Блок Александр. Записные книжки 1901–1920. М., 1965, с. 379, 380. id="c6_8">8) См.: Бонч-Бруевич Вл. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине. Журн. «Звезда», 1930, с. 182–183 (перепечатано в кн.: «За кулисами видимой власти». М., 1984, с. 94–96); Яковлев H. 1 августа 1914. М., 1974; Старцев В. И. Революция и власть. М., 1978; Он же. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980; За кулисами видимой власти. М., 1984; Старцев В. И. Российские масоны XX века. «Вопросы истории», 1989, № 6; Русское политическое масонство. 1906–1918 гг. (Документы из архива Гуверовского института войны, революции и мира). «История СССР», 1989, № 6 и 1990, № 1; Замойский Лоллий. За фасадом масонского храма. Взгляд на проблему. М., 1990; Старцев Виталий. Что могут масоны. Газ. «Экономика сегодня и завтра». М., 1992, № 1, 1993, № 1. Определенные итоги изучения масонства подведены в издании: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; здесь освещена масонская принадлежность многих главных «героев Февраля». Основная эмигрантская и иностранная литература о российском масонстве XX века указана в статье В. И. Старцева в журн. «Вопросы истории», 1989, № 6 (см. сноски к с. 34–38). id="c6_9">9) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 94, 96. id="c6_10">10) Так, виднейшие русские историки В. О. Ключевский и, вслед за ним, С. Ф. Платонов убедительно объяснили явление пугачевщины указами Петра III и Екатерины II о «вольности дворянской», которые расшатали наиболее широкую опору власти и, с другой стороны, породили «законное» стремление к вольности в крестьянстве. id="c6_11">11) В ноябре 1824 года Пушкин писал своему брату Льву из Михайловского: «…пришли мне… Жизнь Емельки Пугачева» (Пушкин А. С. Письма. М.-Л., 1926, т. 1, с. 96); имелась в виду единственная тогда книга о Пугачеве (переведенная с немецкого), которую, впрочем, Пушкин позднее назвал «глупым романом». id="c6_12">12) «Вопросы истории», 1990, № 9, с. 103–104. id="c6_13">13) Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983, с. 233. id="c6_14">14) Цит. по журн.: «Согласие», 1993, № 2, с. 213–214. id="c6_15">15) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 421–422. id="c6_16">16) Бунин И. А. Собрание сочинений. Берлин, 1935, т. X, с. 165. id="c6_17">17) Блок Александр. Собрание сочинений. Т. 7, с. 330. id="c6_18">18) Блок Александр. Записные книжки… с. 394. id="c6_19">19) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991, с. 102. id="c6_20">20) Станкевич В. Б. Революция. В кн.: Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 года. М., 1991, с. 239. id="c6_21">21) Бернштам Михаил. Стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. М., 1992, с. 21. id="c6_22">22) Бернштам Михаил., цит. соч., с. 41; Спирин Л. М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.). М., 1968, с. 180. id="c6_23">23) Иллерицкая Е. В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России. М., 1981, с. 119. id="c6_24">24) Минувшее. Исторический альманах. I. М., 1990, с. 309. id="c6_25">25) Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993, с. 307, 308, 309. id="c6_26">26) Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М. — СПб., 1992, с. 354. id="c6_27">27) Цит. по кн.: Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. Свердловск, 1991, с. 90. id="c6_28">28) Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. Л., 1927, с. 163. id="c6_29">29) Дневники императора Николая II. М., 1991, с. 625. id="c6_30">30) Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986, с. 36–39, 58–60. id="c6_31">31) «История СССР», 1990, № 1, с. 153. id="c6_32">32) Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. М., 1990, с. 92. id="c6_33">33) Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991, с. 213. Необходимо отметить, что и самого великого князя Александра Михайловича Н. Н. Берберова причислила к масонству; в действительности же он участвовал в своего рода придворной игре — «Ложе филалетов», в которую, как сообщала сама Н. Н. Берберова, «принимали всех, кто хотел» (с. 23). Никакого отношения к политике эта «ложа» не имела и не могла иметь. id="c6_34">34) Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания Председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства. М., 1993, с. 9. id="c6_35">35) «Военно-исторический журнал», 1967, № 5, с. 113. id="c6_36">36) Командующий Балтийским флотом адмирал А. И. Непенин считал себя продолжателем дела декабристов и готовился к перевороту; по известной логике «за что боролись…» он был уже 4 марта 1917 года убит взбунтовавшимися матросами… id="c6_37">37) Старцев В. Я. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977, с. 248. id="c6_38">38) Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959, с. 118, 169, 233–234. id="c6_39">39) Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1933, с. 166. id="c6_40">40) Белая Россия. Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937 г. Репринт — СПб., 1991, с. 123, 11, 17, 60. id="c6_41">41) Назаров М. Миссия русской эмиграции. Ставрополь, 1992, с. 40. id="c6_42">42) «Вопросы истории», 1993, № 10, с. 113–114. id="c6_43">43) Леховин Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992, с. 22. id="c6_44">44) Цит. по кн.: Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983, с. 16. id="c6_45">45) См.: Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак. «Вопросы истории», 1991, № 1, с. 61. id="c6_46">46) Гуль Р. Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Будберг А. Дневник. М., 1990, с. 252. id="c6_47">47) Цит. по кн.: Думова H. Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.). М., 1982, с. 337. id="c6_48">48) Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. М., 1993, с. 54. id="c6_49">49) Поскольку в 1918–1922 годах не велась статистика новорожденных, невозможно достоверно выяснить количество умерших детей. id="c6_50">50) Кожинов Вадим. Жертвы насилия. Истинные наши потери с 1917 по 1941 год. «Москва», 1994, № 6, с. 126–129. id="c6_51">51) Малая Советская Энциклопедия. М., 1929, т. 1, с. 703. id="c6_52">52) Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… Об антисемитизме в России. СПб., 1992, с. 123. id="c6_53">53) Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг. М., 1988, с. 196. id="c6_54">54) Источник. Документы русской истории. Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». М., 1993, № 2, с. 27. id="c6_55">55) Цит. изд., 1993, № 3, с. 13. id="c6_56">56) См.: Кавтарадзе А. Г., цит. соч., с. 174. id="c6_57">57) Великий князь Александр Михайлович, цит. соч., с. 256–257. id="c6_58">58) Как пишет, основываясь на многолетнем исследовании проблемы, В. И. Старцев, в масонство — разумеется, еще до 1917 года — входили только «двое большевиков — вероятно, в качестве наблюдателей. Это были С. П. Середа из Рязани и И. И. Скворцов-Степанов из Москвы» («Экономика сегодня и завтра», 1993, № 1, с. 28). После же Октября никаких реальных контактов большевиков и масонов не обнаруживается. id="c6_59">59) Слащов-Крымский Я. А. Белый Крым 1920 г. Мемуары и документы (с предисловием А. Г. Кавтарадзе). М., 1990, с. 146, 147. id="c6_60">60) Деникин А. И. Поход на Москву…, с. 48. id="c6_61">61) Цит. по кн.: История советской литературы. Новый взгляд. М., 1990, ч. 2, с. 28. id="c6_62">62) Лакер Уолтер. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994, с. 64. id="c6_63">63) См. библиографию в журн.: «Вопросы истории», 1989, № 6, с. 35–38. id="c6_64">64) Аврех А. Я. Масонство и революция. М., 1990, с. 18. >Примечания к историософскому приложению: О визаитийском и монгольском «наследствах» в судьбе России id="c7_1">1) Тихомиров М. И. Русская культура X–XVIII вв. М., 1968, с. 131. id="c7_2">2) Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980, с. 250–252. id="c7_3">3) Из произведений патриарха Фотия. — В кн.: Материалы по истории СССР. Вып. 1. М., 1985, с. 267–270. id="c7_4">4) Гегель. Сочинения. М., 1935, т. VIII, с. 323, 318 (далее — по этому же изданию). id="c7_5">5) Гердер Иоганн Готфрид. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, с. 499 (далее — по этому же изданию). id="c7_6">6) Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 1991, с. 317 (далее — по этому же изданию). id="c7_7">7) Цит. изд., с. 499. id="c7_8">8) Петрарка Франческо. Лирика. Автобиографическая проза. М., 1989, с. 322. id="c7_9">9) Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности. «Новый мир», 1988, № 7, с. 214. id="c7_10">10) Леонтьев Константин. Записки отшельника. М., 1992, с. 29, 32, 33. id="c7_11">11) Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991, т. 1, с. 533 (далее — по этому же изданию). id="c7_12">12) Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994, с. 392, 398, 443. id="c7_13">13) Коленкур Арманд. Поход Наполеона в Россию. М., 1943, с. 220. id="c7_14">14) Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990, с. 579. id="c7_15">15) Маркс Карл. Разоблачение дипломатической истории XVIII века. «Вопросы истории», 1989, № 4, с. 3. id="c7_16">16) Там же. id="c7_17">17) Гегель, цит. изд., с. 85. id="c7_18">18) Там же, с. 110. id="c7_19">19) Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1975, т. 1, с. 314. id="c7_20">20) Тойнби, цит. изд., с. 250. id="c7_21">21) Феннел Джон. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М, 1989, с. 213. id="c7_22">22) Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М, 1892 с. 137. id="c7_23">23) Барбаро и Контарини о России. Л., 1971, с. 226. id="c7_24">24) Казанская история. В кн.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М, 1985, с. 462. Эти сведения из «Казанской истории» или, иначе, «Казанского летописца», кажутся некоторым исследователям недостоверными, ибо господствует мнение о непримиримой борьбе Руси с остатками Монгольской империи. Так, комментаторы новейшего издания «Казанского летописца» Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева утверждают, что упомянутые царевичи-чингизиды «на самом деле в походе на Казань не участвовали». Они не отрицают, что чингизид Шигалей (Шах-Али) принимал участие в походе, ибо об этом сообщают многие источники. Но об остальных чингизидах сведения есть только в наиболее обстоятельном «Казанском летописце», и потому комментаторы подвергают их сомнению. Между тем этот летописец создавался вскоре после событий (в 1564–1565 гг.), когда большинство участников похода еще были живы, и неосновательно предполагать, что в рассказ о Казанском походе 1552 года вошли заведомо ложные сведения о целом ряде всем известных людей. Такое случалось только в произведениях, создававшихся намного позже описываемых событий. Словом, сомнение комментаторов продиктовано, очевидно, неверным представлением о характере взаимоотношений Руси и сходившей с исторической сцены монгольской власти над Евразией. id="c7_25">25) «Вопросы истории», 1994, № 1, с. 182 (перевод видного историка В. Н. Виноградова). id="c7_26">26) Цит. по кн.: Нестеров Ф. Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., 1980, с. 107–108. id="c7_27">27) 27. См.: Ашукин Н. С.,Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1966, с. 676–677. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
