|
||||
|
|
Антропоморфные обезьяны и низшие типы человечества Д. Н. Анучин
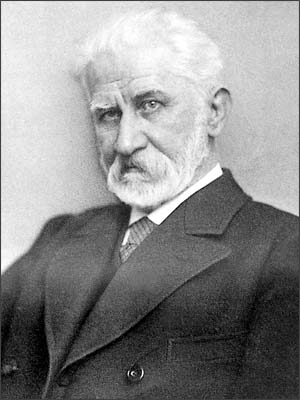 «В начале вещей, — так рассказывают Оранг-Бирма (одно первобытное Малайское племя, живущее на полуострове Малакке), — в горных лесах Офира жили две белые обезьяны — «ункапуте». Весело резвясь на ветвях деревьев, они вели мирную и невинную жизнь, были соединены между собой тесной, взаимной любовью и окружены многочисленным потомством. Когда последнее подросло и пища стала становиться скудной, родоначальники обезьян собрали своих детей и, показав с вершины горы широкие равнины, расстилающиеся у ее подошвы, предложили им спуститься вниз и населить землю. Напутствуемые пожеланиями своих родителей, обезьянки спустились в открытую, солнечную равнину, где всё казалось им красивее и лучше, чем в сырых, болотистых лесах их гористой родины. Принужденные довольствоваться прежде жесткими, деревянистыми плодами, скудными кореньями и ягодами, они увидели себя вдруг окруженными бесчисленным множеством самых сочных и питательных фруктов. Такая перемена пищи не замедлила скоро оказать свое действие. Рост обезьянок стал увеличиваться, они начали заметно поправляться и хорошеть. Скоро они открыли хлебные злаки, которые оказали на них такое влияние, что внутренности их стали изменяться, а затем — прочие органы и кожа. Волосы на их теле стали выпадать, руки — понемногу укорачиваться и, в одно прекрасное утро, маленькие обезьянки проснулись настоящими людьми. Сочная и питательная пища имела, однако же, и другие следствия. Добродушная природа обезьян подверглась при этом коренному преобразованию. Пробудились страсти, возникли споры, вражда, и облагороженные из обезьян люди, наверно, все перебили бы друг друга, если бы не явились на кораблях иноземцы и не водворили бы порядка и законности». Приведенное предание, как бы ни напоминало оно в своей оригинальной, детски-наивной форме некоторые новейшие научные теории, далеко не представляет еще собой совершенно исключительного этнографического факта. С большими или меньшими вариациями, оно встречается у самых разнородных народов в Африке, у южно-американских Индейцев, в Средней Азии и проч. Так мы встречаем его в Тибете, где одна буддийская легенда (индийского происхождения) рассказывает, что первоначальные обитатели страны произошли от пары обезьян, именно самца Брагсринпо, в которого превратился тибетский святой Авалокитесвара или Дьян-рей-юг и самки Брагсринмо, форму которой приняла одна из богинь или фей воздуха — Кадрома. От этой пары произошли три сына и три дочери — родоначальники тибетского народа. Один святой отшельник, живший на горе Падала, научил их возделыванию растений, которое, изменив совершенно первоначальный род пищи, оказало на них такое влияние, что хвосты у них мало-помалу исчезли, волосы понемногу вылезли, они получили дар слова, превратились в людей и стали одеваться древесными листьями. Мало-помалу потомство их размножилось и образовало несколько отдельных племен, находившихся еще долго в полудиком состоянии, покуда не явился к ним один индийский князь из рода Сакия и не соединил отдельные племена в одно самостоятельное государство. Вообще можно сказать, что мысль о возможности близкого родства или взаимного перехода между человеком и обезьянами пользуется довольно значительным распространением, как между полудикими народами (преимущественно тропических стран), так и между культурными — с той только разницей, что в последнем случае такое обезьянье происхождение приписывается обыкновенно или более грубым племенам (как напр. индусами — тибетцам), или же только отдельным (иногда даже аристократическим) фамилиям. Так в Индии есть поверье, что княжеская фамилия города Парбандера произошла от обезьяны Ганумана, от которой ей достался в наследство и хвост, существовавший у первых членов этой фамилии. Диодор рассказывает также об одной княжеской фамилии в Африке, что хвост, как естественный придаток тела, передавался из рода в род, в ряду многих поколений. Заметим при этом, что предание о первоначальной хвостатости людей пользуется вообще широким распространением, так как мы встречаем его в Южной Америке, на островах Фиджи, у Тасманийцев и др. народов. По мнению некоторых южно-американских племен, эта потеря людьми свойственного им некогда хвоста имела даже скорее вредное, чем полезное влияние. Именно она сделала людей раздражительными и злыми, так как с потерей его, стало уже труднее отгонять от себя докучливых комаров и москитов, укусы которых могут, как известно, раздражить человека до бешенства. Напротив того, по мнению Тасманийцев, обладание хвостом составляло для первоначальных людей большое несчастье, для избавления от которого потребовалось даже вмешательство особого сверхъестественного посланца, освободившего их от этого придатка помощью ампутации. В большинстве случаев впрочем, особенно при достижении известной степени культуры, возможность близкого родства с обезьянами допускается, как мы сказали, только относительно таких племен, которые и физически и духовно стоят на относительно низшей ступени развития, чем их окружающие. Часто эти низшие племена даже смешиваются в понятиях с обезьянами, до такой степени, что иногда настоящие обезьяны принимаются за людей и, обратно, настоящие люди описываются как обезьяны. Еще чаще при этом допускается возможность обратного, так сказать, регрессивного метаморфоза, т. е. превращения людей в обезьян. Примеров всех таких и подобных им представлений можно отыскать довольно много у самых различных народов. Так, в Индии название «народа обезьян» придается еще до настоящего времени некоторым первобытным племенам страны, живущим в горных и лесистых местностях индостанского полуострова (так называемым hill and wood tribes). С другой стороны, известно, что санскритские легенды об обезьянах, сражавшихся в армии Ганумана, относятся собственно к людям, именно к первобытным племенам Индии, оттесненным впоследствии в горы и леса Дравидами и Арийцами. Наоборот, многие племена Негров, Малайцев и южно-американских Индейцев полагают, что обезьяны, в особенности высшие, суть настоящие люди, которые, если не говорят, то только из опасения, чтоб их не лишили свободы и не заставили работать. По мнению же других, они были некогда людьми, но потом потеряли свой человеческий образ — за свое кощунство над богами, как полагают некоторые малайские племена относительно орангутанга, или за свою гордость и высокомерие, как думают Арабы Кордофана относительно мартышек. Подобные же поверья о превращении людей в обезьян встречаются также в Мексике, где легенды Толтеков упоминают о таком превращении под конец так называемого «воздушного века», — у Мусульман, одна легенда которых рассказывает, что такой же участи подверглись жители одного Иудейского города, за несоблюдение субботы, — у Кафров, которые верят, что одно из их племен было превращено некогда в павианов и т. д. Некоторые племена негров верят, что обезьяны имеют такую же душу как и человек, другие же полагают, что в них переходят души людей (всех, или только привилегированных особ, или, наконец, только грешников) после смерти, — поверье, существующее также и в Южной Америке у бразильского племени Бугров (Тупи). Отсюда недалек уже переход к признанию в обезьянах чего-то демонического, сверхъестественного, что выразилось как в суеверном почитании их многими племенами негров, называющими их «слугами фетишей», так и в особенности, в тех размерах, которые получил культ обезьян в религиях Египта, Индии, Вавилона, Карфагенской Африки, Перу и пр., и некоторые следы которого, в форме суеверных предрассудков, замечаются даже у древних Греков и Римлян. Возвращаясь к смешению понятий об обезьянах с понятиями о людях, встречающемуся довольно часто в народных воззрениях, заметим, что наглядным примером могут служить иногда в этом случае самые языки некоторых народов. Так, например, малайское название оранг-утан, бразильское Cauiari, сиамское — Кхон-па и др., означающие «лесной человек», прилагаются большей частью безразлично, как для обозначения обезьян, так и живущих в тех же местностях первобытных народцев. Следы такого смешения понятий, такого qui pro quo, замечаются иногда даже у цивилизованных народов, стоящих на относительно довольно высокой ступени цивилизации. Так в одном старом португальском манускрипте, где описываются Индейские племена Бразилии, говорится между прочим, что к востоку от Юруэны живет племя Cuatas, весьма замечательное тем, что принадлежащие к нему Индейцы ходят обыкновенно на четвереньках, отличаются малым ростом и изобилием волос на теле, спят прямо на земле или на деревьях, не знают ни орудий, ни жилищ, ни земледелия и питаются только плодами, дикими кореньями и рыбой. Автор манускрипта по-видимому и не подозревал, что описываемые им Куаты вовсе не люди, а обезьяны, носящие у новейших зоологов видовое название Ateles paniscus. В другой пример можно привести одного тибетского (Буддийского) писателя, который, описывая распространение религии Будды, рассказывает между прочим, что когда религия эта распространилась уже по всему Индостану и соседним с ним странам, глава буддийской церкви, не видя более людей, которых бы можно было обращать, решился просветить один большой вид обезьян, называемых «якча» или «ракча». Предприятие это было поручено известному духовному лицу, почитаемому воплощением одного буддийского святого. Муж этот вполне удовлетворительно исполнил данное ему поручение и обратил к новой религии великое множество обезьян. Замечательно, что существует одна подобная же христианская, именно коптская легенда, где рассказывается об обращении одного павиана — «человека из племени Циноцефалов, с собачьей головой». Смешение павианов с людьми встречается впрочем, у многих писателей, как древних, так и средних веков. Так Плиний описывает семь различных видов обезьян в Эфиопии и рядом — один народ Цинамолгов, с собачьими головами. Элиан говорит об Индийском народе Кинокефалах, которые имеют собачью голову, но в остальном похожи на людей и одеваются в звериные шкуры: они отличаются справедливостью и не причиняют вреда людям, дара слова не имеют, но ревут, могут, прочем, понимать язык Индусов. Живут они охотой, скоры на ногах и приготовляют себе добычу не на огне (которого не знают), а разрывая на куски и высушивая на солнце; они разводят коз и овец и питаются их молоком. Мнение, что Циноцефалы составляют особую породу людей существовало еще, по-видимому, в девятом столетии по Р. Х., так как от этого времени сохранилось письмо некоего Бертрама к священнику Римберту, в котором подробно разбирается вопрос, произошли ли Циноцефалы от Адама, или они имеют животную душу; Бертрам склоняется в пользу последнего мнения. Наконец, как пример обратного смешения, можно привести одного старинного путешественника по Лапландии, который, заканчивая свое описание Лопарей, говорит: «Вот верное описание этого маленького существа, называемого Лапландцем; можно сказать утвердительно, что после обезьяны, он из всех животных стоит всего ближе к человеку». Любопытно, что один (анонимный) писатель конца XVII столетия, делая попытку разделить человечество на отдельные виды, выражается о лопарях немногим лучше, хотя уже признает их людьми: «Лопари, — говорит он, — могут составить четвертый вид людей. Это маленькие, короткие создания с толстыми ногами, широкими плечами, короткой шеей и необыкновенно вытянутым лицом, весьма некрасивые и очень напоминающие медведя. Я видел только двух из них, в Данциге; но, судя по тем рисункам, которые я имел в руках и по рассказам лиц, хорошо их знающих, это должно быть прежалкие животные». Допуская во многих случаях близкое родство и возможность взаимного перехода между человеком и обезьянами, народная фантазия не останавливается, впрочем, только на этих, наиболее сходных по своему внешнему виду, животных. За отсутствием обезьян, она с одинаковой уверенностью готова вести человеческое происхождение от собаки, волка, бобра, медведя, слона, крокодила, черепахи, змеи, даже улитки, муравья, червей и проч. Так у Алеутов (по Сарычеву) существовало предание, что первые люди обязаны были своим происхождением одной собаке, которая упала с неба на остров Умяк, и родила двух детенышей, одного мужского, другого женского пола, похожих на людей, но еще с собачьими лапами; эти два выродка и положили начало человеческому роду. По другому преданию Алеутов, (приведенному Вениаминовым), — первые люди произошли от каких-то двух существ, видом похожих на человека, но с длиной шерстью на теле, — что-то вроде обезьян или медведя. Различные племена северо-американских Индейцев производили себя каждое от отдельного животного, кто от бобра, кто от ворона, от волка, журавля, рыбы, черепахи и т. д.; каждое такое животное считалось родоначальником племени, его имя и изображение составляли так называемый Тотем — племенной знак или герб племени. От слона производило себя племя Бари в северо-восточной Африке; от крокодила — южно-африканское племя Бакуэна, от червей — жители островов Мореплавателей, от муравьев — некоторые племена Антильских островов и т. д. Современный человек с трудом может даже представить себе, каким образом люди могли дойти до таких странных понятий; они должны казаться ему просто нелепыми и смешными, не имеющими никакого смысла и значения. Однако же возможность их происхождения становится несколько более понятной, как скоро мы бросим беглый взгляд с одной стороны на те отношений, в которых стоит первобытный человек к окружающему его миру животных, с другой — на тот образ мыслей, которым руководствуются вообще люди на низших ступенях развития. Прежде всего, не трудно убедиться, что в глазах первобытного человека животный мир не отделен от него так резко, как это должно казаться человеку современному. Конечно, первобытный человек замечает, что животные отличаются от него по своему наружному виду, но он считает отличия эти более второстепенными и далеко менее существенными, чем их внутреннее сходство. По его понятиям, напр., животные имеют такую же бессмертную душу, как и человек, и душа эта точно также может переходить после смерти тела в загробный мир, как и человеческая. Так, Камчадалы полагали, что душа каждого животного, как бы ни было оно мало и ничтожно, всякого червяка и мухи, будет жить на том свете, рядом с человеческими. Ассамские Куки верят, что душа каждого убитого ими на охоте животного точно также, как павшего в сражении врага, будет служить им на том свете. Основываясь на подобном же воззрении, Эскимосы (точно также, как и некоторые племена северо-американских Индейцев), клали напр. в гроб младенца собачью голову, с той целью, чтобы душа собаки не дала заблудиться душе младенца во время ее трудного пятидневного перехода на тот свет. Это же воззрение было причиной, почему напр. у Патагонцев закалывалась на могиле покойника лошадь, подобно тому, как это делалось в старинные времена в Европе и др. странах. Некоторые народы идут в этом одухотворении еще далее. Даяки, Карены, жители островов Фиджи, некоторые из Индейских племен принимают, что не только животные имеют душу, но и растения, камни, даже искусственные предметы, как, напр., дома, лодки, топоры и т. д. Так, например, жители островов Фиджи верят, что, если будет срублено дерево, то дух его немедленно отправляется на тот свет (отождествляемый ими с мифическим островом Болоту); если сломается ножик, разобьется горшок, развалится хижина, то души всех этих предметов также ожидает бессмертие на том свете, где они будут находиться в употреблении богов. Сопоставив с этим воззрением то понятие, которое имеют первобытные народы о будущей жизни, почитаемой ими за непосредственное продолжение настоящей и почти при тех же самых условиях, мы легко можем объяснить себе известный обычай, столь распространенный у самых различных народов: класть в могилы покойников, кроме трупов любимых животных (а также иногда и рабов), их оружие, украшения, трубки с табаком, горшки с пищей, а в случае женщин — иглы, гребни, веревки для ношения тяжестей, весла и т. п. Не довольствуясь тем, что первобытное воззрение приписывает животным душу, оно считает их во многих случаях однородными с человеческими и допускает, что души животных могут поступать иногда в тело человека и наоборот. Так, у некоторых племен Негров существует поверье, что животные, питающиеся часто трупами людей, как напр. гиены, могут присваивать себе тем самым и души умерших. Так Эскимосы были убеждены, что их «ангекоки» или кудесники могли, в случае болезни, заменять душу больного человека другой, здоровой, взятой от зайца, оленя, птицы или человеческого младенца. У многих народов существовало и существует еще поверье, что волшебники и ведьмы силой чар (точно так же, как и простые смертные силой заклинаний или дьявольского наваждения) могут превращаться в животных и принимать на себя вид и все склонности тигра, льва, волка, леопарда, гиены и других животных. Такая вера в оборотней особенно развита в Африке у Негров, Кафров, Готтентотов, но она существует и у многих других Азиатских и Американских народов, а также существовала и в Европе, где по временам, число таких оборотней (волкодлаи, loupsgarous, Wehrwoelfe) до того увеличивалось, что всё явление принимало характер особой психической эпидемии, известной в медицине под названием «Ликантропии». Когда Солиман в 1542 г. вступил на турецкий престол, Константинополь был до такой степени наполнен этими оборотнями, что в несколько дней их было казнено более полутораста. Еще более была распространена эта эпидемия во Франции, в Юрских кантонах в конце XVI столетия. Верование в оборотней и до настоящего времени существует еще у сельского населения Франции, Италии, Германии, Славянских стран, а Планси де Коллен рассказывает про одного оборотня, Марешалля де Лонгвилля, который не далее, как в 1804 году, был приговорен к пожизненному заключению на галерах. Еще большим распространением пользовалась (и пользуется еще до настоящего времени) у многих народов вера в т. н. «метампсихозис», или переселение душ после смерти одних существ в другие, из людей в животных и наоборот. Мы встречаем ее как у первобытных племен (Индейцев, Негров), так и у гораздо более цивилизованных, например, Индусов, по понятию которых, всё различие между существами касается только степени, а не сущности; все они сродни человеку, слон, обезьяна, червь могли быть некогда людьми и могут сделаться ими снова, парии или варвары составляют низшие касты у людей и высшие у животных. Следы таких воззрений можно заметить также у некоторых Греческих философов, у каббалистов, в учении Манихеян и даже у более новейших мыслителей, как, например, у Юма. Признавая у животных душу, как и у человека, первобытное воззрение наделяет их таким же умом, такими же чувствами, страстями и способностями; так оно приписывает им дар слова, способность говорить и понимать язык человека. Этим объясняется, например, первоначальное происхождение басни, где животные говорят и действуют как люди, разговаривая не только между собой, но и с человеком. На дальнейших ступенях развития народное воззрение уже принимает, что люди имели некогда способность понимать язык животных, но потом потеряли ее (тем, что выдали этот секрет бабам, как утверждают Негры в Борну). Впрочем, люди знающие, «знахари», могут и теперь еще понимать его, такой дар приписывался, например, в свое время, Аполлонию Тианскому, — а Индусы полагают, что даром этим может обладать всякий, нужно очистить только предварительно свои уши известными обрядами. У Австрийских немцев существует поверье, что в ночь на Рождество Христово, около 12 часов, все животные получают дар слова и могут сообщить, что они испытали в прошлом году и чего следует ожидать в будущем. Какое понятие может иметь первобытный человек относительно своего отличия от животных видно, например, из ответа одного Бечуана, который на вопрос миссионера Моффата, в чем, по его мнению, заключаются преимущества человека, отвечал, что он не знает их, исключая разве того, что человек более склонен к подлостям. В некоторых случаях, первобытное воззрение ставит животных даже выше человека, как существа, превосходящие его по силе, ловкости, предусмотрительности или разумности действий. Вообще, по первобытным понятиям, человек вовсе не стоит во главе природы, неизмеримо выше всех прочих животных созданий; напротив того, эти последние кажутся ему иногда гораздо более совершенными и привилегированными, чем он сам, или он видит в них каких-то таинственных существ, жизнь и действия которых для него темны и загадочны, и которых он готов признать, вследствие этого, одаренными высшими, сверхъестественными силами, — готов преклоняться перед ними, умилостивлять жертвами, одним словом, обоготворять и поклоняться им. С постепенным развитием культуры этот первоначальный страх и преклонение перед животными, конечно, должны были потерять свои первоначальные размеры, тем не менее, следы его сохраняются еще долго в народных воззрениях. Они заметны, например, в почтительных приветствиях диких животных охотниками, в опасении упоминать имена их, особенно в лесу и пр. Известно, что многие из сибирских инородцев, Гольды, Коряки, Самоеды не любят, например, называть медведя по имени, а стараются выражаться иносказательно: зверь, старик, дедушка. Убив его, они извиняются перед ним, сваливают всю вину на русских, преклоняются перед его трупом и т. д. В том же роде поступают и северо-американские Индейцы, когда, убив медведя, суют ему трубку в зубы, устраивают в честь его особый танец, или Эскимосы, которые, убив молодого кита, просят извинения перед его матушкой, говоря, что ведь им нужно что-нибудь есть, что иначе они бы с голоду померли и т. д. Это унижение может доходить иногда до того, что превращение в животного может считаться благодеянием и наградой для человека. Так у Ирокезов существовало предание, что их «Маниту», желая наградить одного человека их племени за то, что он при самом страшном голоде удержался от людоедства, превратил его в бобра, и что отсюда-то и ведут бобры свое происхождение. Здесь, очевидно, подразумевается, что быть бобром лучше, чем быть человеком; и действительно, один путешественник, Паркман, рассказывает, что он слышал, как один довольно развитой Индеец серьезно доказывал, что бобр и белый человек — самые умные «люди» на свете. Многие из наиболее характеристических черт первобытных воззрений на животных могут быть объяснены до некоторой степени тем жалким положением, в котором находился первобытный человек, почти нагой и безоружный, в постоянной борьбе с животным миром за свое существование, — борьбе, несомненно, страшной, и оканчивавшейся нередко для него смертью или изувечением. Но главное объяснение все-таки заключается в его неразвитости, ограниченности его понятий, в его невежестве относительно себя и окружающей его природы, в его неспособности к анализу и критике. Известно, что способность к анализу предметов и явлений, к уловлению различий между ними, является тем совершенней, чем более развит человек, т. е. чем он обладает большим числом сознательных понятий; и, наоборот, чем совершеннее может распознавать человек существующие различия, тем его выводы и сопоставления являются более правильными, а воззрения более полными, рациональными и логичными. Первобытный человек обладает весьма ограниченным числом понятий, количество сознаваемых им объектов ничтожно, сравнительно с тем, которое входит в круг мыслей цивилизованного человека, имеющего за собой длинный период культурного развития. Большая часть абстрактных понятий для него чужда и непонятна; ему доступны только конкретные понятия, и то, настолько же узкие и односторонние, насколько узок его умственный горизонт и односторонняя сфера его деятельности. В каждом из немногих доступных его сознанию предметов он схватывает только то, что производит на него наибольшее впечатление, часто упуская при этом из виду многие из наиболее существенных, но не различаемых его сознанием, особенностей. При этом, очень часто, у него не достает силы связать свои отрывочные понятия и свести их в одно, сколько-нибудь целостное и логичное представление. Этим мы не хотим сказать, чтобы первобытный человек не имел вовсе общих понятий; напротив того, история языка и психологические наблюдения (напр. над детьми) показывают, что общее познается обыкновенно ранее частного. По наблюдениям д-ра Гупенбуля, дети-кретины, при пробуждении своих способностей, скорее получают понятие о Боге, чем о каком-нибудь предмете, доступном чувствам. Но нужно заметить, что прогресс знания требует анализа того, что сначала представляется только в общей и неясной форме, для того, чтобы потом, путем индукции, снова придти, но уже к осмысленному и сознательному, общему. У первобытного же человека, общие понятия суть только бессознательные выражения однородных (для его сознания) впечатлений, — не разложенных анализом и не проверенных критикой. Там же, где дело касается до вывода из ряда частных понятий заключающего их в себе общего, мы встречаемся часто с оригинальными примерами бессилия мысли. Так, например, во многих американских языках не существует вовсе слов для выражения понятий: «быть», «дерево», «растение», «животное» и проч., и, наоборот, часто для одного и того же конкретного предмета или действия существует множество слов, смотря потому, в каком состоянии находится предмет или при каких обстоятельствах и условиях совершается известное действие. Такой неспособностью к логичному синтезу и анализу явлений, к составлению абстрактных понятий и к уловлению различий между предметами первобытный человек напоминает в значительной степени детей, которые, как известно, если им начать задавать сколько-нибудь абстрактные вопросы, скоро устают и совершенно теряются. Африканский путешественник Бёрчелль говорит, что «мыслить для большинства дикарей весьма трудно и если их спрашивать о сколько-нибудь абстрактных вещах, то они очень скоро начинают жаловаться на усталость и головную боль». Точно так же, подобно ребенку, дикарь в состоянии удовлетвориться первым попавшимся ответом на какой-либо, случайно явившийся у него вопрос, — и ленивый ум его не почувствует потребности, да и не может, не умеет отнестись к нему критически и подвергнуть его логическому обсуждению. Немногих аналогий ему достаточно уже, большей частью, для того, чтобы установить тождество немногих совпадений или последовательностей, чтобы объяснить причинность. Известно, какую обширную роль играет, например, в истории умственного развития народов обманчивая максима: post hoc ergo propter hoc, и какое важное значение имеет в периоде первобытной культуры процесс так называемого «смешения субъективного с объективным». Уяснение этих и подобных им психическим процессов значительно облегчает понимание первобытных воззрений и дает ключ к объяснению многих из наиболее запутанных явлений давнейшей культуры человечества. Если, таким образом, первобытный человек имел лишь весьма смутные понятия о своем отличии от животных и своем физическом и психическом совершенстве, то весьма понятно, что во всех тех местностях, где обезьяны, особенно высшие, были для него знакомым явлением, он должен был прийти к заключению, что существа эти весьма близки к нему, если не родственные и не тождественны. В этом убеждало его как сходство в общих очертаниях их тела, так и многие особенности их быта и нравов, напоминающие до некоторой степени человеческие и притом, в большинстве случаев, значительно преувеличенные и дополненные его собственным воображением. Выше уже было сказано, что многие Негры, Индейцы, Малайцы думают, что обезьяны могут говорить, только скрывают эту способность. Другие прибавляют, что у обезьян существует такое же общественное устройство и быт, как и у людей, — что они имеют начальника или князя, отличающегося тем, что он носит повязку на голове и опирается на палку; — имеют род правления и чинов; — собираются по временам в кружок и производят суд и расправу над своими ближними; — ведут правильные стратегические войны, как между собой, так и с другими животными, напр. слонами; — защищаются в случае нужды каменьями и палками, одеваются листьями, строят себе жилища, хоронят своих умерших собратий, любят, подобно дикарям, вымазывать себе лицо краской и т. д. Наконец, у многих народов распространено еще поверье, что обезьяны любят утаскивать к себе женщин, живут с ними и приживают детей, а древние Египтяне (по Элиану и Гораполло) верили, что серебристый павиан может быть выучен письму и музыке, и что попадаются особи, которые уже умеют писать, вследствие чего каждому, приводимому в храм циноцефалу, жрецы предлагали табличку и инструмент для письма, с целью удостовериться, принадлежит ли он к ученым или к неученым особям. При таких понятиях и представлениях естественно было придти к заключению, что обезьяны — те же люди и что между человечеством и животным миром не существует никаких сколько-нибудь резких и существенных различий. Однако, как бы долго ни разделялись подобные воззрения многими народами, как бы часто ни встречались мы со следами их в умственной жизни человечества, все-таки, с развитием культуры, они должны были значительно утратить свое первоначальное значение. Научившись опытом и усовершенствовав свое оружие, человек поставил себя в более независимое положение относительно животных; он успел почти совершенно истребить одних и одомашнить других. Расселяясь по окрестным странам и вступая в борьбу или мирные сношения с соседними племенами, он, мало-помалу, расширил свой умственный горизонт, и приобрел много новых понятий. Его страх перед животными значительно ослабел, он стал сознавать их ограниченность, их относительное несовершенство. Всё это не могло остаться без влияния на его воззрения, не могло не пробудить в нем сознания своих преимуществ, и, если некоторые племена даже до настоящего времени, не могут еще отрешиться от своих первобытных воззрений, зато другие, поставленные в более благоприятные условия, уже рано перешли к совершенно иным понятиям — об особенностях своей природы и ее отношениях к природе животных. В ряду этих племен наиболее видное место по своему влиянию на дальнейшую историю умственного развития человечества занимают Греки. Выйдя еще в очень отдаленную, доисторическую эпоху из периода первобытного варварства и грубого фетишизма, рано ознакомившись с употреблением металлов, скотоводством, земледелием, торговлей, народ этот, благодаря счастливым задаткам своей расы и благоприятным условиям страны, скоро достиг такой ступени умственного и гражданского развития, что оставил далеко за собой не только все древнейшие и современные, но многие и из гораздо позднее его явившихся на исторической сцене народов человечества. Увеличение материального богатства, а следовательно, и досуга, по крайней мере в среде свободных граждан и жителей городов, вызвало потребность в комфорте, в образовании и послужило одним из главных толчков к развитию ремесел, искусств, литературы и, наконец, науки. С другой стороны, победа и духовное преобладание над окружающими варварскими племенами, и развитие в среде полноправных граждан более сознательных понятий о своих правах и обязанностях, вызвало немыслимое до той эпохи сознание своих духовных сил и своего человеческого достоинства. Всё это не могло остаться без влияния на господствующие воззрения, по крайней мере, более образованного класса, относительно положения человека в природе и его отношений к животному миру. Явилось сознание, что человек составляет особое, привилегированное существо на земле неизмеримо высшее прочих животных, как по своей физической организации, так и в особенности, по своим психическим качествам, по своему уму. Возникло убеждение, что психическая природа человека коренным образом отлична от природы животных, что человек один только обладает разумом, есть единственное существо на земле, обладающее стремлением и способностью к исследованию истины, познанию причин и следствий вещей; — единственное существо, одаренное (по Аристотелю) способностью воспоминания, способное познавать и восторгаться красотой, признающее и почитающее богов, имеющее понятие о праве и нравственности, т. е. сознающее необходимость гражданского порядка и известных нравственных правил для своих действий. Признавая, что животные имеют также душу (отождествляемую большей частью с понятием о жизни, жизненной силой) как и человек, большинство древних мыслителей, полагало, однако, что кроме этой животной души (anima) человек обладает еще особым «духом» или разумом (animus, spiritus, genius, mens, нп. т.), представляющим собою непосредственную эманацию божества, частицу божественной природы. По воззрению Пифагорийцев, человек занимает среднее место между богами, героями и духами с одной стороны и животными, вообще органическими существами, с другой: люди имеют небесное происхождение и принадлежат к числу духов, происшедших при возникновении мира из эфира (первобытного духа); земная жизнь составляет только короткий эпизод их существования, которое началось в небесных пространствах и, после более или менее продолжительного метампсихозиса, будет продолжаться там снова. Подобные же воззрения высказывали Платон и другие философы. Впрочем, уже и по своему телесному сложению человек значительно отличается от животных: он один обладает вертикальным положением тела, один, (как думали Анаксагор, Аристотель и Гален), имеет совершенно организованную руку. Однако эти телесные отличия далеко не имеют еще того значения, как психические преимущества, как обладание духом, который собственно и есть главнейшая сущность человека и есть — самый человек. При таких понятиях и воззрениях мысль о происхождении человека от животного, — существа бессловесного, лишенного не только разума, но даже (как принимали Стоики) чувств, воли и страстей, естественно была невозможной, должна была казаться совершенно неестественной и унизительной для человека. Взамен ее, нужно было придумать какую-нибудь другую гипотезу, и вот явилась теория, что человек не был создан вовсе, что он существовал вечно, подобно богам, или по крайней мере бесконечно долго, с самого начала мира. Эта теория, которую принимали Орест Лукан, Ксенократ, Дикеарх, Архит Тарентский, Пифагор, Теофраст и, по-видимому, также Платон, не разделялась, однако, другими философами, которые доказывали, что человек должен был иметь определенное начало, хотя и расходились в объяснении его происхождения. Одни, в том числе Эмпедокл, Парменид, Демокрит и Эпикур думали, что он произошел сам собой, из земли и воды, или воды и огня, под влиянием солнечной теплоты, каким-то процессом произвольного зарождения; другие, как Зенон и стоики, полагали, что он был непосредственным созданием богов. Эти две последние теории, как более вероподобные и притом стоящие в некотором соответствии с народными мифами (напр. мифом о Прометее или Девкалионе и Пирре), пользовались, по-видимому, наибольшим распространением как у Греков, так и у Римлян; есть некоторые основания предполагать, что первой из них, то есть теории произвольного зарождения, придерживался и величайший натуралист древности — Аристотель. С появлением и распространением Христианства, высокое понятие о человеке, составленное Греками (а также разделяемое Римлянами и некоторыми другими древними цивилизованными народами, напр. Китайцами), должно было утвердиться еще более. По средневековым понятиям человек был средоточием мира, высшей и конечной целью творения. Для него создан был весь мир, только для него светило солнце, луна и звезды на небе; в нем и вокруг него были сосредоточены и действовали все духовные (как благодетельные, так и враждебные) силы мира. Он есть первое, избранное существо на земле, неизмеримо превосходящее все прочие земные создания. Силой своего ума и добродетели он может постигать и покорять весь мир; силой молитвы и благодати Божьей, или также магии и содействием дьявола, — он может заклинать духов, предсказывать будущее, нарушать естественный порядок творения, производить чудеса и воскрешать мертвых. Происхождение его совершенно отлично от происхождения прочих животных, так как он создан был по подобию Божию в последний день творения. Все животные, сравнительно с ним, суть бессловесные, неразумные, бездушные твари, созданные исключительно или преимущественно для него, для его пользы, забавы или также искушения и кары. Еще решительнее и полнее стали развиваться эти понятия в XV и XVI столетиях. По воззрениям Агриппы фон-Неттесгейма, Кардана, Джордано Бруно, Бёма, Парацельса и др. мыслителей того времени, человек есть конечная цель развития земной жизни, средоточие бытия, связь и символ всех вещей. Он соединяет в себе небесное и земное, вечное и преходящее, он представляет из себя целый мир — микрокозм, миниатюрное подобие великого мира — макрокозма; кто познает себя, тот познает всё. Душа человека есть часть мировой души, есть сила и разум всех вещей; тело его (по Бёму) есть эссенция материальных сил всех существ, в которой сконцентрирована вся природа. Жизненная сила человека (по Парацельсу) исходит от планет: сердце связано с солнцем, мозг с луной, почки с Юпитером и Венерой; на небе и в макрокозме содержится сущность всех членов человеческого тела. Судьбы человека представляются в созвездиях, не потому, (говорит Кардан), что человек управляется ими, но потому, что их взаимные положения соответствуют качествам человека, одно отражается в другом. В соответствии с этим возвышением человека, животные низводились, между тем, всё ниже. В XVI столетии Гомец Перейра объявляет уже, что животные суть просто машины, действующие не по внутренним побуждениям, а по вложенному в них механизму. Еще решительнее развивают эту теорию в XVII столетии Декарт и его последователи, по мнению которых, животные не имеют ни ума, ни чувств, ни воли, и представляют только, как выражается один из Картезианцев, Кроциус — «гидравлико-пневматические машины». Но такие теории уже слишком противоречили обыденным понятиям и наблюдениям, чтобы не вызвать опровержений и даже насмешек. Тем не менее, влияние этой теории не прошло бесследно; и, если в животных и стали признавать чувство, а до некоторой степени также волю и рассудок, то все-таки при этом подразумевалось, что их психическая природа коренным образом отлична от человеческой, так что если некоторые их поступки и поражают своей целесообразностью, то, во всяком случае, они только в ограниченной степени являются следствием размышления, большей же частью составляют просто проявления слепого, бессознательного инстинкта. Несмотря на нападки, которые возбудила против себя эта новая гипотеза со стороны многих мыслителей XVIII в., особенно Вольтера, она весьма прочно укоренилась в науке и, благодаря особенно авторитету знаменитого Кювье, сделалась господствующей с начала нынешнего столетия. Человек считался существом, хотя и принадлежащим по своей физической организации к животным, но тем не менее настолько отличным от них, что даже по одним анатомическим своим признакам он должен быть отделен в особое царство, наряду с царствами животных, растений и минералов. Таков был, в кратких чертах, исторический ход развития господствующих воззрений на человека и на его отношения к животному миру, — со времен классической древности до второй половины XIX столетия. Мы говорим господствующих, потому что с большими или меньшими вариациями в подробностях они принимались большинством мыслящих и образованных людей своего времени, — хотя появлялись по временам личности, которые высказывали и иные мнения, далеко не отводящие человеку такого исключительного места в природе и понимающие несколько иначе его психические преимущества. Но в большинстве случаев, эти мнения были, так сказать, уже исключительными явлениями: они возбуждали мало сочувствия, проходили бесследно или принимались только известным кружком мыслителей. Были, правда, эпохи, когда эти мнения получали большее распространение, когда они развивались и разделялись большинством передовых мыслителей, когда они готовились, по-видимому, сделаться преобладающими; но такое преобладание продолжалось, однако же, относительно весьма недолго, наступал период реакции, и мыслящее человечество снова возвращалось к своим прежним теориям и воззрениям, только несколько исправив и видоизменив их, сообразно необходимым требованиям времени. Тем не менее, мнения таких отдельных личностей, школ или эпох, представляют значительный интерес с точки зрения истории культуры, так как они показывают, что мысль о возможности происхождения человека от животных и об однородности их физической и психической природы, никогда не могла совершенно исчезнуть в мыслящем человечестве, — даже в эпохи, наименее, по-видимому, благоприятствовавшие таким воззрениям. Так, мы встречаем эту мысль еще в период классической древности, — у Анаксагора, который полагал, что человек, путем различных метаморфоз, мог произойти от рыбы или вообще какого-то водного животного. С другой стороны, если большинство древних философов и признавало, что психическая природа человека существенно отлична от природы животных, и что человек один только обладает разумом или духом, совершенно отличным по своей природе и происхождению от его материального субстрата, — то были и такие мыслители, которые допускали в этом случае только количественное, а не качественное различие и полагали, что психический агент есть только орган тела, неразрывно связанный с существованием последнего. По воззрениям Анаксагора, Демокрита и других философов, животные, по крайней мере, высшие, обладают также умом, и что если он не проявляется у них в таких же разумных действиях как у человека, то это зависит от порочного сложения их тела, изобилия в нем влажности, а главное, отсутствия речи. У одного из ново-платоников, Порфирия, жившего в III веке по Р. Х., мы встречаем мнение, что животные обладают не только чувствами и памятью, но и разумом, отличающимся от человеческого не по существу, а только по степени (non essentia sed gradu). Наконец, у Секста Эмпирика, (II в. по Р. Х.) мы встречаем даже положение, что не существует никакого признака, на основании которого можно было бы провести резкое различие между человеком и другими животными. Подобные же мнения мы встречаем у некоторых Христианских писателей первых веков по Р. Х. Так, Арнобий (III в. по Р. Х.), рассуждая о сходстве природы животных с природой человека, задает вопрос: в чем же состоит отличие человека и какие такие имеет он преимущества, которые бы могли отвратить нас от мысли причислить его к числу животных? И затем проводит полную параллель между отправлениями и способностями, (как они тогда понимались), животных и человека. Другой писатель конца III — начала IV века, Лактанций, выражает мнение, что главное и даже единственное отличие человека заключается в религиозности, в способности понимать или воспринимать религию; все же прочие особенности человеческой природы замечаются, хотя и не в той же степени развития, и у животных. Такое мнение, очевидно, поддерживалось убеждением, высказанным еще Цицероном и Плутархом, что не существует ни одного народа, как бы ни был он дик и необразован, который бы не имел понятия о богах и о необходимости религии. Заметим, впрочем, что один древний философ, Ксенократ Карфагенский, полагал, что некоторое понятие о религии имеют и высшие животные; нечто подобное же допускали, по-видимому, и Иезуиты, как то можно судить по книге, изданной в Лилле в 1672 г. Что касается собственно до происхождения человека, то, хотя в средние века догмат о происхождении всех людей от Адама (или одной протопласты, как выражались в то время) и стоял непоколебимо, так что схоластикам оставалось только рассуждать о том, сколько ребер было у Адама, какого он был роста, на каком языке говорил, и где находился тот земной рай, из которого он был изгнан после своего грехопадения, — однако, к XVI веку мы уже встречаем мыслителей (Джордано Бруно, Парацельс, Исаак Пейрере), которые доказывают, что происхождение Негров и Индейцев должно было быть существенно отличным от происхождения белой расы. От одного писателя начала XVII столетия, Ванини, мы узнаем о существовании в то время «атеистов», которые думали, что первые люди получили свое начало из земли, пришедшей в состояние гниения от разложения в ней трупов обезьян, свиней и лягушек, чем они и пытались объяснить то сходство, которое, по их мнению, существует между строением и склонностями этих животных и человека. Другие атеисты полагали, что одни только Эфиопы (Негры) произошли от животных, именно от обезьян, потому что будто бы один и тот же градус теплоты (?) существует в обоих. «Атеисты кричат нам постоянно, — говорит Ванини, — что первые люди ходили на четвереньках как животные, и что только благодаря воспитанию они изменили эту привычку, к которой, впрочем, снова возвращаются, — в дряхлой старости». — Были и такие личности, которые полагали возможным провести генеалогию человека до рыб; так Скалигер упоминает о мнении одного «мудреца», по которому человек, через посредство Каннибалов, Финнов, Пезиоров, Пигмеев, Эфиопов находится в родстве с некоторыми породами обезьян, а через них и с другими животными, до рыб включительно. Ходячие предания и рассказы того времени о баснословных животных и фантастических племенах — уродах, существах, в которых природа человека была смешана с животной, придавала таким и подобным им гипотезам некоторую долю вероятности в глазах современников. Не верить же совершенно таким рассказам было трудно; их разделяли знаменитейшие ученые своего времени, каковы, например, Исидор Севильский и Рожер Бэкон, почерпавшие их в свою очередь из сочинений древних географов и историков — Геродота, Элиана, Страбона, Плиния и др., которые, впрочем, приводили их большей частью только как местные рассказы и слухи, часто указывая на их неправдоподобность. В числе этих баснословных существ были целые племена людей без головы со ртом и глазами промеж плечей, или безглазых, — безротых, — об одой ноге, (вроде гусиной, под тенью которой они могли удобно скрываться от лучей солнца, как под зонтиком), — людей с извращенными, т. е. обращенными назад ступнями, — безносых, — хвостатых, — с ушами до того длинными, что ими можно было закрывать всё тело, как плащом, — спящих зимой и бодрствующих летом, и т. д. Ученые люди рассказывали, что на севере, в стране Магог, живут люди до того маленькие, что самые рослые из них не достигают трех пядей; кожа их покрыта густой шерстью, и они имеют большие, висячие уши. Подобные же, мохнатые пигмеи принимались существующими в Африке и других местах. С другой стороны, с открытием Америки, южной Африки, тропической Азии стали распространяться слухи о существовании там целых наций великанов, рост которых почти вдвое больше обыкновенного, именно до 11 футов, (Патагонцы), нации гермафродитов (во Флориде), людей с хвостами (в королевстве Ламбри по Марко Поло, в различных частях Америки и пр.), людей, которые не говорят, а шипят, щелкают, или клохчут как индейки и т. д. Выше мы уже упоминали, что циноцефалы считались за людей еще в IX столетии по Р. Х.; здесь прибавим, что известный средневековый путешественник Марко Поло, говоря о жителях Андаманских островов, описывает их как жестоких людоедов с собачьим головами. Несколько позже, Кирхер упоминает даже о людях с птичьими головами; другие толковали о человекоподобных рыбах (морских людях), даже человекоподобных грибах и пр. Большинство тогдашних ученых было убеждено, что человек может скрещиваться с животными и производить более или менее уродливые помеси; сохранились даже описания и изображения нескольких таких уродов — диких, человекоподобных существ, с длинными ушами или рогами, мохнатых, ходящих на четвереньках и т. д. Одно из таких существ, найденное будто бы в 1530 г. в лесах Эпископа Зальцбургского, имело, судя по рисунку, туловище, руки и ноги как у человека, но на голове у него был мясистый гребень как у петуха, пара козлиных рожек и уши — длинные и острые как у осла. На шее у него было три кожистых мешка, доходивших до средины груди и прикрытых огромной бородой, которая напереди заворачивалась кверху и оканчивалась на одном уровне с носом. Всё тело было покрыто густыми, длинными волосами, а сзади оканчивалось хвостом, похожим по своей форме на волчий. Вместо кистей у него были четырехпалые лапы, а ступни по своей форме напоминали лапы хамелеона. 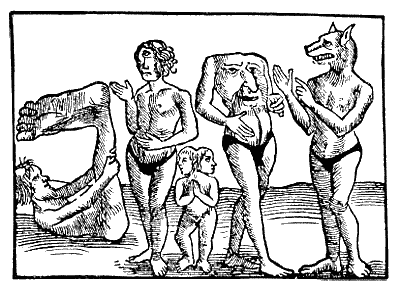 Мало-помалу, с возрождением и развитием наук, особенно Анатомии, Зоографии и Этнографии, этот хаос понятий стал, конечно, несколько проясняться. В XV столетии Газа и Барбарус впервые знакомят мыслящее человечество в полных переводах с сочинениями Аристотеля, Теофраста, Плиния и других древних натуралистов. В XVI столетии Везалий, Евстахий, Фаллопий, Фабриций де Аквапенденте и др. полагают уже прочные основания анатомии человеческого тела и делают первую научную попытку объяснить его отправления и развитие. В то же время Гесснер, Алдрованди, Северино и др. собирают в одно целое все накопившиеся сведения об известных тогда животных и пытаются дополнить сравнительно-анатомические факты, добытые в особенности Аристотелем, своими собственными наблюдениями. Наконец, морские путешествия Испанцев, Португальцев, Голландцев — знакомят со множеством новых животных и человеческих племен, всё более и более расширяя пределы известного тогда света. Всё это не могло не привести к критике, принимаемых до того времени на веру, баснословных рассказов, не могло не убедить в наивности и преувеличенности, по крайней мере, многих из них. Тем не менее, это убеждение явилось не разом; человечество не вдруг освобождалось от тех воззрений, в которых оно воспиталось, с которыми оно успело уже свыкнуться. Некоторые ученые (как напр. Рабенер) пытались еще отстоять баснословные племена Геродота, основываясь на подобных же рассказах более новейших путешественников, Мериана, Шмиделя и др. Другие, как Гуго Гроциус, находя баснословными большую часть этих уродов, допускали однако же возможность действительного существования для некоторых из них — напр. безголовых людей с лицом и глазами на груди. В особенности долго не могло искорениться убеждение о возможности помесей между людьми и животными и о существовании диких и «сомнительных» людей, переходных форм, в которых человеческий вид был смешан с животным (dubii homines, in quibus forma humana et brutina mista fertur, как выражается Зелигман в своей диссертации 1679 г.). Можно сказать даже, что в конце XVII и начале XVIII столетия это убеждение получило большую вероятность и распространение, чем когда-либо прежде, что отчасти понятно, так как в это время стали получаться первые более подробные известия о высших человекоподобных обезьянах и многих первобытных племенах человечества. А какого рода часто были эти известия, можно судить по следующим примерам. Путешественник Николай Коппинг, Швед по происхождению, лейтенант корабля, описывает, что во время своего путешествия в Восточную Индию, он имел возможность познакомиться на одном из островов с весьма замечательным племенем хвостатых людей. Это были страшные существа, наполовину черные, бегавшие на четвереньках как кошки и снабженные кошачьим хвостом. «Когда мы приблизились к берегу, они подъехали к нашему судну на лодках и стали предлагать нам в обмен на железные вещи раков и попугаев, когда же они увидели, что никто не хочет торговать с ними, они тотчас же передушили своих попугаев и стали пожирать их сырьем, в нашем присутствии. Под конец их собралось столько, что мы начали опасаться враждебного действия с их стороны, и с целью предупредить его дали залп из пушек, что заставило многих из них тотчас же пуститься в бегство. Но другие были смелее, подошли к нам ближе без всякого страха и стали обшаривать все углы корабля с целью поживиться железными вещами. Между тем наш рулевой, желая исследовать, нет ли в их стране чего-нибудь съестного, взял с собой 5 своих товарищей и отправился к берегу на лодке. Всю ночь ждали мы их возвращения, наконец, капитан потерял терпение и рано утром послал другую лодку со многими людьми (в том числе и я) и двумя пушками. Когда мы подъехали к берегу, вытащили пушки и дали два залпа, все эти хвостатые люди бросились бежать в лес. Мы начали осматривать берег и нашли остатки лодки, разбитой на мельчайшие куски; затем мы заметили небольшой дымок на холме, куда тотчас и отправились. Но там мы нашли одни только кости наших друзей, мясо которых было, очевидно, пожарено этими кровожадными чудовищами. Так мы и возвратились, пораженные ужасом и горем, на наш корабль, где и передали остальным товарищам всё, что мы видели на берегу». Другие путешественники находили подобных же хвостатых людей на острове Формозе, на Филиппинских и Молуккских островах, в Китае, Бразилии, Африке, даже в России, а по Де-Маллье (1748) они встречались, и даже довольно часто, в Англии и Ирландии. Обыкновенно хвост этот был небольшой, от 4 до 5 дюймов, голый или покрытый волосами, иногда похожий на воловий или даже длиннее, вроде, например, как на прилагаемом рисунке, представляющем уменьшенную копию старинного рисунка Геснера. Не менее интересны были известия о племенах троглодитов или «ночных людей», найденных многими путешественниками в Центральной Америке, в Африке, на островах Малайского Архипелага и т. д., и отличавшихся белым как мел цветом кожи, белыми как лен волосами на голове, иногда длинными, иногда короткими и шерстистыми, и красными или золотистыми глазами. Они не могли выносить дневного света, глаза их слезились, и они выходили из своих убежищ (пещер) только ночью. Роста они были маленького, уши имели длинные, лицо их было заросшим волосами (Wafer 1704 г.), а Малайские троглодиты отличались еще, кроме того, тем, что руки у них достигали до колен, походка была весьма своеобразна, а глаза были снабжены третьим веком или мигательной перепонкой. Язык их был совершенно особенный и состоял из ряда неподражаемых, свистящих звуков; в свою очередь, они были положительно неспособны выучиваться языку других людей, за исключением разве только односложных, утвердительных и отрицательных частиц. Еще более диковинные вещи рассказывались в то время путешественниками об антропоморфных обезьянах. По словам Баттеля (Purchas) «понго», водящиеся в стране Лоанго (в зап. Африке) совершенно похожи на человека и отличаются от него только большим ростом и силой, изобилием волос на теле и еще тем, что у них не замечается икр и пяток на ногах. Они ходят прямо, на двух ногах, как и люди, дерутся палками, утаскивают к себе детей и женщин, строят хижины на деревьях и хоронят своих мертвых, набрасывая над ними кучи хвороста. Подобные же известия шли из Вост. Индии, откуда Бонциус, врач, живший долгое время в Батавии, на острове Яве, сообщал (1658), что на Борнео водятся существа («сатиры», как он называет их), до того похожие на человека как своим внешним видом, так и своими манерами, что им недостает только дара слова, для того, чтобы быть настоящими людьми. Бонциус уверяет, что он сам видел самку, которая была чрезвычайно стыдлива, совестилась когда на нее пристально смотрели, закрывала лицо руками, проливала слезы, горько вздыхала и т. д. Другой путешественник, Лекомт, рассказывал, что эти дикие люди Борнео до того похожи на настоящих, что если бы они могли говорить, то их нельзя было бы отличить от некоторых Африканских дикарей, которые сами едва разнятся от животных. Они ходят как люди, на двух ногах, и бегают так быстро, что догнать их стоит немалого труда. Тело их покрыто волосами, глаза впалые, вид дикий, лицо загорелое, но все черты лица правильные, хотя и загрубевшие от солнца. В то время, как заморские путешественники сообщали о таких диковинках из тропических стран, в самой Европе то и дело оказывались случаи нахождения «диких людей», большей частью мальчиков и девочек, в лесах, часто в сообществе с медведями и волками, в среде которых они будто бы воспитывались с самого раннего своего детства. Из многих описаний таких уродцев (подобных случаев известно было десятка полтора) видно, что при всём различии в подробностях, они имели то общее, что были лишены дара слова, отличались волосатостью, ходили часто на четвереньках, ловко лазили по деревьями, следовательно, так замечает Линней, «были более сходны с животными и обезьянами, чем эти последние между собой, откуда следует, что между ними и обезьянами с трудом может быть отыскано различие». В самом деле, если бы мы, основываясь только на таких и подобных им известиях и рассказах, принятых за достоверные, пожелали бы составить себе более определенное понятие о границах между человечеством и животным миром, то нам по необходимости пришлось бы прийти к заключению, что или, как думал Ж. Ж. Руссо, все эти оранг-утанги, Понго и т. д. были отнесены к животным только по ошибке невежественных путешественников, а при более тщательном изучении окажутся вероятно настоящими людьми или же, как полагал Линней, что не существует никакого признака для отличия человека от обезьяны, так как оба эти типа соединены между собой целым рядом промежуточных, антропоморфных существ — диких людей, пигмеев, сатиров, хвостатых людей, троглодитов. Заметим, впрочем, что в глазах Линнея близкое сходство видов не предполагало еще непременно родства между ними, так как по его теории каждый вид (по крайней мере — животных) был создан отдельно и все оставались неизменными с самого начала своего существования. С другой стороны, сближая человека с обезьянами, Линней оговаривался, что он поступает так только с зоологической точки зрения; в отношении же духовной природы он вполне де признает высокое превосходство человека над прочими животными. Тем не менее, даже с зоологической точки зрения, может показаться странным, каким образом Линней, такой всеобъемлющий ученый своего времени, не мог отыскать никакого отличительного признака между человеком и обезьянами, смешивал альбиносов с орангутангами и придавал веру всем ходящим в то время рассказам о баснословных антропоморфных существах. Отчасти это можно объяснить тем, что Линней сам не видал ни одной человекоподобной обезьяны и принужден был судить только по описаниям других; но все-таки непонятно, почему он не обратил, например, никакого внимания на исследования английского анатома Тизона (Tyson), который еще за несколько десятков лет до Линнея, в конце XVII столетия, издал подробное и прекрасное по своему времени анатомическое описание Чимпанзе (или Пигмея, как он называет его), с приложением и критического разбора всех древних и новых известий об антропоморфных существах, как действительных, так и мнимых (Оранг-утане, Пигмеях, Сатирах и проч.). Как бы то ни было, только такие взгляды и промахи Линнея не прошли без того, чтобы не вызвать сильных нападок со стороны многих из современных ему ученых, одни из которых недоумевали, каким образом мог он доверять рассказам о хвостатых людях, другие удивлялись, как он не мог отличить альбиносов от оранг-утана, третьи, наконец, указывали на важные анатомические и психические отличия обезьян, даже наиболее высших, от человека. Живые экземпляры Оранга и Чимпанзе, доставленные около этого времени в Европу, способствовали еще более ограничению и опровержению Линнеевских воззрений, доставив возможность ознакомиться подробнее с особенностями внешнего вида и анатомического строения этих видов. Мало-помалу — в особенности после работ Добантона, Кампера, Блуменбаха и др., различие взяло такой верх над сходством, что почти все зоологи пришли к убеждению в несуществовании вовсе переходных форм между человеком и обезьянами. Утвердилось мнение, что все эти рассказы о хвостатых людях, сатирах и пр. чистая выдумка, что наиболее человекоподобные существа, оранг и чимпанзе, во всех существенных чертах своего строения остаются настоящими обезьянами и резко отличаются от человека устройством своих задних конечностей, (имеющих более сходства с руками, чем с ногами), неспособностью к вертикальному хождению, отсутствием речи и многими важными морфологическими и анатомическими признаками, что даже с одной только зоологической точки зрения обезьян, (в том числе и антропоморфных), начали отделять в особый отряд «четырех-руких» (Quadrumana), в отличие от двуруких (Bimana) или человека, производить которого от обезьяны (в особенности при том понятии, которое стало утверждаться тогда относительно постоянства видов), сделалось почти немыслимым. Впрочем, такие воззрения начали укореняться прочно не ранее конца прошедшего столетия или даже начала нынешнего, ранее же мнения относительного этого предмета далеко не представляли такой определенности, не только в массе публики, но даже и между передовыми учеными и мыслителями. Мысль, что человек мог произойти от животного, и что обезьяны, в особенности антропоморфные, могут считаться его ближайшими родичами, казалась еще весьма естественной для многих — в тот век, когда монистические теории и материалистические воззрения пользовались весьма значительным распространением и популярностью. Здесь было бы неуместным, конечно, говорить подробно о том, в чем состояла сущность этих воззрений и как они могли возникнуть и распространиться в тогдашнем обществе. Заметим, впрочем, что уже в XVI столетии начинали появляться личности, особенно в Италии, как, например, Помпонаций, Забарелла и др., которые с научной точки зрения стали высказывать сомнение в том, может ли психический агент существовать и действовать независимо от тела. В XVII веке этот скептицизм начинает распространяться и усиливаться, переходя мало-помалу в более или менее полное отрицание многих из господствовавших до того времени идеальных и мистических воззрений. В 1641 г. Декарт доказывает уже, что все явления природы, без различия органического мира от неорганического, происходят по определенным, механическим законам, вследствие передачи движения от одних тел другим; этим воззрением разом устранялись все допускаемые до того времени мистические объяснения природы и проводилась мысль, что порядок явлений, законы природы не могут быть никогда нарушены. Доказывая такую механичность внешней природы, Декарт принимал, однако, что дух, (обладание которым он из всех земных существ приписывал одному человеку), есть субстанция, отличная от прочей природы, противоположная ей и стоящая таким образом вне действия ее механических законов. Однако уже современник и антагонист Декарта, Гассенди, возражал, что «не видно, почему бы телесная и мыслящая субстанция, при всём различии их понятий, не могли бы быть, в сущности, одним и тем же», а другой современник их обоих, Гоббс, доказывал, что ощущения человека суть не что иное, как движение или колебание частиц тела, обусловленные движениями внешних предметов, которые (т. е. движения) передаются через посредство воздуха органам чувств, а отсюда — мозгу и сердцу. Несколько позже Локк отвергает уже положительно существование у человека прирожденных идей и доказывает, что все они берут свое начало из ощущений, полученных чувствами и воспринятых внутренним сознанием; душа, по его понятиям, есть tabula rasa, на которой может быть изображено то или другое, более или менее, смотря по качеству и количеству тех впечатлений, которые получает человек, особенно в период своего детства и воспитания. Но если идеи обусловливаются ощущениями, а эти последние влиянием внешней природы на органы чувств, которые через посредство нервов находятся в соединении с мозгом, то отсюда уже легко можно было прийти к заключению, что образование идей совершается в тесной зависимости от мозга, этой «цитадели души, лаборатории разума», как его называет Гуе (род. 1630). Во всяком случае, в чем бы ни заключалась сущность психического агента, стало ясным, что различие между человеком и животным не может быть настолько значительным, как его понимал Декарт, допускавший гипотезу об автоматичности животных в противоположность двойственности природы у человека. Наблюдение показывало, что животные также обладают мозгом, нервами и органами чувств, как и человек, следовательно, они должны иметь и некоторый запас идей, обладать в известной степени разумом. Можно было, впрочем, предположить, что число идей у них незначительно, и что при своих поступках они руководятся не столько умом или размышлением, сколько простыми, бессознательными побуждениями. Однако и человек, как то доказывал Спиноза, не всегда может руководиться умом в своих действиях, не всегда может иметь власть над своими побуждениями; при том и дух его не есть что-либо независимое от внешней природы, ибо наблюдение показывает, что человек так же не в силах сохранить здоровым свой ум, как и свое тело. Таким образом, оставалось одно из двух: или допустить, что животные имеют также душу, т. е. особую, независимую от тела психическую субстанцию, — воззрение, которого придерживались Лейбниц, Хр. Вольф и многие другие, преимущественно германские мыслители, или же, согласившись с Декартом относительно автоматичности животных, распространить это понятие и на человека, что действительно и сделали Де-Ламетри, Гольбах и др., преимущественно французские материалисты. Во всяком случае, как те, так и другие, пришли к выводу, что пропасть, отделяющая в психическом отношении животных от человека, не так глубока, как то принималось ранее, что это различие скорее количественное, нежели качественное, обусловленное в значительной мере воспитанием человека в продолжении многих поколений, а главное обладанием языка, который почти всеми мыслителями того времени от Гоббса и Локка до Ламетри и Блуменбаха рассматривался как человеческое изобретение, как способ, придуманный людьми для передачи друг другу своих мыслей с помощью условленных звуков. Некоторые мыслители высказывали даже мнение, что человек родится собственно животным, и что он становится человеком только с развитием речи и сознания, с воспитанием в среде человеческого общества; лишенный же речи и предоставленный самому себе, человек был бы диким существом, отличавшимся от прочих животных только некоторыми особенностями своей физической природы. Но эти физические отличия, в тот век, для многих, по крайней мере, не могли казаться особенно существенными. По закону непрерывности в природе, провозглашенному Лейбницем, мировой порядок образует непрерывный, постепенный ряд существ и явлений, и между различными степенями существ нет промежутков, нет скачков, а везде замечаются правильные, постепенные переходы (natura non facit saltum). Смотря издали, может казаться, что тела неорганические и органические, растения и животные, животные и человек, относятся между собой как противоположные полюсы; но при ближайшем рассмотрении оказывается, что они составляют только соседние ступени, весьма тесно примыкающие одна к другой. Все существа могут быть распределены последовательно в форме цепи или лестницы, начиная от наименее совершенных и кончая наиболее организованными; и в 1744 г. Бонне действительно составляет такую лестницу, где отдельные классы существ соединены между собой помощью переходных ступеней. В этой лестнице обезьяны, оранг-утан и «лесной человек» представляют соединительные ступени между четвероногими животными и человеком. Наконец, в 1725 г. Этьен Жофруа Сент-Илер уже выступает со своей теорией единства плана в строении животных и доказывает, что различные формы, в которых природа осуществила известные классы или отряды, могут быть произведены одни из других, что все различия, даже самые существенные, отдельных семейств одного класса происходят только от другого размещения, от постепенного осложнения или изменения тех же самых органов. Таким образом, выводы специалистов-зоологов вполне сошлись с заключениями психологов и философов, и общий результат был тот, что главнейшие черты организации и основной план строения животных и человека — настолько же сходны между собой, насколько сходны и общие основы их психических явлений, т. е. что различие в этом случае, как бы ни было оно значительно, есть различие степени, а не сущности. Но этот вывод, (хотя на нем и остановилось большинство ученых, не считавших возможным и необходимым идти далее), невольно однако же мог навести других на мысль попытаться дать ему реальное объяснение, истолковать его действительной генетической связью. Мы видели уже, что некоторые попытки такого рода делались еще в XVII столетии, тем более встречаем мы их в XVIII и начале XIX веков, когда они являются чаще, открытее и принимают характер более или менее округленных теорий. В 1735 г. Демаллье в своем сочинении «Телльямед или беседы Индийского философа с французским миссионером» развивает мысль, что животные появлялись на земле постепенно, что сперва образовались морские животные, затем, с увеличением суши, из них развились земноводные, и, наконец, от этих произошли наземные. Человек, по его понятиям, также явился из моря, и Демаллье приводит множество самых невероятных и фантастических рассказов всех времен о различных человекоподобных водяных существах, «морских людях», несколько экземпляров которых было поймано будто бы живьем в различное время моряками в открытом море. Как ни странной казалась бы такая теория о происхождении человека из моря, однако, с различными вариациями, мы встречаем ее у многих мыслителей, даже в относительно весьма неотдаленное от нас время. Так, например, ее принимал в тридцатых годах нашего столетия известный натурфилософ Окен, по мнению которого человек, как и все прочие животные, получил начало из морской слизи, из первобытного, свойственного соленой морской воде живого вещества, образующегося постоянно в тех частях моря, где вода приходит в соприкосновение с землей и воздухом, то есть около берегов. Причина же, почему в настоящее время не образуются таким образом люди и животные, Окен объяснял тем, что для этой цели необходимы известный состав воды, известное количество теплоты и известное качество и количество света — условия, которые довольно редко могут быть совмещены одновременно, на одной и той же местности. Другой, более новейший пример подобной же теории, представляет гипотеза известного зоолога-систематика Фитцингера (члена Венской Академии наук), который не далее, как в 1872 году, старался доказать, что первоначальные органические споры, клетки, семена или яйца произошли подобным же образом, как и теперь еще образуются кристаллы неорганических тел, т. е. путем осаждения частиц из жидкой, полужидкой или твердой первобытной массы, насыщенной элементами органической материи. Желтка и белка в этих первоначальных яйцах, говорит он, конечно, должно было быть значительно больше, чем в тех, которые стали производиться позже в телах животных, так как существа, которые развивались из них, не имея возможности найти для себя в окружающей природе достаточной пищи, должны были находиться в яйце и питаться его содержанием до тех пор, покуда они не достигали полного развития. Гораздо чаще, однако, как уже сказано, мы встречаемся с мыслью, что человек произошел от высших форм млекопитающих животных и что ближайшие его родичи — суть антропоморфные представители отряда приматов или четырехруких. Так мы встречаем эту мысль у Итальянца Москати (1770) и Голландца Шраге, которые доказывали, что хождение на двух ногах не составляет прирожденной способности человека, так как некогда-де человек ходил на четвереньках, как и обезьяна; у Джемса Бёрнета, который принимал, что оранг-утан принадлежит к одному виду с человеком, с которым он сходен не только по своей физической организации, но и своей духовной природе, по обладанию значительной долей «гуманности»; у Лорда Монбоддо, который предполагает, что человек находился некогда на той же ступени развития, как и оранг-утан, и который в то же время считал анропоморфных обезьян Зап. Африки (Чимпанзе), за особую нацию «диких людей»; у Деламетри и Бори де Сент-Венсана, которые думали, что если бы дать Чимпанзе или Орангу надлежащее образование, воспитывать их с раннего детства в среде образованных людей, в особенности, если бы можно было продолжить это воспитание в продолжении нескольких поколений, то, по всей вероятности, умственные способности их достигли бы того же уровня, как и у человека, и они, несомненно, получили бы дар слова. Подобные же мысли мы встречаем также у Вирея, Гердера, Канта, Эт. Жофруа Сент-Илера и многих других. Никто, однако же, не изложил их с такой ясностью и подробностью, как знаменитый французский зоолог Ж. Б. Ламарк, который в своей известной «Философии зоологии» (1809), выразил мнение, что «если бы человек не отличался от животных ничем другим, кроме особенностей своей организации, и если бы мы не знали, что происхождение его совершенно иное, — то можно было бы доказать, что все отличительные признаки его организации суть не что иное, как результаты изменений в его повадках, последовавших в древние времена и привычек, которые он приобрел мало-помалу и которые сделались характеристичными для всех особей его вида». Такое убеждение являлось у Ламарка как выводы из его общей теории о происхождении видов, в которой он старался показать, что все признаки, отличающие различные виды животных, образовались не разом, а постепенно, вследствие последовательных изменений в строении и отправлениях органов, обусловленных их большим или меньшим употреблением; что, в свою очередь, было вызвано изменением привычек или повадок, соответственно появлению новых требований со стороны окружающих условий. Так как, по мнению Ламарка, из всех животных наиболее совершенным и близким к человеку по своей организации, должен считаться Чимпанзе, то Ламарк и пришел к заключению, что этот вид обезьян всего скорее мог бы считаться нашим прародичем, некоторые потомки которого, оставляя мало-помалу, вследствие стечения обстоятельств, свою привычку лазить по деревьям и употреблять ноги вместо рук, приучались ходить по земле, держаться вертикально и употреблять свои задние конечности исключительно для хождения, что, в совокупности, вызвав новые потребности, привычки и изменения органов, содействовало вместе с тем развитию умственных способностей и в конце концов обусловило происхождение человека со всеми особенностями его физической и психической природы. Эта теория Ламарка, несмотря на то, что она представляла гораздо более научный вид, чем все прежние гипотезы и фантазии в том же роде, обратила на себя, однако же, весьма мало внимания; можно сказать даже, что она прошла совершенно бесследно в науке, не вызвав ни достаточно основательных возражений, ни исследований, которые бы ее подтверждали и развивали далее. Большинство натуралистов, по примеру Кювье, ее совершенно игнорировало, а если некоторые и упоминали о ней вскользь, то только для того, по-видимому, чтобы выставить ее как пример научного заблуждения или чтобы поглумиться над ее, во всяком случае, далеко не дюжинным основателем. Отчасти такой факт может быть объяснен тем обстоятельством, что в это время материалистические воззрения XVIII века стали вообще вызывать против себя значительную реакцию, а с другой стороны тем, что в зоологии в это время, под влиянием авторитета Кювье, теория постоянства и неизменяемости видов приобрела в глазах ученых значение такой несомненной научной истины, что восставать против нее значило уронить себя в глазах всех специалистов. Такое состояние вещей продолжалось всю первую половину нынешнего столетия до его шестидесятых годов. За описанием высших позвоночных животных наука обратилась к изучению низших, от описания наружного вида и образа жизни перешла к исследованию строения, развития, географического распространения и геологической последовательности. Мало-помалу количество фактов всё увеличивалось, материалу накоплялось всё больше и больше, списки животных беспрестанно пополнялись новыми видами. Незаметно и смутно стала сознаваться потребность обработать этот материал, обобщить отдельные факты, перейти от анализа к синтезу. Необходимость такого синтеза сознавалась многими натуралистами, но никто не решался выступить с новой теорией, ни у кого не хватало сил придать ей научную форму, подтвердить достаточным числом доказательств, установить необходимые законы. Наконец такой человек нашелся в лице английского натуралиста Дарвина, и созданная им теория происхождения видов, путем природной отборки родичей, оказалась настолько соответствующей потребностям времени, что не прошло и десятка лет со времени ее обнародования, как она была принята почти всеми известными натуралистами и сделалась исходной точкой для множества специальных работ, имеющих целью объяснить непонятные до того времени биологические факты или добиться разрешения некоторых весьма сложных антропологических вопросов. Раз принятая в ее основных положениях, эта теория несомненно должна была привести к убеждению, что цепь, связывающая между собой узами родства все виды существующих и существовавших некогда животных, не могут миновать человека, или, выражаясь проще, что особенности человеческой природы должны быть рассматриваемы как явления общего прогресса органического мира, как результаты естественного подбора, вырабатывавшиеся постепенно, в течение долгого периода времени. Это убеждение было неизбежно как дедуктивный вывод из теории Дарвина, и если сам Дарвин на первых порах и не счел нужным его высказать, то это сделали другие, а, наконец, и сам Дарвин решился выступить в его защиту и подтвердить несколькими новыми фактами и соображениями. В том виде, в каком эта теория происхождения человека является в настоящее время, в сочинениях Дарвина, Гёксли, Геккеля, Фохта, Уоллеса, Клапареда и др., она представляет приблизительно следующее. Человек, по всем существенным особенностям своей физической организации, точно так же как и своего эмбрионального развития, принадлежит к группе одноутробных, дископлацентарных млекопитающих животных и именно к высшим ее представителям, отряду Приматов или обезьян. Это сходство в организации и развитии не может быть объяснено ни чем иным, как взаимным родством и действительной генетической связью, которая может быть прослежена далеко за пределы отряда Приматов, до двуутробок, рыб, асцидий, даже до наиболее простейших организмов — первобытных амёб или монер. Ближайшую же генетическую ступень представляют Приматы и именно семейство узконосых обезьян (Catarrhini) или обезьян старого света, которые представляют такое же число и расположение зубов, как и у человека и, подобно ему, обладают сходно устроенными ноздрями. Существуют некоторые факты, как напр. явления атавизма и так называемых зачаточных органов, на основании которых можно даже воссоздать до некоторой степени, в воображении, тип тех узконосых приматов, потомство которых послужило, так сказать, ареной для действий естественного подбора в его последовательном шествии к человеку. Это были, говорит Дарвин, животные, покрытые шерстью, с бородами у обоих полов; их уши были заострены кверху и имели способность двигаться; их туловище оканчивалось хвостом, управляемым особыми мышцами, которые теперь являются у человека только как случайные аномалии, но присутствие которых составляет норму у обезьян. Их нога, подобная обезьяньей, обладала способностью схватывать предметы, и по своему образу жизни это были, несомненно, животные лазающие, обитавшие в жаркой и лесистой стране. Наконец, самцы их были снабжены большими, острыми клыками, которые составляли для них весьма существенное орудие защиты. Так как антропоморфные обезьяны, Горилла, Чимпанзе, Оранг стоят всего ближе к человеку, как по своему внешнему виду, между прочим, величине роста, отсутствию хвоста и седалищных мозолей, так и по анатомическим способностям своего строения, и так как, с другой стороны, невероятно, чтобы какой-нибудь член более низшей группы обезьян, мог бы, по закону аналогичных изменений, произвести, помимо группы антропоморфных обезьян, человекоподобное существо, сходное в столь многих отношениях с последними, то необходимо допустить, говорит Дарвин, что генетическое развитие человеческого типа шло, так сказать, через посредство этой последней бесхвостой группы узконосых приматов (Catarrhina Lipocerca). Впрочем, мы отнюдь не должны предполагать, говорит он и его последователи, чтобы эти промежуточные ступени были тождественны с которым-либо из ныне существующих видов; мы должны помнить, что с тех пор протек громадный период времени, в продолжении которого большая часть существовавших некогда форм вымерла, и место их заступили другие, хотя и происшедшие от них же, но уже значительно преобразованные действием естественного подбора. Притом, многие психические особенности человеческой природы заставляют предположить, что эти древние, промежуточные существа уже тогда отличались развитием своих духовных способностей, гораздо более высоким, чем у какого-либо из ныне живущих обезьян, точно так же, как и обладанием некоторой, хотя бы и весьма несовершенной формы речи. Так, по крайней мере, думает Дарвин; но другие натуралисты, как, например, Геккель и Уоллес, полагают, что, наоборот, человек получил все главнейшие отличительные признаки своей физической организации ранее развития многих из своих духовных способностей, в особенности дара слова и связанных с ним высшего самосознания и образования понятий; так что, следовательно, некоторый период времени человек, хотя и имел вид человека, но был нем и по своему духовному развитию стоял почти наравне с обезьяной (Alalus, Pithecantropos Haeck). Затем, мало-помалу он развил в себе способность речи, научился простейшим ремеслам, как, например, изготовлению каменных и костяных орудий, глиняной посуды и пр., расширил несколько круг своих понятий и стал уже настоящим «первобытным человеком», особи которого уже тогда распадались на два типа или расы — гладко- и шерсто-волосых, из коих первая походила к нынешним Австралийцам, а вторая напоминала в значительной степени Папуасов. Причина, или вернее, процесс, обусловивший ряд этих изменений, был тот же, как и при образовании вообще органических видов, то есть заключался главным образом в естественном и половом подборе всех тех особей, которые оказывались способнейшими и счастливейшими в борьбе за существование и за самок, т. е. на стороне которых оказывалось наиболее шансов продлить свое существование и передать свои особенности большему числу потомства. Некоторое влияние могло иметь также большее или меньшее употребление известных органов, а также, хотя в весьма ограниченной степени, и прямое действие внешних условий. Такова приблизительно сущность теории, развитой Дарвином и его последователями и разделяемой в настоящее время многими из наиболее известных современных зоологов и антропологов. Благодаря своей кажущейся простоте, наглядной и конкретной форме, она в короткое время получила значительное распространение и в массе публики, что отчасти весьма понятно и естественно. Сходство обезьян с человеком бросается в глаза каждому, а первобытные народы, как мы видели, не задумываются во многих случаях считать их непосредственными своими родичами; поэтому, нет ничего удивительного, что если является теория, которая на основании доводов науки развивает ту же мысль, что является смутно сама собой при первой попытке объяснить сходство между человеком и обезьяной, — что эта теория имеет все шансы сделаться общепринятой. Другой вопрос, насколько она принимается публикой сознательно, — насколько распространены и как обширны те элементарные сведения, которые необходимы для правильной, объективной ее оценки, — насколько верны те понятия и как велик тот запас фактов, которые имеются в публике относительно особенностей типа обезьян в сравнении с типом человека, относительно видоизменений, представляемых обоими типами, особенно последним, на различных ступенях развития, пределов их изменчивости и пр., что всё необходимо для того, чтобы иметь возможность сколько-нибудь ориентироваться в данном вопросе и составить хотя бы приблизительное понятие о степени достоверности теории как в ее основной мысли, так и в ее отдельных доводах и выводах. С этой точки зрения нельзя не согласиться, что многие из ходящих до настоящего времени в публике антропологических понятий — довольно смутны и сбивчивы, а частью — даже положительно неверны и преувеличены. С другой стороны, и самая теория, по крайней мере в том виде, как она излагается перед публикой в большинстве (преимущественно популярных) сочинений, страдает некоторой, часто весьма заметной, односторонностью. Большей частью при этом указываются с достаточной подробностью только те черты строения, которые могут считаться общими для обоих типов, и подбираются с заметным предпочтением только те факты, которые, как бы ни были они иногда маловажны или исключительны, могут быть объяснены в смысле благоприятном для теории; о различиях же говорится обыкновенно кратко и глухо, затруднительные факты обходятся, другие же, сознательно или бессознательно, иногда явно преувеличиваются и искажаются. Между тем, позволительно думать, что в вопросе настолько сложном и важном по своим выводам, как вопрос о происхождении человека, необходима значительная доля осторожности, что имеющиеся факты должны быть принимаемы все как они есть, и гипотеза, синтез — должны быть допущены лишь настолько, насколько они непосредственно вытекают из фактов и не более, хотя общий вывод и мог бы заметно пострадать оттого в своей законченности и конкретности. На первом плане должно стоять, конечно, по возможности популярное и обстоятельное ознакомление с самими фактами, с состоянием вопроса и с материалами, имеющимися для его разрешения, и в этом отношении всякая попытка содействовать возможно наглядному ознакомлению с имеющимися в науке данными может считаться до некоторой степени оправданной, в особенности, если изложение имеет задачей сохранить возможно объективный характер. А такую цель и имеет в виду настоящая статья, которая может быть рассматриваема как пробный пример подобной попытки. 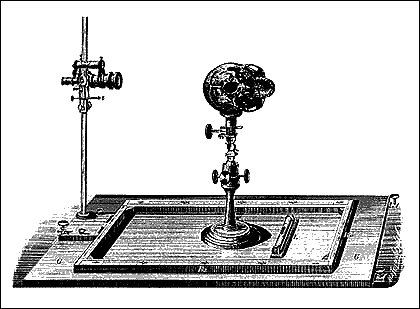 |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
