|
||||
|
|
Часть 1 Метаформа ушу
Автор признателен всем тем, кто принимал участие в обсуждении концепции первой части у нас в стране, в Китае и в Великобритании. Искренняя благодарность — моим учителям как в ушу, так и в китаеведении, с надеждой оправдать их усилия, а также многим моим товарищам, без которых эта книга не была бы написана и издана. Глава 1 Молчащая культура
Примеряя китайские одежды С чем можно сравнить китайскую культурную традицию в том виде, в котором соприкасается с ней европеец, хотя бы в общих чертах знакомый с ее историей, языком и обычаями? Пожалуй, с тонкой, прозрачной, но при этом абсолютно непроницаемой тканью. Мы прекрасно видим, что творится за этой почти эфемерной перегородкой, и все же не можем проникнуть сквозь нее. Мы видим и знаем, какие люди находятся по ту сторону, какие отношения складываются между ними, чем они дышат и живут, но, увы, не способны сами приобщиться к этому зазеркальному миру. Мир за этой перегородкой духовно полноценен, каждая его часть является взаимопреемлющей. Так, в ушу философия не отделена от приемов, равно как и во всей китайской культуре практика вообще неотличима от духовного совершенствования. Здесь символ един со своей порой абсурдно простой, но всегда природно-естественной формой, мастерство неотличимо от святотатства. Именно эту ткань, которую мы начинаем все реальнее и реальнее ощущать при изучении боевых искусств, мы и понимаем как традицию, а отсюда становится понятным, что такое «жить внутри традиции». Лишь единицы западных людей сумели, не нарушив кисейной тонкости этого мира, войти в него, стать преемниками школ и воспринять ушу именно в таком виде, как его воспринимают китайские мастера, — как путь духовного преемствования воли древних мудрецов. Для Дальнего Востока боевые искусства всегда были полифункциональны, они одновременно являлись и искусством самозащиты и способом состязаний, ритуальным видом спорта и методом превентивной медицины, духовной дисциплиной и способом социально-культурного воспитания, символической самореализацией человека в пространстве священных сил космоса и колоссальным зрелищем. Что-то со временем отошло на задний план, что-то размылось и превратилось лишь в воспоминание о временах «высокой древности» и силе духа ее мастеров. Китай стал колыбелью всех восточных боевых искусств. Японские каратэ и айкидо, корейское хварандо, индонезийский пенчак-силат, вьетнамское вьетводао — все они так или иначе своими корнями связаны с Поднебесной империей. Правда, не все сегодня громко заявляют об этом, кому же хочется «терять самостоятельность». Но факт остается фактом, практически все боевые искусства вышли из ушу, даже создатель каратэ Фунакоси Гитин признавал, что «каратэ — это китайское боевое искусство», ведь сначала даже многие названия в каратэ были китайскими. Но, как ни странно, на Западе о китайских боевых искусствах узнали значительно позже, чем о каратэ, и до сих пор немногие хорошо разбираются в его стилях и направлениях. Дело в том, что в ушу существует несколько тысяч лишь основных стилей, подчас абсолютно непохожих друг на друга. Только к одному шаолиньскому направлению ушу относят около четырехсот стилей! Даже китайские знатоки ушу зачастую не могут перечислить их названия. Основной парадокс, может быть, заключается в том, что о китайских боевых искусствах мы узнали не с Востока, не из их колыбели, но с Запада. Именно там открывали свои школы сотни китайских иммигрантов, активно заселявших Западную Европу и США еще с начала прошлого века. Больше всего эмигрировали из южных китайских провинций, сначала ехали зачастую на Гавайи, в Австралию, Малайзию, а затем перебирались и на Запад. Не случайно, что первыми стилями, о которых узнали европейцы, были именно южные стили ушу, например, знаменитые хунгар (хунцзяцюань) и винчунь (юнчунь). Справедливости ради признаем, что большинство таких школ, открытых китайцами на Западе, мало соотносились с истинной традицией ушу, и, скажем, американский винчунь мало похож на своего китайского собрата, однако такие школы позволяли китайцам заработать немного денег и выжить среди «варваров». О загадочных китайских боевых искусствах говорили еще в 60-х годах, но настоящий бум начался приблизительно с начала 70-х. Слово «ушу» тогда практически никому не было известно, зато прижилось слово «кунфу». Именно так называли боевые искусства в ряде южных районов Китая и так их именовали в тайных обществах, которые переместились из Китая в США, а позже и в Европу еще в начале века. Ни для кого не было секретом, что большинство залов для занятий кунфу — «квонов» (искаженное от китайского «гуань») — принадлежат именно тайным обществам «Белого солнца», «Неба и Земли», которые из организаций взаимопомощи стремительно трансформировались в гангстерские группировки. Поскольку на Западе сначала широко употребляли не слово «ушу», а слово «кунфу», то часто спрашивают — чем ушу отличается от кунфу? Ничем, никаких существенных различий между ними нет. Хотя первоначально они означали совсем разные вещи. Дело в том, что на протяжении многих сотен лет для китайских боевых искусств использовали разные названия, например «ушу», «уи» (и то и другое переводится просто как «боевые искусства»), «цюаньшу» и т. д. Знаменитое сегодня слово «ушу» стало употребляться лишь в III в., но уже в те времена означало для китайцев не просто способы боя. Кунфу в китайском нормативном произношении произносится как «гунфу» и дословно означает «высшее мастерство», «чудесное умение», «упорная работа», «мастерский труд». Не сразу слово «гунфу» стало применяться по отношению к боевым искусствам, например, в XII веке в китайской философии оно означало высший этап совершенствования человека, когда он занимается самовоспитанием или созерцанием (медитацией). Позже, когда боевые искусства достигли в Китае пика своего развития, многие их поклонники осознали, что через занятия ушу можно прийти к такому же просветлению сознания, такому же совершенству духа, как, скажем, в буддизме или конфуцианстве. Тогда слово «гунфу» стало обозначать весь комплекс боевых искусств. Интересно, что долгое время Запад вообще не знал, как называются китайские боевые искусства, — первоначально их называли просто «китайским боксом», а известный популяризатор боевых искусств Эд Паркер вообще именовал их «китайским каратэ». Распространение кунфу было связано со словом «тайна» — «тайная техника», «тайные смертельные прикосновения к болевым точкам», «тайный удар». В журналах помещались даже фотографии людей в масках и подобиях китайских одеяний — объяснялось, что это и есть истинные мастера кунфу, которые не рискуют показать лицо, иначе их якобы тотчас найдут и убьют китайские коллеги за раскрытие страшных тайн. Несложно догадаться, сколь эффектно срабатывали такие трюки. Кунфу стало в одно время даже более популярным, чем каратэ. С одной стороны, каратэ уже несколько приелось западной публике, с другой стороны, стало ясно, что занятия каратэ требуют регулярных и достаточно трудоемких тренировок, в то время как немало поклонников кунфу надеялись, что мастерства можно достичь и без изнурительной работы, лишь овладев «внутренней энергией». К тому же каратэ уже к середине 70-х годов имело четкие правила и строгую систему соревнований, подделки под каратэ были достаточно сложны. Таким образом, под понятие «кунфу» подпадало все то, что не являлось каратэ, в том числе и многочисленные выдумки. Параллельно с этим ошеломляющий эффект на западную публику производит личность Брюса Ли — человека, чей образ во многом «сделан» рекламой, но, безусловно, талантливого. Он впервые показывает на экране не маленького и вечно униженного китайца-слугу, но прекрасного бойца, который побеждает европейцев. У него кунфу — не просто «махания руками», как до этого представляли многие, но реальное боевое искусство. Популярность кунфу, равно как и всего китайского, резко пошла вверх, а трагическая и загадочная смерть Маленького Дракона лишь прибавила ажиотажа вокруг боевых искусств. Правда, знания собственно китайского ушу у Брюса Ли были достаточно поверхностными, свою технику он в основном базировал на собственных изысканиях и изучении английского бокса, но публика, естественно, принимала все это за истинное кунфу.[1] Затем в середине 70-х годов появляются книги Р. Хаберзетцера, Д. Дрэгера, Р. Смита, Э. Паркера, Д. Гилби, ставшие бестселлерами в мире боевых искусств. Практически они и сформировали западный подход к ушу. Хаберзетцер впервые рассказал о «внешних» и «внутренних» школах, однако столь сильно запутался в истории ушу, классификации стилей и столь сильно переврал все названия, что это свело на нет весь эффект его книги. Д. Гилби рассказывал о тайных мягких ударах, о секретных ударах с ничтожно малой дистанции, отбрасывающих человека на два метра, о некоем «освобожденном боксе» — отсутствии какой-либо системы для введения противника в заблуждение.[2] К самой сути ушу, к его внутренней традиции все это имело достаточно косвенное отношение, ушу рассматривалось как продолжение каратэ — только более загадочное и экзотическое. Кунфу просто оказалось той почвой, к которой можно было приписать любые собственные фантазии. И все же книги имели ошеломляющий успех и, что самое поразительное, пользуются популярностью и по сей день. Тем парадоксальнее кажется, что в основе большинства из них не лежит практически никакого достоверного материала, кроме слухов, бродивших вокруг «загадочного кунфу». В лучшем случае местом «изучения» кунфу становился Гонконг — английская колония на территории Китая, где преподаватели ушу далеко не самого высокого уровня зарабатывали деньги на энтузиазме европейцев. Сколь ни нелепы были рассказы и сколь мало они ни совпадали с китайской реальностью, что можно было увидеть даже невооруженным взглядом, им охотно верили, поскольку такие истории целиком отвечали западному стереотипу о кунфу. По существу, упоминания о китайском ушу служили лишь «трамплином», от которого отталкивалась западная фантазия. Там, где «наука об ушу» не получилась, тотчас возник «миф об ушу». Нимало не заботясь о правдоподобности, десятки книг и сотни статей на Западе, а затем и у нас в стране рассказывали небылицы о «коридорах смерти» Шаолиня, таинственных монахах, тайных методах боя, не удосуживаясь заглянуть в саму китайскую культуру. Здесь можно задать до странности примитивный вопрос, на который, однако, еще никто не сумел дать ответ: как можно было рассказывать об ушу, ни разу не заглянув в китайские хроники и трактаты, не выяснив той многозвенной цепи событий, которая привела к складыванию такого сложного феномена, как китайские боевые искусства. Откуда же брались основные факты таких книг? Неужели исключительно «из головы»? Как ни странно, западное сознание допускает такое. Напомним, что нуждаются не столько в рассказе о действительном положении вещей (такой рассказ может оказаться слишком сложным и непривычным для восприятия), но в веселых и экзотически-таинственных байках. Ушу все дальше и дальше уходит от реальности, и переизданные во многих странах книги Смита, Гилби лишь подкрепляют эти сказочные рассказы. На помощь пришел и кинематограф, выдавший целую обойму боевиков с участием Брюса Ли, Чака Норриса, Джекки Чана и тем самым создавший «свой», нигде, кроме как в кино, не встречающийся мир боевых искусств. Истинное ушу осталось в далекой дымке древних и современных легенд Китая и Запада. Как результат взлета популярности всего «китайского», началось создание собственных, чисто западных стилей ушу. Естественно, что в авторстве никто признаваться не хотел, и в основном прикрывались древней китайской традицией. Изобретались собственные стили, представлявшие собой причудливую смесь каратэ, айкидо, простейшего рукопашного боя и «философских откровений». Древнее китайское искусство переместилось из области культурной традиции в область фантазий и философских спекуляций. Зачастую делалось и так — бралось название реально существующего в Китае стиля и под него подводилось совсем иное содержание, фактически собственное изобретение. Так, например, вне Китая возникли небывалые формы стилей хунгар, чой, винчунь, чойлифут, которые даже отдаленно не напоминали своих китайских «однофамильцев». Выдумывание ушу снимает для многих людей одну немаловажную проблему — проблему собственной интеллектуальной слабости или элементарной лени в изучении боевых искусств. Нетрудно стать «законодателем мод» в том стиле, который сам изобрел. На Западе практически вся комплексность ушу отошла в сторону, оказалась непонятной, практически недостижимой. С одной стороны, это объясняется тем, что никаких аналогов Запад не знал. С другой стороны, боевые искусства приходят сюда скорее как мода, как способ урегулировать свои психические проблемы, подобно тому как в США, Великобритании и Франции существует в каждом городе несколько десятков, а то и сотен школ медитации, которые неправомерно связывают себя обычно с дзэн-буддизмом. Это скорее дань моде заботы о своем психическом здоровье, нежели дань уважения живой духовности Востока. Подавляющее большинство китайцев, преподающих на Западе, весьма посредственно ориентируются в боевых искусствах (смею утверждать это по собственному опыту обследования китайских клубов в Англии, в том числе в лондонском Чайна-тауне), к тому же быстро превратили это в поточный способ делания денег. Например, одна из самых известных наследниц реальной традиции тайцзицюань, дочь одного из величайших мастеров Китая начала нашего века, ведет одновременно свыше десятка групп в разных городах, приблизительно по два-три занятия в месяц для каждой группы. Несложно понять, что реальная передача традиции теряется, к тому же западные люди не привыкли тренироваться по нескольку часов в день самостоятельно, без присмотра инструктора. Интересно, что большинство людей на Западе тренируются именно ради здоровья, что они и сами неустанно любят подтверждать. Таким образом, предполагаемая глубина боевых искусств редуцирована либо до несложных оздоровительных комплексов, либо до системы боя, в которой больше рекламы, нежели реальной пользы хотя бы для самозащиты. Но не только для западных людей недоступен в своей полноте мир традиционных боевых искусств, зачастую он закрыт и для китайцев. Думается, дело здесь не в этнической принадлежности, хотя, конечно, знание языка, умение общаться и слушать играют здесь далеко не последнюю роль. Истинное ушу — в какой-то степени элитарное занятие — дело аристократии духа. Сегодня, как и в древности, в Китае немало людей страстно ищут настоящих, подлинных мастеров, а найдя, просятся к ним в ученики. Но большинство ожидает отказ. Немало спортсменов-ушуистов, уходя из большого спорта, также желают заняться истинным ушу, но время для многих уже потеряно, у них сформировались иные жизненные ориентиры, другой внутренний настрой и понимание форм ушу. Сейчас, как и много веков назад, через каналы ушу идет преемствование основных культурных ценностей прошлого. Через боевые искусства китайцы не просто узнают, но и осознают реальность многих философских понятий, приобщаются к образам героев древности. Занимаясь ушу, они вдыхают в себя ароматы живой истории. Казалось бы, на фоне массового спорта, огромных усилий по исследованию стилей ушу, массового создания институтов и коммерческих организаций по преподаванию ушу, традиция боевых искусств обречена на умирание. Например, иностранец может сегодня «купить» ушу, заплатив определенную сумму за обучение в Академии ушу, во Дворце ушу неподалеку от Шаолиньского монастыря, а то и просто в обычной секции. Естественно, что после непродолжительных занятий его ожидает долгожданный диплом. И все же чистая струя «истинного ушу» существует, она струится меж камней рекламы, экзотики и формализации, скрываясь от глаз массового, но слепого энтузиазма, оберегая себя от замутнения. Она практически не видна для не посвященных в тонкости материи ушу, но присутствие ее постоянно ощущается. Иногда в глухой деревне встретишь такое удивительное искусство, которое и не снилось современным спортсменам. То кто-то покажет как высшую ценность старый трактат известного мастера по ушу, доставшийся по наследству, и даст такую блестящую трактовку каждой его фразе, которая поразила бы даже искушенных комментаторов и «книжников». Иногда рано утром, лишь только взойдет солнце, в парке встретишь человека, к которому знающие люди даже не советуют подходить, потому что «это великий мастер, и стоять с ним рядом — неудобно». То место, где он обычно тренируется, нельзя никому занимать. А заговорит он с тобой лишь в том случае, если ты будешь представлен известным человеком из мира традиционного ушу, да и то не всегда. Многие китайцы, сами не будучи большими знатоками и не разбираясь досконально в ушу, все же прекрасно знакомы со всеми правилами общения. Это особый такт ненавязчивой культуры, тонкая осторожность в общении, исторически присущая Китаю. Бестактность здесь абсолютно невероятна, ибо уважение к ушу и к носителям его традиций воспитывается с детства. А вот для большинства западных людей это практически невозможно — нам хочется все получить немедленно, лишь при одной просьбе. За желанием что-то узнать или даже овладеть ушу нередко сквозят апломб и незаметное для нас самих высокомерие — нас должны обучать уже потому, что мы пришли к учителю. А последствия этого можно встретить повсеместно: здесь и варварское искажение стилей, всевозможные выдумки и переводы книг, вызывающие восхищение лишь одной фантазией переводившего. Здесь же и целый ряд работ, где под громкими названиями «традиций ушу», «боевых искусств мира» кроется собрание грандиозных нелепостей, ничего общего с Китаем и ушу не имеющих.[3] Здесь же и обыкновенный меркантилизм, в то время как Конфуций был готов обучать «и за связку сухого мяса». Все это лишь отдаляет от действительных ценностей ушу, а доселе прозрачная ткань традиции становится непроницаемой даже для взгляда. В этот момент китайская традиция перестает хоть как-нибудь соотноситься с нами, и культура замолкает. Она становится мертвым слепком с самой себя, музейным экспонатом, превращаясь в набор привлекательных названий и экзотических приемов. Китайские корни западного мифа Долгое время европейцы не могли разобраться ни в истоках ушу, ни в его истории, ни в его воздействии на китайскую культуру. Мешали тому, с одной стороны, сильные европоцентристские стереотипы, с другой стороны, китайская мифология, скрывавшая за своим флером действительную историю ушу. Как ни странно, первые упоминания о китайских боевых искусствах были связаны с Японией. В начале века большую популярность приобретает джиу-джитсу, точнее — некие японские «приемчики», которые европейцы и принимали за джиу-джитсу. Пришли эти «приемчики» в Европу и Америку вместе с американскими солдатами, вернувшимися из Японии. Стали открываться первые секции джиу-джитсу и дзюдо во Франции, причем пропаганде этих единоборств в немалой степени способствовали сами японцы, прекрасно понимавшие, что на этом можно сделать неплохие деньги. Западные люди, начавшие ценить японскую живопись, обратили внимание, что знаменитый японский художник Хокусай иллюстрировал некоторые пособия по джиу-джитсу. И вот на такой волне популярности ряд известных востоковедов на рубеже XX века вспомнил, что на самом деле родина джиу-джитсу находится в Китае. Статья знаменитого китаеведа Герберта Эберхарда, опубликования в начале 10-х годов нашего века, так и называлась — «Дом джиу-джитсу», и посвящена она была ушу в Китае. Но эта первая попытка разобраться в истоках боевых искусств Дальнего Востока так и осталась незамеченной, никто из фанатов джиу-джитсу даже не обратил на нее внимание. Но вот необычный факт, который не может не насторожить нас: Эберхард, прекрасный знаток китайской культуры, народных верований и праздников, даже ни разу не упомянул слово «ушу»! Цитируя древние хроники и трактаты, он так и оставил китайские боевые искусства безымянными, иногда именуя их «китайской формой джиу-джитсу».[4] Может быть, такую безымянную форму подачи материала Эберхард выбрал лишь для того, чтобы не затруднять чтение своей работы неискушенным в китайских терминах читателям? Но почему же тогда он ничего не говорит о колоссальном количестве занимающихся ушу в Китае, в то время как практически не существовало такой деревни, где не было бы своей школы ушу? Но с тем же необычным явлением мы сталкиваемся, читая работы самого известного российского китаеведа академика В. М. Алексеева. В начале нашего века он вместе с французским, исследователем Э. Шаванном объехал практически весь Китай, побывав даже в самых глухих деревнях. Заезжал он и в Шаолиньский монастырь в провинции Фуцзянь, где отметил настенные фрески, изображающие сражающихся монахов. Но все это для В. М. Алексеева было лишь историей — ни слова об ушу в современном ему Китае он не написал. Неужели не заметил, проехав сотни километров по всему Китаю? Думается, ответ здесь в другом, равно как и в случае с Эберхардом. Прекрасно развитый западный ум улавливал в китайской культуре лишь те реалии, которые привык видеть на Западе. Мы встречаем доскональные описания китайской архитектуры, удивительно меткие замечания по поводу традиций и обычаев народа, но ни слова об ушу, которое в то время было неотделимо от повседневной жизни Китая. Западный ум просто отказывался воспринимать боевые искусства как самостоятельное явление культуры, как явление высшего цивилизационного порядка. Блестящие ученые замечали лишь то, что имело аналоги в западной культуре, ушу же долгое время оставалось «за кадром». Оно в лучшем случае рассматривалось либо как народная забава, либо как обычное воинское ремесло, давным-давно отошедшее в прошлое. Мало кто мог предположить, что все императоры Китая и даже его новые руководители — Сунь Ятсен, а позже и Чан Кайши — были большими поклонниками боевых искусств. Но, как ни странно, корни западного мифа об ушу лежат именно в Китае. И относится это прежде всего к версии о весьма древнем возникновении ушу. В отличие от Запада, для Китая абсолютно точное следование истинной форме ушу есть принцип и идеал традиции. Лейтмотивом всей китайской культуры является почитание древности. Причем это не просто уважительное отношение к делам давно минувших дней, но ценностное мерило дел сегодняшних. Весь процесс истории воспринимается исключительно как передача духовных ценностей, сакрального «пути Неба» от первомудрецов к их потомкам; не случайно по-китайски понятие «история» трактуется именно как связь между духом предков и современников. В китайском языке это обозначается термином «гуцзинь» — «древность — современность». Не случайно всякий стиль ушу несет в себе миф о своей весьма древней истории, и занятия этим стилем для китайца превращаются в путь следования древним мудрецам. Древность выступает здесь даже не столько как призыв вернуться в прошлое, но как регулятор социального поведения сегодняшнего дня; не случайно в Китае считалось, что в «высокой древности» царствовали справедливость, человеколюбие и естественность жизни, к которым и следует вернуться. Поэтому для Китая становилось жизненно важным углубить историю того или иного явления, в том числе и ушу, до легендарных основателей Китая, до предела древности, когда оно приобретало бы абсолютную ценность изначальной реальности. Истинное ушу для китайского сознания не могло искажаться или «переделываться», ибо это было бы равнозначным «подправлению» древних идеалов. И, таким образом, зерна реальной истории боевых искусств падали на мифоло-гизированное китайское сознание, а оно отражало лишь то, что комфортно воспринимается им. Так возник миф о глубокой древности и «изначальности» ушу, хотя первые стили в реальности возникли никак не раньше XV века. Но западные поклонники ушу попались в эту ловушку китайского восприятия истории и доверчиво относят истоки ушу едва ли не за два тысячелетия до нашей эры. Но, может быть, мы найдем реальную историю ушу в китайских книгах? Но нет, как ни странно, даже сегодня большинство китайских книг с удивительным упорством либо описывают древние мифы, либо представляют собой сборники не связанных между собой выписок из династийных историй и уездных хроник. Авторский же текст — по сути, это связки между цитатами — дает их переложение с древнего китайского языка на современный. Парадоксален на первый взгляд тот факт, что в КНР не создано практически ни одной работы, пытающейся осмыслить ушу как социокультурный феномен. Однако этот факт не столько удивителен, сколько характерен. Китайская общая концепция развития ушу, лежащая в лоне чеканного материализма, сводится приблизительно к следующему. Ушу возникло в глубокой древности, в то время, когда в первобытном обществе люди вели ожесточенную борьбу за выживание и занимались охотой. Орудия труда одновременно являлись и орудиями ведения боя. В этой борьбе путем естественного отбора начали складываться примитивные способы оборонительной и наступательной техники при использовании рук, ног и простейшего оружия. Это и стало ростками ушу. Затем с началом активной межплеменной борьбы такое раннее ушу стало использоваться в борьбе за господство. Постепенно оно стало, с одной стороны, видом армейской тренировки, а с другой стороны, народной забавой. По китайским концепциям, ушу плавно и диалектически развивалось по восходящей линии от простого к сложному и постепенно превратилось в массовую систему физической культуры. Наконец, после народной революции 1949 года была проведена реформа ушу. КНР предложила особую концепцию ушу, которая специально не оставляла места тому духовному стержню, на котором строились веками боевые искусства. Вот одно из характерных определений, что такое ушу: «Ушу — это вид спорта, основанный на использовании наступательной и оборонительной техники ударов руками, ногами, захватах, бросках, колющих и рубящих движениях, используемых в комплексах-таолу и поединках, проводимых голыми руками и с оружием… Ушу в Китае носит широкий массовый характер и является традиционным видом физического воспитания с характерными национальными особенностями».[5] Иначе говоря, по современной концепции китайских теоретиков, ушу — это массовый вид физической культуры, развившийся из методов ранней борьбы путем обычного технического усложнения. У нас еще будет возможность выяснить, как в Китае, где столь высоко ценилась именно внутренняя, духовная сторона жизни, ушу стало оцениваться исключительно как «вид спорта». Пока же заметим, что связано это с перерождением, секуляризацией духовной традиции, а осмысление ушу нередко оказывалось заложником тех политических кампаний, которые проходили в новом Китае. Но вот парадокс: во всех китайских работах по ушу роль традиционных философских систем Китая — конфуцианства и в особенности даосизма — почти не затрагивается. Даже в фундаментальном труде Си Юньтая «История китайского ушу», который одним своим названием претендует на всеобъемлемость, этой теме посвящено лишь немногим более страницы! Таким образом, ушу вырастает перед нами как конгломерат чисто механически связанных между собой приемов. Оно лишается внутреннего драматизма, чисто духовного посыла к развитию. Неясным остается самое главное — как передавалось ушу, да и что, собственно, передавалось внутри традиции боевых искусств. Почему эта традиция оказалась столь сильна, столь привлекательна, что охватила собой во времени почти два тысячелетия, а в пространстве — практически все население Китая? Именно на этот главный вопрос нам и предстоит ответить. Глава 2 В преддверии Неба
Метаформа и метафора Сколько бы ни говорили на Западе об ушу — тем не менее, китайские боевые искусства, по существу, остаются до сих пор явлением малоизвестным. Речь идет, конечно, не столько о технической стороне, сколько о внутреннем мире, самом «теле» духовной традиции ушу. Но именно в этом — сущность, в этом — ответ на все вопросы неоднозначной и во многом противоречивой истории ушу. С этой, пожалуй, самой сложной темы мы и начнем разговор. Признаемся: смысл ушу весьма сложно передать словами. Сами китайцы зачастую просто отказывались рассказывать об ушу, советуя в процессе занятий достигнуть внутреннего переживания боевых искусств. Не случайно еще в шаолиньском каноне «Цюаньцзин» («Трактат о кулачном искусстве») с поразительной настойчивостью повторяется фраза: «Это можно постичь мыслью, но нельзя выразить словами». Становится ясно, почему любой китайский знаток ушу без труда перечислит десяток стилей, расскажет пару красочных легенд и все же это ничуть не приблизит нас к смыслу занятий ушу. Какая «сверхцель» преследовалась в процессе занятий боевыми искусствами? 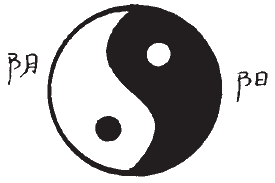 Символическое изображение инь и ян Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны четко уловить разницу между тем, как сами китайцы оценивали ушу, и тем, чем реально боевые искусства явились для китайской культуры. В Китае сложилась определенная культура боевых искусств со своими законами и правилами, со своей литературой и театром, с поэзией и рисунками, учебными заведениями, школами, своей элитой и ритуалами. И в то же время весь этот комплекс был столь плотно интегрирован в повседневную жизнь Китая, во всю китайскую культуру, что мы никогда не сможем четко сказать, где кончается культура «вообще» и начинается культура ушу «в частности». Во всяком случае, для китайцев никаких отличий не существовало, ибо ушу и в рассказах, и в легендах, да и в чисто психологическом восприятии символизировало всекитайскую культуру, и даже более того — ее самые сокровенные, внутренние потоки. Исток такого отношения очевиден: китаец никогда не воспринимал ушу как совокупность приемов, методов тренировки или, скажем, как какой-то отдельный стиль. Ушу для него становилось метаформой священного и внутреннего (в отличие от внешнего и профанного, вполне обыденного) и в то же время метаформой всей культуры. Что такое метаформа в контексте боевых искусств? Мы уже заметили, что на протяжении всей истории китайцы воспринимали ушу не как некое явление, имеющее конкретную сферу применения, скажем, в области сражений или оздоровления организма. Ушу для Китая не имело четко очерченной границы — под него могли подпадать и способы ведения сражений, и медитативные упражнения для достижения просветления, и ритуальные танцы, вызывающие поистине эстетическое наслаждение как для их участников, так и для зрителей. По сути дела, ни один китайский мастер ушу так никогда и не сумел объяснить, что же такое ушу и чем он вообще занимается, — такой вопрос для него мог бы показаться нелепым и вздорным. Ибо в голове живет не четкая структура, не конкретное определение, но образ, форма, постоянно выходящая за собственные границы и постоянно сливающаяся со всей культурой, — метаформа. Китайцы занимались ушу не потому, что это было необходимо в какой-нибудь конкретной ситуации, но потому, что в Китае — и в этом главная особенность именно китайских боевых искусств — ушу превратилось в форму существования культуры и к тому же создало и свою «малую» культуру — литературу, мифологию, формы поведения и взаимоотношений, методы ритуальной деятельности. Мы без труда замечаем, что, говоря об ушу, приходится говорить практически обо всех явлениях китайской культуры, начиная от философии и вплоть до традиций питания и повседневной жизни. Итак, образ ушу, как он сложился в Китае, выступает одновременно как метафора всей китайской культуры, того пространства цивилизации, в котором живет каждый китаец. Мы часто будем говорить об ушу как о мифе. Это отнюдь не означает, что ушу вообще не существовало, скорее наоборот — не было той поры общества, где бы не занимались ушу в той или иной форме. Но в рассказах о боевых искусствах, в династийных историях и житиях мастеров китайцы передавали друг другу не историю ушу, но некую исторически сложившуюся метаформу культурного явления, метафору глобальной имперской культуры. Именно поэтому в историях о возникновении стилей ушу мы встречаем одни и те же сюжеты, будто речь идет собственно об одном стиле, — например, китайца, который сначала не мог овладеть искусством боя, а потом стал учиться у животных и стал мастером; или человека, который воспринял свои знания от мистического бессмертного учителя, который так и не назвал ему своего имени; или китайца, которого никто не хотел учить, и он занимался, тайком подглядывая за занятиями мастеров, и сам стал мастером. Описания мастеров также абсолютно типичны, схожи даже по внешнему облику, будто мы говорим об одном человеке (для китайской культуры так и есть — речь идет о Мистическом Первоучителе). Даже те стили, которые никак не были связаны с глубокими духовными корнями, рассказывают о сложной философии, будучи при этом не в силах изложить, о чем, в сущности, идет речь. Чисто ритуальным и даже ритуально-танцевальным школам ушу приписывается необычайная боевая эффективность, а небольшие, чисто локальные и неэффективные в боевом отношении (например, знаменитый на Западе стиль винчунь, или, правильнее, юнчунь), обрастают мифами о непобедимости и сложной внутренней работе, хотя явно уступают и в том и в другом среднему уровню китайского ушу. Все эти явления возникают по одной простой причине — так велит метаформа культуры, метафора обладания всей совокупностью культурных явлений внутри одного стиля. Итак, попытаемся разобраться, какова была эта культурная метаформа для ушу, что предписывала она понимать под термином «боевые искусства». Семя мира Западный мир не прочь порассуждать о «глубокой философии» восточных боевых искусств. Правда, мало кто обращает внимание, что собственно «философии ушу» или «философии каратэ» не существует, — боевые искусства используют многие духовно-религиозные системы, например, буддизм, даосизм, конфуцианство, преломляя их в своей практике. Какой-то отдельной, особой «философии ушу» не существует, но есть Учение ушу, сотканное из десятков философских направлений и духовного опыта сотен мастеров. О чем же оно говорит? Вчитаемся еще раз в слова известного мастера синъицюань Чэ Ичжая, вынесенные в эпиграф главы: «Пути боевых искусств сходятся к срединному Пути-Дао… И смысл ушу — в постижении этого Дао». Оказывается, что смысл практики ушу заключен не в обыденных тренировках и даже не в доведении своего мастерства до совершенства, но в постижении универсального Пути всех вещей — Дао. Об этом понятии написаны многие мистические трактаты и научные труды, и вряд ли стоит пытаться хотя бы в общем очертить понятие «Пути» в китайской традиции. Мы обратим внимание лишь на то, что сущностно важно для нашего повествования. Дао порождает весь мир, все явления, при этом вечно оставаясь непроявленным и невидимым. Оно обладает абсолютным могуществом и необоримой мощью, и путем сложной духовной практики человек способен достичь гармонии с Дао, слиться с ним. Именно такой человек и именуется в китайской традиции «мастером» или «совершенномудрым». Дао непостижимо умозрительно и находится вне чувственного мира. «В вещах Дао неразличимо-туманно. Неразличимо-туманное, но в нем заключены образы. Туманно-неразличимое, но оно объемлет вещи. Отдаленное и темное, но оно содержит семя».[6] Дао безбрежно, оно дает рождение всем вещам мира и прежде всего «вселенской триаде» — Небу, Земле и Человеку. Это вечно существующая первооснова и толчок любого явления, проявляющаяся в мириадах образов и изменений. Этому потоку нельзя противоречить или «бороться» с ним, так как Дао — Путь всякого явления и человека, и бесконечно мудрым становится лишь тот, кто следует Дао, пестует его, прозревает его проявление внутри себя. «До того как появились Небо и Земля, в середине великой пустоты и безграничности существовала в хаосе пневма-ци, и зовется это состояние Беспредельным, Беспредельным и Великим пределом. Великий предел — это корень Неба и Земли, исток и начало мириад явлений». Незнающему человеку может показаться, что он читает сложный философский трактат, рассказывающий о каких-то эзотерических понятиях и процессах. Но здесь-то и проявляется поразительное единство мистического и повседневного для китайской традиции — перед нами не какие-то отвлеченные рассуждения китайского мистика, но вполне конкретный текст по тайцзицюань. И в своих первых строках — обратим на это особое внимание — он повествует не о технике боя, не о том, как надо передвигаться или уходить от ударов, а именно о философских понятиях. Доверимся древнему тексту и попытаемся разобраться, о чем, в сущности, идет речь. 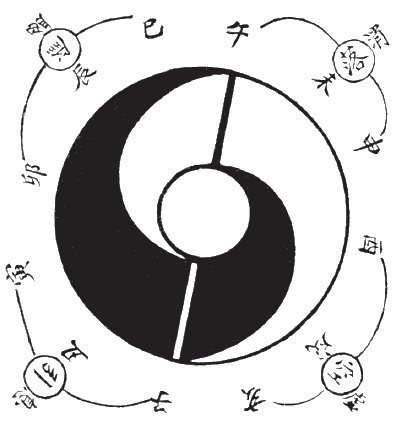 Схема единого ци, возвращающегося в небытие и пустоту Прежде всего, перед нами ключевое понятие, ставшее ключевым не только для ушу, но и для всей мистико-духовной культуры Китая, — «ци». Существуют десятки переводов этого термина — «пар», «воздух», «энергия», «пневма». Мы специально оставим этот термин непереведенным, так как прежде всего он не имеет прямого аналога ни в одном языке, должен пониматься контекстуально и скорее соотносится с восточным «энергетическим» видением мира, нежели с каким-то конкретным явлением. Именно осознание внутренней соприкасаемости человека с миром, в результате чего он «напитывался» энергией или, наоборот, терял ее, и породило в конечном счете такие системы Востока, как йога, ушу, суфийские радения и многое другое. Ци понималось в китайской традиции как универсальная квазисубстанция, своеобразная энергетическая первоткань космоса. Ци наполняет внешний мир («внешнее ци») и самого человека («внутреннее ци»), более того — сам человек рождался от «сгущения ци отца и матери». Нетрудно понять, что смерть человека являлась «рассеиванием ци», поэтому многие системы восточной психопрактики преследовали цель постоянной «концентрации ци», «доведения циркуляции ци до совершенства», что не только продлевало физическую жизнь, но и опосредовало духовную связь с Космосом, ибо, как гласит фраза из канонов стиля тайцзицюань, «и небо и человек — все пронизано Единым ци». Так устанавливалось небесно-земное единство Человека.  Изначально ци находилось в хаосе, в этот момент не было ни Неба, ни Земли, ни какой-либо предшествующей формы. Это состояние (если вообще позволительно употреблять такое понятие в данном контексте) звалось Беспредельным (Уцзи) или Прежденебесным началом (Сяньтянь), то есть существовавшим еще до возникновения Небес. Фактически, это была абсолютная пустота, мир на уровне замысла, а точнее — нечто, предшествующее даже самому замыслу. Прежденебесное противопоставляется и одновременно определяет иное состояние мира — Посленебесное (Хоутянь), то есть мир вещей и явлений. Причем переход Прежденебесного в Посленебесное обратим, и человек особыми методами может вернуться к началу мира, перейти от бытия (ю) к небытию (ую), от наполненности — к абсолютной Пустоте (Кун). В китайской мистике и эстетике Пустота является величайшей созидательной силой. С одной стороны, она не содержит никаких форм и предметов и даже не определяет, какими они должны быть, но, с другой стороны, дает возможность возникнуть любой форме. Это преддверие всего мира, а точнее, как говорили сами китайцы, «мир на уровне семени (цзин)», именно Дао содержит эти «семена». Выражение весьма точное — мир как бы зачат, задуман, но не проявлен, не актуализирован в виде предметов, явлений и даже человеческих помыслов. Это изначальное состояние (точнее, предсостояние) считается высшим истинным состоянием души. Более того, оно дано человеку не как некая теоретическая модель, но как переживание, особая предрасположенность сознания к открытости миру. «Истинный удар исходит из пустоты», — гласит поговорка в стиле синъицюань. Это значит, что такой удар обладает высшей поражающей силой. Более того — и нам это может показаться весьма удивительным — он может отсутствовать в виде физического действия. Разве возможно такое? Если мы говорим об ударе, то в обыденном понимании это всегда движение, жест — резкое движение рукой или ногой. Но в закрытой традиции ушу существует понятие «внутреннего удара», «удара сердцем», «сокровенного удара», который действительно не требует физического усилия. Сразу подчеркнем, что здесь не идет речь ни о тайных «энергетических ударах», ни о «выбросе энергии на расстояние». Дело в другом — это и есть проистекание небесной воли во внешний мир через человека, особое действие Дао, «которое ничего не делает, но нет того, что оставалось бы несделанным». Китайская традиция связывала становление мастера не с актом постепенного совершенствования, но с моментом внезапного перерождения. Естественно, это не исключало долгих лет тренировки, мучительных поисков, раздражающих неудач. Но само мастерство приходило внезапно — оно ведь было равносильно озарению, качественному перерождению человека. Точнее, это было новое метафизическое рождение, посвящение в мистерию. Правда, посвящение, совершенное не на словах, не через какой-то ритуал или заклинание, но через внутренний толчок. Интересны описания этого момента озарения, приводимые великими мастерами. Они не похожи одно на другое, но есть одна примечательная особенность — все посвященные говорят о «переворачивании» мира, о том, что «мир хотя остается прежним, но как бы совсем другой». Человек начинает понимать его, чувствовать его, не случайно в буддизме это сравнивалось с открытием «третьего глаза» в человеке. Такой момент озарения, символизирующий приход мастерства, мы встречаем, естественно, не только в ушу. Например, знаменитый японский мастер, основатель айкидо Морихэй Уэсиба так описывал это событие: «Я прогуливался один в моем саду и внезапно почувствовал, как небо и земля приходят в вибрацию. От земли начал подниматься золотистый пар и окутывал мое тело, которое становилось все легче и легче. Я начал понимать щебет птиц и одновременно почувствовал, что я постигаю замыслы Вселенной». И здесь, в этот момент величайшей истинности, прозрения не только глубин мира, но самого трансцендентального, внемирского начала, обыденный мир как бы переворачивается. Чисто внешне он остается тем же, не меняются ни его краски, ни его контуры. Приходит просто иное миропереживание, иное чувствование — то, которое даосы называли «Великим чувствованием» и «Великим озарением». Действительно, мир идет вспять, развивается в обратную сторону, уходит в собственное семя, в Пустоту, как говорили сами даосы — в «Великий ком». Мастер, следующий Дао, также приходит к началу не только всех вещей, но и самого себя, уподобляясь «нерожденному младенцу», «ребенку, который еще не научился улыбаться». Человек проходит как бы обратное развитие, погружаясь в лоно Великой пустоты и прозревая свой «изначальный лик». Как говорили учителя, в процессе занятий следует преодолеть путь от постижения «сердца человека» — тварного, преходящего, полного желаний, беспокойств и мыслей — и прийти к нетварному «сердцу Дао», двигаться от бытийственности человека ко внебытийственности пустоты, царящей в просветленном сознании. Он пустотен и незаметен, он потаен, находясь не в мире, но в преддверии мира. Он предшествует всякой форме и даже мысли вообще. Таким образом, мастер действует не в мире форм или каких-то приемов, но на уровне «семян», предформ. Более того, будучи реальным и вполне конкретным человеком, в своем метафизическом плане он не имеет собственной формы, так как его действия являются не более чем откликом на «действие Дао», или эхом «музыки Неба, которая упорядочивает все звуки». Воля за пределами воли Что движет человеком, что заставляет его реализовываться в акте мастерства? Собственное ли желание, неудовлетворенные амбиции, честолюбие, филантропия или нечто другое? Китайская эзотерическая традиция утверждала, что всякому действию, жесту и даже помыслу предшествует «воля», или «волевой импульс» (и). Сразу оговоримся: это отнюдь не то понятие, которое мы имеем в виду, говоря, например, о «силе воли», оно вообще не принадлежит ни к миру людей, ни к миру бытия — данному, вещному. Воля выступает здесь как высшая творческая сила, как суть и форма действия Неба, реализующаяся в человеке. В китайской художественной эстетике существовало прекрасное выражение «писать волю» (се и). Долгое время представителями западной традиции это выражение понималось буквально — выражать свои внутренние чувства, помыслы, свой душевный настрой. Но внутренняя китайская традиция вела речь о другом — отнюдь не о собственном, личностном настрое, а о Небесной воле, по сути — Дао, которая глаголет в человеке. Поэтому на художественный свиток изливалось не душевное состояние самого человека, но всегда звучало высшее, предданное слово как эхо Дао. Сам пейзаж, прекрасные горы, бурные водные потоки, темнеющий лес — все эти размывы туши и наплывы красок были не реалистичны, а символичны, они не формировали изображение, а обнажали вселенскую глобальную Пустоту, которая стоит за всякой формой и которая есть преддверие всякой формы, да и культуры вообще. Этот же принцип глобальной «воли Неба» существует и в ушу. Истинный мастер должен, например, осмыслять всякий прием не на уровне формы, а на уровне ее преддверия, или, правильнее говоря, предчувствия. «Едва ты задумал сделать комплекс и еще не начал первое движение, ты уже должен знать, как будет выглядеть последнее движение», — говорят мастера ушу. Отсюда же родился и принцип «трех внутренних соответствий», широко известный в десятках стилей ушу. Он гласит, что три начала формируют каждое действие человека — воля, ци и физическая сила (ли). Дабы достичь взаимосоответствия этих трех начал, боец должен прийти в состояние абсолютного душевного покоя, когда он становится способен в полной чистоте воспринимать импульсы природной естественности. И тогда он воспринимает волевой посыл Неба, тогда он принимает на себя творческий акт самой природной чудесности. Еще нет действия, еще даже нет замысла действия, человек даже не знает, каким оно будет. Он просто находится в полной гармонии с ритмами природы, а это значит, что всякое его действие, слово и даже замысел будут не действиями конкретной личности, но «сверхдействием Дао». Кстати, именно в этом и коренится смысл важнейшего требования, встречающегося во всех «внутренних» системах Востока — достичь полного покоя в мыслях, глобальной умиротворенности, когда человек слышит «флейту Неба» во всей чистоте ее беззвучных звуков. Этот небесный импульс устанавливает в человеке циркуляцию ци, а ци в свою очередь стимулирует физическую силу. Так рождается «истинное движение», исток которого находится вне человека, во внебытийном пространстве Небес. В таком состоянии боец не делал каких-то выученных движений — он лишь следовал ритмам Неба. Поэтому любой комплекс ушу (таолу) считался выполненным правильно не тогда, когда человек абсолютно корректно делал все удары и передвижения, но когда он каждым своим движением откликался на невидимое «движение Неба», на переход двух взаимодополняющих и взаимопротивоположных начал — инь (темного, пассивного — женского) и ян (светлого, активного — мужского). В форме это проявляется как параллельное наличие противоположностей: «Будь спокоен, как горный пик, и подвижен, как водный поток. В дуге обнаруживай прямую, а всякую прямую немного изгибай». Теперь нам нетрудно понять, почему, как учили китайские мастера ушу, «истинный удар исходит от сердца». Так приходит воистину целостное движение, когда движется не столько рука или нога, когда в удар вкладывается не просто мощь всего тела или «сила духа», но в нем присутствует Небесная мощь. Древний трактат раскрывает секрет такого истинного приема: «Сначала движение рождается в сердце, затем — проявляется в теле. Живот не напряжен, и ци входит в кости, дух умиротворяется, а организм обретает покой. Ежемгновенно сохраняй это состояние в своей душе. Помни: если что-то начало двигаться, то нет того, что бы не пришло в движение. Если что-то обрело покой, нет того, что бы не успокоилось».[7] Обратим внимание, что перед нами не просто чисто движенческий принцип, но прежде всего сочетание двух начал — инь и ян. Движение — функция ян, покой — функция инь. Следуя неоконфуцианской теории, на основе которой возникли такие известные стили, как тайцзицюань и синъицюань, когда инь и ян движутся, они разделяются, когда приходят в покой — вновь соединяются и обретают изначальную нерасчлененность, фактически — приходят в состояние Великого предела. Таким образом, за внешним движением в ушу стоит вселенская трансформация, космическая жизнь, данная в бесчисленных переливах и модуляциях. Человек не просто выполняет приемы — он переживает эту жизнь Космоса. Например, когда он поднимает руки (первое движение во многих комплексах ушу), это становится равносильно разделению инь и ян, когда руки опускаются, он возвращается к Великому пределу. Здесь нет или, во всяком случае, не должно быть элемента имитации или «игры в Великий предел». Например, в стиле синъицюань основная позиция называется «саньтиши» — «позиция трех начал», т. е. Неба, Земли и Человека. Принимая ее, человек как бы объемлет собой эту Вселенскую триаду, сводя ее воедино, приводя все вещи к единому знаменателю — к самому себе и к собственной личности, равной Вселенной. Ушу выражает во многом именно эту «срединность» человека — посредника между Небом и Землей, между внутренней и внешней реальностью. Ведь только он один способен сначала пережить символизм всех внешних форм, а затем проникнуть за них в глубь метафизической действительности. «Укоренение в Земле и связь с Небом» Символика человеческой «срединности» проявляется, например, в осознании всякой позиции как «укоренения в земле и подвешивания к Небу». Человек в этом случае является местом соположения космических сил, грандиозного слияния вселенских начал. Универсальность и полнота внутренних свойств позволяют человеку, следуя потоку природных изменений и отстранив деятельную работу разума, очистив его, довериться миру и вобрать в себя все феномены мира форм. Доведя этот процесс до завершения, он достигает Великого предела и, наконец, состояния Беспредельного. Метафизическое звучание сущности позиций можно ясно видеть на примере основной стойки в стиле синъицюань. Примечательно, что трактовка ее смысла считалась внутренним секретом школы, в то время как ее внешняя форма изучалась с первых же дней тренировок. Она называется «саньтиши» — «позиция трех начал» или «саньцайши» — «позиция трех вселенских начал». Принять такую позицию несложно, и закономерно возникает вопрос: чем были заполнены многие месяцы, а порой и два-три года, отводившиеся на изучение этой позиции? «Три драгоценности» — это Небо, Земля и Человек. Но магическое число «три» в китайской традиции имеет немало соответствий с космическими силами, при этом все большое сводимо к бесконечно малому. Например, «три драгоценности» на Небе — это луна, солнце и звезды; на Земле — реки, долины и горы; в Человеке — ци, семя-цзин и дух-шэнь. Малое обнаруживается в большом, а большое бесконечно прозревается в малом, в сводимой к минимуму субстанциональной сущности. «Далекое-близкое» (юаньцзин) — называли это китайцы, имея в виду перетекаемость, абсолютное пространственное и временное созвучие мира. В этой позиции, равно как и в обыденной, но при этом всегда мистической жизни человека, он занимает промежуточную позицию между Небом и Землей, опосредует их связь, служит медиатором взаимоотношений и регулятором их созвучия. Не правда ли, эта целевая установка — обнаружить себя в пространстве между Небом и Землей — весьма далека от тех «практичных» целей боевых искусств, которые приписывают ушу европейцы. Должно прийти внутреннее осознание собственной вплетенности в ткань мира, как сказали бы китайцы, — «запутанность в сетях Дао». Естественно, что здесь речь идет уже не об отработке позиции и даже не о выработке какого-то особого внутреннего состояния или психического настроя, но о глобальном перевоплощении человека в космическую величину, когда он становится сущностной частью космического хора вещей и явлений.  Доверие к миру и желание общаться со всем, что в нем существует, — это результат осознания человеком своей принадлежности к жизни Космоса, к Вселенской триаде. Оно дано как чувство затаенной, глубоко интимной радости от возможности такого глобального бессловесного диалога всего со всем и переживания приобщения к священному в его «земной», посюсторонней реальности. Появляется понимание всеобщей содоверительности, взаимной искренности мира и человека. Как ни странно, но именно искренность человека становится кардинальным фактором для его вхождения в мир боевых искусств — не сила, не упорство, но именно искренность. Не случайно знаменитый мастер тайцзицюань Дун Иньцзе объясняет путь ушу исключительно как путь искренности: «Лишь тот, кто искренен в своих помыслах, сможет прочувствовать Небо и Землю».[8] Искренность — суть естественная коммуникация мира, но она не рождается сама собой, а устанавливается между людьми, достигшими высокой стадии внутреннего развития, доверившимися мудрости мира и естественности своих природных свойств. Другим космогоническим принципом, пришедшим в ушу, стало так называемое «принятие Земли». Если от Неба человек напитывался энергией ян-ци, то в Землю следовало «врастать», «укореняться», дабы напитать тело инь-ци. Земля вообще рассматривается как начало инь, она образовалась именно от сгущения темного инь-ци. Дабы реализовать свою «срединную» функцию, боец должен искренне и целостно довериться земле, чисто внутренне «принять ее в себя». «Принятие Земли», хотя его и можно считать чисто психологическим фактором, имело непосредственную реализацию во вполне конкретных приемах. С этим был, в частности, связан принцип правильной и устойчивой позиции. На первый взгляд, смысл устойчивой позиции заключается лишь в обеспечении стабильности всего тела при ударе, к тому же бойца трудно вывести из равновесия подсечкой. Но всякое понятие ушу всегда имеет свою метафизическую глубину, и даже обычное понятие «устойчивость» обретало символическую перспективу. Так, во время тренировок в школах внутренних стилей тайцзицюань и синъицюань ученики представляли, как из центральной точки стопы юнцюань («Бьющий родник») в землю врастали «человеческие корни», уходящие на глубину до метра. Они высасывали «соки земли», омывали и напитывали ими тело человека. И вот в тот момент, когда человек полностью отдавался земле и когда она, в свою очередь, начинала предоставлять ему свою мощь, считалось, что истинный боец «взошел на земной престол». Отметим, что до того, как свершилось это «восхождение», в некоторых школах, например, в провинциях Шаньси и Хунань, вообще не начинают учить никаким другим приемам или принципам, ибо справедливо считается, что человеку еще неоткуда черпать свои силы. Дальнейшая отработка передвижений также заключается в умении ощущать землю не столько под ногами, сколько внутри себя. Земля, осознаваемая первоначально исключительно как опора под ногами, начинает мыслиться уже исключительно как одно из начал Вселенской триады. Представим себе, каково должно быть ощущение человека, уподобившегося «вырастающему из земли могучему древу»! Сегодня мало уже кто знает, что ранние медитативно-дыхательные упражнения, выполняемые в высоких стойках без движения (так называемое «столбовое стояние» — чжаньчжуан), служили реализацией этого принципа «укоренения». Практически во всех стилях ушу встречается «столбовое стояние» — чжаньчжуангун, при котором человек, поставив ноги на ширину плеч и подняв руки на уровень груди, будто захватив шар, находится в этой позиции до часа. В синъицюань, где нахождение в базовой позиции «трех начал» могло продолжаться до сорока минут, требовалось также прежде всего ощутить это состояние «врастания», или «вкручивания в землю». Принятие земли оказалось на первых этапах развития «внутренних стилей» одним из самых важнейших постулатов, так как этот принцип служил видимой реализацией более общего и более глобального принципа — «ясного различения пустого и наполненного». Такое опустошение-наполнение прежде всего также отрабатывалось через особые передвижения, где огромную роль играют «шаг тайцзи» — плавный накат с пятки на носок или «шаг багуа» — накат с носка на пятку. В любом случае движения «должны быть подобны шагу кошки», «будто идешь по хрупкому льду», «словно боишься наступить на иглу». Так рождается принцип «пустотной осторожности». Но за ним идет принцип «наполненной твердости» — лишь только стопа всей своей поверхностью коснулась земли, она моментально врастает в нее, причем это врастание обусловлено не волевым приказом человека, но спонтанным «притягиванием», происходящим благодаря чисто внутренней, душевной «открытости земле». Особым взаимоотношениям человека с землей было посвящено немало рассказов из мира ушу. Например, великих мастеров синъицюань Го Юньшэня и Ли Лонэна, мастера тайцзицюань Ян Баньхоу не могли и вшестером оторвать от земли, привязав к ним веревки, так плотно они «укоренились в земле». Великий Дун Хайчуань, патриарх багуачжан, расставив по нескольким кругам хрупкие фарфоровые чашечки, переходя по ним, выполнял полный комплекс по своей школе, не расколов ни одной. С другой стороны, существовало и искусство «отталкивания от земли», или «облегчения веса тела», истоки которого также лежат в налаживании особых отношений с землей. Ян Баньхоу, например, отличался тем, что даже в самый дождливый день, когда дороги полностью размокали и превращались в глиняное месиво, обычно приходил в гости без малейших следов грязи даже на подошвах. Как он сам искренне объяснял, он просто «передвигается на несколько цуней (сантиметров) над землей, так как очень не любит грязь». Его отец Ян Лучань (основатель стиля Ян тайцзицюань) также отличался завидным мастерством. Одна забавная история рассказывает, что как-то Ян Лучань сидел на берегу озера и ловил рыбу. Проходившие мимо местные бойцы решили подшутить над ним: так как никто из них не мог одержать верх над Ян Лучанем в прямом бою, они решили просто-напросто столкнуть задумавшегося Яна в воду, заставив его тем самым потерять лицо — страшный позор для всякого китайца. Но они не только не смогли сдвинуть Яна с места, но каким-то непостижимым образом сами полетели в озеро![9] «Принятие земли» заключается не только в особой форме постановки стопы, но и в положении всего тела. Сунь Лутан, говоря о «влечении к земле», объяснял это так: «Когда рука выставлена вперед, ее локоть неизменно должен быть обращен вниз, будто земля притягивает его». Похожий принцип мы встречаем и в тайцзицюань: необходимо, чтобы плечи были опущены, локти смотрели вниз. Упрись макушкой в Небо, укоренись ногами в Земле. Здесь человек проходит как бы «обратное развитие», погружаясь в Великую пустоту, и прозревает тем самым свой «изначальный лик». Как учат наставники «внутренних направлений» ушу, в процессе занятий адепт преодолевает путь от постижения «сердца человека» — обыденного и земного разума — к пониманию «сердца Дао», двигаясь таким образом от бытия человека и мира к пустоте, царящей в просветленном сознании. Тело человека и тело Космоса Союз Человека, Неба и Земли равносилен духовно-телесному единению самого человека. Китайская традиция всегда осмысляла мир в форме природно-телесного единства. Не только человек был «маленькой вселенной», но и Вселенная сама представлялась именно в телесных терминах. В той же позиции саньтиши каждая часть тела соответствует своему космическому началу: ноги — Земле, живот — Человеку, голова — Небу. Существовало и более мелкое подразделение, например, стопа соответствовала Земле, коленный сустав — Человеку, а бедро — Небу. Подобным же образом осмыслялись и все другие части тела. Благодаря этому сам человек оказывался бесконечным сочетанием образов космического триединства, а следовательно, приобретал мощь и одновременно пустотную неуязвимость Дао. Философская традиция ушу как нельзя более тесно была связана с пониманием телесности в Китае. Телесность как таковая не отождествлялась лишь с физическим телом (шэнь), но осмыслялась непосредственно как потенциальная возможность тела жить духовной жизнью. Например, «единотелесность» бойца с Небом означала именно присутствие жизни Неба внутри тела человека. Такое понимание тела как сверхчувственного, запредельного начала позволило обнаружить в человеке и дать определение тем силам, которые в обыденном понимании отсутствуют. Обратим внимание: в Китае не существовало как такового разделения на духовное и физическое, на тонкое тело и его «грубую» мирскую оболочку; их потенциальное, внутриутробное единство всегда понималось как нечто отдельное как от духовного, так и от физического. Например, центральное понятие ушу — «усилие» (цзин), которое в равной степени исходит как «от костей и плоти», так и от волевого импульса (и), зависит как от морального усилия, особого состояния сознания, так и от чисто физической тренированности. Оно не противопоставляется физической силе (ли) как грубому началу, а наоборот, активно использует силу мышц (и сухожилий, добавили бы китайцы), но при этом максимально задействует циркуляцию ци в организме. Распространенной ошибкой стало утверждение, что будто бы в ушу, особенно во «внутренних» стилях, не следует или почти не следует использовать физическую силу. Даже великие мастера тайцзицюань были удивительно физически сильны, а шаолиньские монахи сочетают многочасовую медитацию с работой со штангой, чему автор этих строк сам был свидетелем. Такая путаница идет в основном из-за неправильных переводов (в том числе и с древнекитайского на современный — байхуа) необыкновенно живучих мифов об «энергетической работе» или оттого, что человек не получил посвящения во внутреннюю традицию, а следовательно — и в особенности использования силы в ушу.  Ци Древнее написание иероглифа «цзин», кажется, говорит само за себя — он состоит из графем «сила», «работа» и «водный поток». Попутно обратим внимание, что иероглиф «ци» также сочетает в себе физическое и несубстанциональное — графему «рис» как символ субстанциональной жизни, произрастающей от земли, идущей от женского начала (инь), от лона, и графему «пар» как символ несубстанционалъного, чувственно неразличимого начала, расположенного над «рисом» и осмысляющегося в китайском мистицизме как начало ян. Так или иначе, ключевые понятия китайского мистицизма, связанные с ушу, всегда отражали эту особую стадию развития живого организма, который преодолевает физические границы, при этом всегда оставаясь вполне субстанциональным и реально ощутимым. Именно так китайские мастера «пользовались силой, не прибегая к силе», «начинали наносить удар физической силой, а заканчивали выбросом ци и так рождали усилие цзин». Отсюда и понятие «удара» (да) превосходило собственно движение рукой или ногой, но было эквивалентно реализации этого духовно-физического единства, не случайно в большинстве текстов по ушу речь идет именно о «чудесном», о «священном» ударе, об «ударе, равном Небу». Возвращение к Дао Хотя Дао не имеет постоянной формы, необъяснимо в знаковых системах, например в словах, его все же возможно постичь — увидеть его сокровенно-утонченную сущность (мяо). Дао можно не столько узреть воочию, сколько прозреть его проявления и его сущность за оболочкой вещей и явлений. Эта «внутренность» пуста и небытийна (точнее — сверхбытийна, ибо сама определяет бытие и небытие), так что эта сокровенно-утонченная сущность не более вербально выразима или поддается восприятию, чем внешняя сторона Дао. Так Дао утверждает себя через глобальное «всеотсутствие». Его синонимами являются «Великая пустота» (Тайсюй), «пустотности» (сюй, кун) как свойства истинного, изначального, доформенного мира. Такая даосская пустота содержит два смысла. Прежде всего, это полное неналичие. С другой стороны, это потенциальная возможность наличествования любого предмета, слова, рождения любого явления. Это — мир в потенции. Говоря о смысле ушу как возвращении к изначальной пустоте, китайские мастера имели в виду постоянное преодоление внешних форм (например, приемов) и прозрение за ней самой сокровенно-утонченной сущности ушу, его истока, то есть Дао. Знаменитый мастер синъицюань Го Юньшэнь так описал один из высших этапов совершенствования в своей школе: «Второй этап — это темная сила, что означает проникновение внутрь формы. Дыхание хотя и сохраняется, но кажется, что совсем исчезло, — зовется это эмбриональным дыханием. Смысл его незабвенен и не нуждается в помощи [в виде словесных объяснений]. Это и есть утонченно-сокровенное использование изменений духа. В сердце пусто и пещерно гулко, нет наличия и нет отсутствия, царит небытие и не-небытие. Это является путем возвращение к пустоте того, что не имеет ни звука, ни запаха. Здесь начинается третий этап, который и есть принцип циркуляции единого ци, самоналичное и неизменяемое Дао».[10] Поскольку Дао «самоналично и неизменяемо» (еще один его синоним — «постоянство»), оно само определяет суть и смысл любого действия. От идущего по пути постижения Дао требуется лишь следовать постоянным изменениям духа, происходящим в соответствии с Дао. Об этом и говорил Го Юньшэнь как об умении «использовать сокровенно-утонченные изменения духа». Все это есть проникновение в образы Дао и понимание внутренней, «второй» сущности любого явления. Многие понятия китайской натурфилософии находили свое конкретное отражение в ушу. Например, считалось, что Великий предел рождает пять первостихий, которые формируют собой мир: металл, огонь, воду, дерево, землю. В сущности, в «чистом виде» они не существуют, но вечно находятся во взаимопереходе, взаимодополнении (например, вода порождает дерево) и во взаимоотрицании (огонь отрицает металл). По такому же принципу строилась структура одного из самых сложных стилей ушу — синъицюань. В нем существовало пять базовых приемов, по сути дела — принципов, называвшихся по именам пяти первостихий. Но это были не просто случайные названия. В частности, рубящий удар ребром ладони соответствовал стихии «металл» и соотносился с образом металлического топора, срубающего дерево. Одновременно «металлу» соответствовали внутренний орган — легкие и его «внешний представитель» — нос. При таком ударе следовало «стимулировать ци легких», а также сконцентрироваться на прохождении ци внутри организма человека по особым меридианам. Таким образом, лишь один удар мог «запустить» в человеке сложнейший комплекс небесно-человеческих соответствий, вводя его в единый ритм с Космосом. Таким же образом строилась тренировка и в стиле багуачжан, где каждому базовому движению соответствовала одна из 64 магических схем, состоящих из сочетания шести целых и прерывистых линий — гексаграмм. Гексаграмма символизировала или душевное состояние человека, или природную стихию (например, тайфун, дождь), или развитие ситуации (прогресс, успех, крах). К тому же, каждой части тела человека также соответствует своя схема, и, выполняя движения, боец тем самым порождал в себе взаимопереход гексаграмм — фактически, небесных звуков. При этом весь комплекс выполнялся по кругу (точнее, по нескольким взаимопереходящим кругам), что символизировало целостность и бесконечность Небесного круга. «Неприукрашенная красивость» Все стили, все переливы «смыслов» боевого искусства единятся в лоне «срединного Дао», ушу «схлопывается» до своей внутренней формы, именно поэтому мастер Чэ Ичжай говорит о переходе во время тренировок ушу от «всераскинутости к простоте и неприукрашенности». Ушу превращается в чисто внутреннее искусство, тип переживания Дао, оно становится дорогой к слиянию человека с Дао. Лишь на первых этапах ушу может представляться способом боя или методом оздоровления. Высший же этап — просветление сознания, достижение высшего мастерства, называемого «гунфу». Мастер Сунь Лутан объяснял: «Практика кулачного искусства не заключена в каких-то формах, но лишь в целостности и полноте одухотворенного ци. Когда одухотворенное ци целостно, то и формы становятся завершенными, к тому же обретаешь подвижность и устраняешь закупорки ци».[11] Значит, внутренняя циркуляция ци (т. е. внутренняя форма) определяет правильность и завершенность всякого внешнего движения как в ушу, так и вообще в жизни человека. Человек становится «завершенным» (с китайского это могло переводиться как «округлый»), «внеущербным», «целостным» как внешне, так и внутренне. В момент занятий ушу он переживает полноту собственной природы. Но его природа — это проявление Дао, и, таким образом, ощущение собственной целостности вело к обретению некоего высшего типа искусства, высшего всеохватного умения. Такой тип Небесного искусства назывался в ушу «гунфу». Ушу, таким образом, представляется нам путем самораскрытия человека, особым типом переживания, который был рожден всем контекстом китайской культуры. И это осмысление ушу как Небесного искусства (Тяныун) присутствовало в сознании большинства занимающихся, объясняя удивительную тягу населения к боевым искусствам, сохранившуюся даже тогда, когда насущная потребность в изучении приемов самозащиты давно отпала. Глава 3 Постигая великое в неприметном
Гунфу и «искусство Дао» Во все времена в ушу присутствовала внутренняя философская перспектива, проступающая за многоцветием внешних форм. Именно внутренняя сторона и «оживляет» китайские боевые искусства, являясь намного более важной, нежели технический арсенал ушу, чем история его развития и биография мастеров. Поэтому, прежде чем говорить об этих увлекательных вещах, надо хотя бы соприкоснуться с внутренней стороной ушу — материей тонкой, постоянно ускользающей от взора наблюдателя. Здесь требуется особый внутренний такт, дабы не нарушить его традиционную цельность. Ушу не столько путь жизни, так как не учит, как надо жить, но это скорее философия духа, ибо оно дает возможность для духовной самореализации человека. В этом основа всех китайских боевых искусств. Такой подход сложился не сразу, для окончательного оформления внешней и внутренней сторон ушу потребовались века, что мы немного позже постараемся проследить, совершив экскурс в историю. Сейчас же мы забежим вперед, рассказывая о базовых философских понятиях ушу как об уже сложившемся явлении, в том виде, как они существовали в XIX–XX веках в школах боевых искусств. Чтобы понять внутренний смысл ушу, достаточно осознать лишь одну фразу, которую можно часто встретить в трактатах мастеров: «Ушу — это искусство Дао». Правда, понять ее не так легко, особенно западному сознанию, отягощенному сложившимися стереотипами. Зато непредвзятый ум, находящийся в состоянии спонтанного и свободного миропереживания, без труда уловит смысл этой фразы. Естественно, и необходимость в этой книге моментально бы отпала, коль скоро такой человек уже преодолел бы восприятие знания на уровне слов и знаков.  Цзин «Искусством Дао» (Даошу) называли в Китае немало явлений. В древности это были магические действия шаманов и даосская практика изготовления пилюли бессмертия. Позже к «искусству Дао» были причислены каллиграфия, архитектура, живопись, разбивка миниатюрных садов, стихосложение, все чаньские искусства. В этом же ряду стояло и ушу, завершая композицию китайских традиционных искусств, различных дорог, ведущих к единой цели — самореализации человека. В любом «искусстве Дао» присутствует оттенок внутренней святости, природной изначальной целостности. Такие искусства символично говорят о всеприсутствии Дао, поэтому они одинаковы по своему внутреннему наполнению и лишь в своей земной ипостаси приобрели разные формы: один человек выводит на тончайшей бумаге замечательные иероглифы, другой в один взмах кисти рисует вековую сосну и вечные горы, третий вкладывает всю душу в выполнение комплекса ушу. Ореол внутренней сакральности таких искусств похож на отсвет, идущий изнутри. Стоит проявить терпение и чистоту души, осторожно смахнуть верхний слой — слой внешних форм, как этот глубинный свет станет ослепляюще ярким, почти невыносимым для глаз неподготовленного человека. Ради обретения в себе этого «Небесного сияния» (Тянь-гуан) и практиковали «искусства Дао». Каждый вид деятельности может стать «Даошу», хотя для китайской культуры есть особо предпочитаемые. Можно даже просто беседовать на разные темы, скользя спокойным сознанием по мирским и «небесным» делам. Таковой, например, была традиция «чистых бесед» (цинтань) в Китае, возникшая в эпоху династии Тан как эстетическое продолжение чань-буддизма, — бесед будто бы и не для чего, но все время заставляющих человека следовать потоку мировых изменений, не застывать, а находиться в духовном странствии по Дао, плавно и незаметно перетекая с одной темы на другую, пока собеседники не замолкнут, «безмолвно постигая мысли друг друга» и ведя бессловесный диалог. Таково и ушу, на первый взгляд имеющее четко очерченную цель самозащиты и оздоровления, но на самом деле превращенное в некий горизонт саморазвития или, как мы уже говорили, в метафору всей культуры духа. Но «идущий в никуда уходит дальше всех», а любая намеченная цель будет неизмеримо мала по сравнению с приобщением человека к универсальному моменту соположения вещей, где все сводится воедино. Это и есть Дао. Встречается и обратное: десятки лет тренировок могут не принести успеха, а обыкновенное ремесло никак не перерастает в «искусство Дао». Это было связано с обретением гунфу — центрального понятия боевых искусств, которое иногда используется как полный синоним ушу. Многие китайские авторы даже утверждают, что между ушу и гунфу нет никакой принципиальной смысловой разницы, что, несомненно, верно. Запад узнал о китайских боевых искусствах именно под термином «кунфу», или «конфу», — искаженное от «гунфу», который, с одной стороны, произошел от частичного оглушения первой согласной при произнесении этого слова, а с другой стороны, — от характера транскрибирования этого слова на английском и французском языках. 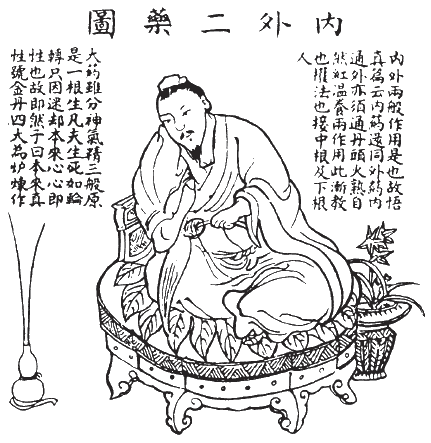 Радость от объединения внешнего и внутреннего (XV век) Так что же такое гунфу? В китайском языке «гунфу» имеет массу оттенков и может менять свой смысл в зависимости от того, по отношению к чему оно употребляется и даже в устах представителя какого слоя населения оно звучит. Далеко не всякий занимающийся ушу обретал гунфу. Этот термин сложно перевести буквально, и легче понять его душой. Это «великая работа», «упорный труд», «священное мастерство», «подвижничество». В самом широком смысле — это момент самореализации, самораскрытия, внутреннего откровения. В ушу этот термин пришел из неоконфуцианства — философского течения, соединившего в себе морально-этические постулаты конфуцианства и метафизические теории даосизма. Там он обозначал момент реализации и обретения полноты жизненности, достигнутый после медитации, или «пестования своих внутренних природных свойств». Достижение гунфу возможно в любом виде деятельности — даже в кулинарии, которой славились китайские повара, или в умении спонтанно отвечать на любые вопросы, поразив собеседника неординарностью и раскрепощенностью мышления, как это было в чань-буддизме. Нужно лишь очистить сознание от всего наносного и, как говорили китайские философы, «прозреть свой истинный облик» — всегда свободный в самовыражении, полный величия внутренней мудрости и мастерства в любом деле. Гунфу можно обрести, сконцентрировав свое внимание на чем-то одном конкретном, но после внутреннего озарения гунфу становится всеобщим, затрагивающим все сферы деятельности человека. Здесь речь идет не о приобретении каких-то дополнительных технических навыков, например, умения быстро и точно наносить удар в ушу (это промежуточная цель), но о глобальной перестройке всех внутренних структур, об абсолютной самореализации. «Гунфу» стало универсальным понятием. Не случайно большинство известных мастеров ушу в Китае были замечательными каллиграфами, литераторами, поэтами, мудрыми императорскими советниками, полководцами. Например, известный китайский поэт Су Дунпо являлся великолепным знатоком боя на мечах и голыми руками, а самый знаменитый китайский стихотворец Ли Бо считается создателем нескольких школ боя на мечах и одним из тех, кому приписывается создание стиля «Пьяный кулак», в котором боец имитирует движения опьяневшего человека. Его прославленный современник поэт Ду Фу хорошо разбирался в кулачном искусстве; даосский маг, известный своими системами достижения бессмертия и долголетия, Гэ Хун отменно владел всеми видами оружия и даже прославился на полях сражений. Один из самых талантливых правителей за всю историю Китая основатель Сунской династии Чжао Куанъинь считается знатоком доброго десятка стилей боя голыми руками и с оружием. Два самых известных мастера конца XIX — начала XX века Сунь Лутан и Хо Юань-цзя были прекрасными философами. Таким образом, те навыки, которые воспитывались в ушу, то удивительное мастерство, которое рождалось благодаря многолетним занятиям, охватывали всю жизнь человека. Они открывали его внутренние духовные силы, давали толчок к истинному творчеству души. Ведь ушу проповедует единство воспитания тела и духа, более того, мастера утверждали, что «настоящее гунфу заключается не в приемах, но живет внутри человека». Примеров «всеобщности» гунфу предостаточно, просветление не может касаться лишь части сознания человека, но захватывает все его уголки. «Искусство Дао» предполагает как раз то, что человек не просто проникает в технические секреты какого-то одного вида деятельности, но постигает само Дао, или, как говорили совершенномудрые, «исчерпывает Дао». Дао безбрежно, оно дает рождение всем вещам мира. Это вечно существующая первооснова и толчок любого явления, оно проявляется в мириадах образов и изменений. Этому потоку нельзя противоречить или «бороться» с ним, так как Дао — Путь всякого явления и человека, и бесконечно мудрым становится лишь тот, кто следует Дао, пестует его, прозревает его проявление внутри себя. Уже с глубокой древности понятие «гунфу» трактовалось и как «время», и как «долгая работа, выполняемая с особым мастерством» (так, например, характеризовался правитель Чан Ванцзюнь в эпоху Хань, который мог работать подобным образом девяносто с лишним дней без отдыха). С VII века оно стало пониматься и как грандиозный успех правителя, мудреца или другого великого человека, плоды деятельности которого пошли на благо людям.[12] Более того, наличие такого гунфу в деятельности правителя становится едва ли не важнейшей характеристикой его деяний, и горе было тем, кто, подобно, например, правителю Ян Синю, был обвинен в отсутствии гунфу, — это было равносильно покрытию позором. Время-гунфу понималось как величайшая драгоценность — ведь именно располагая временем можно достигнуть этого гунфу. Иначе, как сказано в трактате мистика Гэ Хуна (IV век), рождаются люди, которые «не ценят ни искусство, ни письмена — лишь понапрасну теряют время (гунфу)».[13] Обратим внимание на то, что определения гунфу в смысле «великое делание» и как «драгоценное, с умением проведенное время» уже в древности стали синонимичны. С XVII века термин «гунфу» стал всеобщим для боевых искусств, даже потеснив слово «ушу» и сакральный смысл, который им сопутствовал. Особенно широко он использовался в тайных обществах и религиозных сектах типа знаменитого «Белого лотоса» («Байляньцзяо»), где под гунфу понималось боевое искусство, совмещенное с медитативной практикой. Появляется понимание того, что существуют простой кулачный боец и мастер, старательный ремесленник и учитель, проникший в тайны. Они отличаются не количеством освоенной техники, не силой удара, но качественно иным внутренним уровнем. Один взирает на поверхность явлений, другой проникает в их суть и рассматривает мир как единый Символ «искусства Дао». Разве за каждым приемом ушу, ударом, фразой и трактатом не стоит то пустотное, но одновременно всеопределяющее начало, которое и называют Путем-Дао? Истинное гунфу имеет свое начало в Пустоте, на Небесах, но проявляется в делах конкретного человека. «Искусство Дао» не терпит поспешности или некоего сверхусилия. Наоборот, всякое напряжение противопоказано, усилие всегда имеет внутренний исток и не случайно зовется «внутренним усилием» (нэйцзин) или «срединным усилием», когда и сознание и тело включаются в работу ровно настолько, насколько этого требует естественный ход событий. Поэтому гунфу — это еще и «срединность» усилия, происходящая от следования изменениям в мире и избегающая всяких попыток побороть их. Дао издревле имело символику воды — та же текучесть, неуловимость, бесформенность, но одновременно всеобщность, огромная затаенная мощь, изменчивость состояний. Человек, захваченный таким бурным потоком, тотчас погибает, если попытается плыть против течения, но следование потоку лишь прибавит ему сил. Поэтому тот, кто обрел гунфу, всегда пребывает в этом покое вещей и явлений, как бы пропуская его через себя, но сам не меняясь, лишь откликаясь Дао. Гунфу, которое хотя иногда и переводят как «подвижничество», не требует совершения «подвигов», т. е. ничего экстраординарного. Разве можно назвать подвигом процесс постоянного внутреннего размышления над каждым явлением и присутствие всей душой в каждом выполняемом действии? Обычный человек часто выполняет одно действие, а думает о другом. Его сознание замутнено постоянными «скачками» с одного действия на другое. Хочется успеть многое, появляется торопливость, желание одновременно заниматься несколькими делами сразу. Но, увы, сознание не присутствует в том, что делает этот человек. Его действия оказываются как бы «пустыми», не наполненными его волевым импульсом. Не случайно в ушу первым принципом является присутствие сознания или воли в каждом приеме, жесте, ритуальном акте. Механизм должен исчезнуть, ибо мысль сливается с действием, а внешняя форма — с внутренним образом. Иногда гунфу пытаются перевести как «тяжелая работа», «труд». Тогда становится непонятным, почему же не всякую тяжелую работу, например, строительство дамб при разливах рек, труд рикш, да и просто поднятие тяжестей, китайская традиция не считала гунфу. Да и приносит ли радость, внутреннее озарение тяжелый труд? Неужели именно для того, чтобы изнемочь под гнетом трудностей «упорного труда», тысячи людей занимались «искусством Дао»? Легкость души и чистота сознания действительно труднодостижимы, и необходимо грандиозное терпение, чтобы уловить это почти мистическое состояние. Само же гунфу не тяжело, ибо это не столько действие, сколько внутреннее состояние просветленного духа (миншэнь), которое проявляется в конкретных действиях, выполняемых человеком. Для достижения гунфу необходимы не только длительные и упорные тренировки. Нужно и соответствующее окружение, например, школа, «просветленный учитель» (минши), который укажет путь для дальнейшего совершенствования. Именно эти три составные части — терпеливые занятия, правильное окружение и опытный учитель — требовались в китайской традиции для достижения мастерства в любом «искусстве Дао». Замечательный пассаж по этому поводу мы встречаем у известного мастера тайцзицюань Чэнь Синя: «Современные ученики, не прилагая усердия (гун), сразу же стремятся достичь успехов, прикладывают минимум усилий и стремятся к большим достижениям. Разве это похоже на то, о чем говорил Конфуций: «Сначала — трудности, лишь затем — успехи»? Так спросим же, в чем же заключено использование гунфу. Необходимо следовать тому, о чем говорил Мэн-цзы (знаменитый философ-конфуцианец. — А. М.): занимаясь делами, не будь прямолинеен, избавь сердце от пренебрежения, насильно не форсируй ситуацию и лишь тогда сумеешь [достичь успеха]. Когда не ясны принципы, то идут к пресветлому учителю; когда не ясна дорога, посещают добрых друзей. Когда становятся известны принципы и ясна дорога, а цели все еще не можешь достичь, то в течение долгого времени посвяти себя неутомимому гунфу, и ты придешь к цели. Спросим, сколько времени необходимо для этого? Малый успех приходит через три года, большой — через девять лет. Горячий сердцем сумеет приложить все усилия для этого».[14] Нетрудно заметить, что перед нами — два смысла гунфу. Первый — это высшее откровение на пути самопостижения человека, открытость его духа; принимать мир в его полноте и чудесности — это мастерство духа. Второй смысл гунфу — это совокупность времени и усилий, затраченных на достижение этого мастерства, фактически — перманентная тренировка человека, проходящая где бы он ни находился — во дворе, где проходили тренировки, или за книгой древних философов, либо за самой обыденной работой. К этому близок один из современных смыслов слова «гунфу» — «свободное время». Гунфу — это и цель, и путь к ней, высочайшее достижение, и неторопливая, кропотливая работа. Но одного этого мало для постижения «искусства Дао», надо научиться, восприняв истинную традицию учителей, творить самого себя — творить нового, рожденного в духовном и физическом единстве. Не случайно наставник школы считался отцом, а его ученики — сыновьями, порожденными им. «Обучение по аналогии» Истории ушу хранят много версий «обучения по аналогии», когда мастер не обучал ученика непосредственно технике ушу, а каким-то довольно необычным образом приобщал его к самому понятию «гунфу». Иногда учителя шли от самых обычных вещей, например, заставляли неофита годами вращать мельничный жернов, чтобы он привык использовать не силу рук, а «силу земли», которая через ноги и поясницу поднимается в руки, или носить доверху наполненные водой ведра из самого дальнего колодца через овраги и камни, не пролив ни капли и тем самым овладевая искусством мягкого, незаметного передвижения. После такого обучения гунфу реализовывалось как бы само собой, естественно и незаметно, а самим приемам ушу в этом случае можно уже обучить за несколько месяцев. В этом процессе проявлялось самое важное в понимании смысла боевых искусств, присущего только Китаю и до сих пор не понятого в Европе, — вместо того чтобы начинать с утомительных технических экзерсисов, ученика сразу пытались привести к истоку, «семени» любого возможного движения в этом мире, или, как говорили, «чтобы любоваться верхушкой древа, надо прежде посадить его корень». Мастерство существует вообще, безотносительно вида деятельности, и поэтому может прийти и при готовке пищи, и при занятии каллиграфией, и при тренировке в ушу. Нужны лишь время и тщательность, нужно «знать, что делаешь», т. е. понимать «семя движения», которое заключено в мире доформенном, в пространстве вселенского хаоса, в состоянии Беспредельного. Поэтому и объяснялось, что мастер черпает свои силы из Беспредельного. Но в ушу нет ничего абстрактно-отвлеченного, чисто философского и умозрительного, некой «игры сознания», или, как емко объясняли буддисты, «тени мыльного пузыря, привидевшегося во сне». Беспредельное, в котором коренится ушу, наполнено вполне конкретным, буквальным содержанием для китайца — к нему лежит строго определенный путь, свои особые методики тренировки сознания, воспитания сердца и многое другое, то есть все то, что называют «методикой ушу», а самими китайцами понимается как «воспитание жизненности», пестование внутри себя истинного состояния ощущения полноты и осмысления жизни. «Обучение по аналогии» позволяло отвлечься от узкого понимания мастерства в ушу лишь как умения ловко наносить удары или красиво двигаться, а придавало ему некий универсальный, вселенский характер. У Чжуан-цзы есть замечательная притча о чудесном стрелке, который, дабы научиться стрелять без промаха, часами наблюдал за летающей мухой, за снующим взад и вперед челноком, тренируя «истинное видение», и лишь потом взялся за лук, и после этого не было равных ему. Итак, умение — это не просто технический навык, способность сделать какую-то конкретную работу, а понимание «семени» любого действия и всякого момента жизни как «работы» духа. В даосской теории есть мысль, что высшим Умением обладает само Дао, так как оно создало весь мир, или, правильнее говоря, «из него проистекают мириады существ», оно вскармливает их, дает возможность развиваться, при этом обладая такой величавой внутренней свободой, что позволяет вещам оставаться самими собой и не властвует над ними. Но при этом Дао, в нашем понимании, ни у кого не «училось», и, что самое непостижимое, Дао ничего не делает, «но нет того, что оставалось бы несделанным»! И все это потому, что оно «смутно-туманно, но в нем заключено семя. Хотя оно туманно-смутно, но оно содержит образы». Проще говоря, в нем присутствует зародыш всех вещей и явлений, которому оно «дает быть». И вот перед нами удивительное понятие из теории гунфу: можно обладать высшим мастерством, ничему не обучаясь конкретно. А это значит, что и мудрец-мастер не должен «знать все», а должен обладать лишь определенным состоянием сознания, которое означает его приобщение к Дао. «Умеет» на самом деле, конечно же, Дао, а совершенномудрый на земле воспроизводит его посылы в конкретных действиях. Становится понятной и известная сентенция Конфуция о том, что благородный муж не должен уметь делать многое, так как его Благая сила (Дэ) априорно позволяет ему знать смысл вещей. Известный мастер боевых искусств XVII века блестящий ученый У Шу описывает забавную историю, демонстрирующую нам связь «обучения по аналогии» и гунфу. Эта история касается возникновения стиля «Эмэйского копья», очень сложного, с крайне запутанными передвижениями. Два монаха пришли к известному учителю, про которого ходили слухи, что он обладает тайными методами боя с копьем. Они стали упрашивать старика открыть им хотя бы часть секретов. Сначала мастер лишь рассмеялся, не ответив ничего, но после долгих уговоров согласился взять их в ученики. Но обучение оказалось неожиданным: учитель послал их рубить дрова в лесу, чем они и занимались в течение двух лет, даже не приступая к тренировкам. А через два года учитель с улыбкой (это вообще характерная черта описания мастеров — улыбка, смех, показывающие игровой характер, символическую суть их обучения) сказал им: «Вы вдвоем упорно и настойчиво трудились и теперь уже можете идти дальше. Я владею восемнадцатью способами прямых уколов копья, двенадцатью способами ударов руками, взаимным использованием зашиты и нападения (т. е. блокировкой удара противника и одновременной контратакой. — А. М.) — разрушительным боевым искусством. Если, в течение долгого времени рубя дрова, вы научились управлять своими руками через сердце, то, даже не зная способов ударов руками и передвижений, вы уже содержите это в себе в скрытом виде».[15] По сути, в этом и заключается смысл ушу — содержать в себе в скрытом виде (юй) знание не только о всевозможных приемах, но и о мировых трансформациях вообще. Можно, обучаясь чему-то одному и поняв его корень, произрастающий из Беспредельного, овладеть всем. И об этом говорила чань-буддийская поговорка: «Все вещи возвращаются к одному, а одно восходит к своему истоку — пустоте Дао». Иногда такое состояние естественного, спонтанного отклика на происходящие события называют интуицией, хотя в действительности все намного сложнее. Например, техника элементарной самозащиты заключается в том, что человек отрабатывает способы защиты от каких-то стандартных ситуаций: удара ножом сверху, удара ногой в живот, захвата за горло и т. д. При нападении такой человек действительно сумеет отразить атаку не задумываясь. Но все ситуации просчитать нельзя, к тому же китайское ушу выходит за рамки обычного поединка и являет собой особое состояние сознания. Нет ни малейшей возможности «отработать» все жизненные ситуации. Но можно, дойдя до корня какого-то конкретного явления, охватить своим пониманием весь мир, так как суть всех вещей в мире едина. Это нередко называется «ощущением Небесного внутри человеческого», то есть момента, когда через человека глаголет Небо, или Дао. В этом случае изучать все ушу, все стили, направления, приемы не имеет смысла, ибо уже постигнуто то общее, что стоит за ними, да и не только за ними. А тот, кто обрел это запредельное понимание и умение, и назывался в китайской традиции человеком, обладающим Высшей благодатью, или Благой мощью, — Дэ. Именно он никогда не ошибается, так как потенциально умеет делать все; ничему не учится, но все умеет; не соперничает с людьми, а люди не враждуют с ним; не навязывает себя, а люди уважают его; не ищет общения, а все стремятся поговорить с ним. Он фактически вскармливает людей своей Благой мощью, так как дошел до понимания сути вещей. Китайские народные легенды постоянно подчеркивают запредельность всякого мастерства, достигаемого в занятиях ушу. Оно даже может помочь одолеть призраков! Одна из китайских легенд из старого сборника, посвященного демонологии, рассказывает, например, о некоем Сун Дасяне — Суне Великом Мудреце, который как-то на ночь расположился в заброшенном павильоне, что в западном пригороде города Наньяна. В этом месте никто не рисковал останавливаться, потому что все гости, заходившие туда, пропадали. И лишь Сун, войдя в павильон без всякого оружия, спокойно уселся играть на лютне — занятие, достойное великого мудреца, которое одобрял сам великий Конфуций. И вот в полночь явился перед Суном чудовищный призрак — «с выпученными глазами, острыми зубами, а облика был ужасающего». Сун же продолжал спокойно играть на лютне. Призрак вышел на улицу и вернулся в павильон с головой мертвого мужчины. — Не хочешь ли себе подушку под голову? — поинтересовался призрак у Суна и бросил голову к его ногам. — Прекрасно, — ответил Сун, — мне как раз некуда приложить голову на ночь. Возьму-ка я это вместо подушки. Призрак удалился, а затем вернулся вновь и предложил: — А не помериться ли нам силами в поединке (шоубо)? — Замечательно, — живо откликнулся Великий Мудрец. С этими словами Сун подскочил к призраку, сделал ему обратный обхват за поясницу, да так сжал, что призрак даже двинуться не смог — так и умер. А когда рассвело, Сун увидел, что тело призрака превратилось в лисицу-оборотня. С тех пор никто не тревожил посетителей в этом павильоне.[16] Интересно, что в западной демонологии призрака можно уничтожить только особыми способами — заклинаниями, заговоренным оружием, серебряными пулями, но никак не голыми руками. В Китае борьба с призраками велась похожими заговорами и магическими приемами, но ушу считалось вполне достойным и эффективным методом уничтожения оборотней, ибо в сознании китайцев ничем не отличалось от магического искусства. Не случайно на ранних этапах и боевое искусство, и искусство даосских магов обозначались одним и тем же иероглифом — «шу». Для проявления гунфу не нужна какая-то особая сложность форм. Наоборот, основа всякого китайского искусства — простота и отсутствие вычурности. Комплексы шаолиньской традиции очень просты по своим элементам, хотя предполагают огромную внутреннюю работу. Китайского знатока живописи не смущают монотонное нагромождение скал и тускловатые тоновые переливы китайского пейзажа. Стихи Ли Бо и Ду Фу почти болезненно трогают душу своим простым одиночеством мудрости, оставляя предельный простор для внутреннего творчества. Здесь — эстетика простоты, или, как говорили в Китае, «неприхотливых цветов» и «неприукрашенной красивости» (ухуа). Она обнажала истинность каждой вещи, доказывала аутентичность всякого жеста жизни. Лао-цзы учил, что форма не должна скрывать или превосходить собой внутреннее содержание, ее функция — лишь указывать, что за внешним декором скрывается нечто, что обладает абсолютной ценностью, хотя и невидимой, а на ранних этапах постижения даже не предполагаемой. Когда внутренняя сущность мира постигнута, когда разум озарен восхищением «неприукрашенной красивостью», а весь временной поток сведен в «вечное настоящее», тогда исчезает вообще понятие формы. Здесь предельное наполнение равнозначно пределу пустоты. Лао-цзы учил: «Если стремишься постичь Дао, нельзя быть драгоценной яшмой, но надо стать простым камнем». Он же сравнивал истинного мудреца с куском необработанного дерева (пу) — символ предельной естественности, неотторжимости от изначальных форм мира. Истина внезапна именно своей простотой и какой-то неприукрашенностью, ибо она ничем не отличается от естественного хода вещей в мире — цзыжань. Зачем разучивать сложные комбинации приемов, почти не применяемых в бою, когда можно добиться победы над соперником лишь одним быстрым ударом или даже остановить его взглядом? Здесь важно, насколько полно овладел боец принципами ушу, «внутренней работой», успокоил и очистил сознание. Каллиграфия хотя и ценится европейцами, но мало в ком вызывает эстетическое отражение — черная полоса на белой бумаге. Но мастера-каллиграфы медитировали иногда по нескольку часов, прежде чем стремительным взмахом «излить волю на бумагу, дать форму бесформенному, растворить сознание в размывах туши». Гунфу изливает себя в простоте и скромности. Символизм форм и их нарочитая подчеркнутость должны обнажить абсолютную глубину внутренних образов. Здесь адекватность человека «дыханию мира» важнее хитроумности. Именно из-за своей простоты истинное ушу потаено от мира, оно как бы сокрыто от нас внешними формами, которые и принимаются за настоящее искусство. Однако истинная форма проста, надо лишь поверить в то, что она действительно существует. «В ушу нет ничего особенного» — эта многократно повторяемая в китайских трактатах фраза может стать лейтмотивом всего нашего повествования. В ушу действительно нет какой-то запредельной сложности, а вот для постижения гунфу, которое стоит за приемами, требуется особая работа духа. Поняв смысл гунфу вообще, можно научиться его частному проявлению — ушу — за краткий период времени. Если быть более точным — достижение гунфу отнюдь не заключается в напряженной, утомительно-изматывающей работе сознания, которое должно быть вообще отключено. Разве достижимо Небесное мастерство (Тяньгун) простым напряжением сознания, тщательным продумыванием своих действий? Увы, здесь не помогают ни анализ, ни глубокомыслие, ни наигранная задумчивость. Существует лишь одна вещь, но эта вещь запредельна — единение человека и Дао в «единое тело» и постоянное, ежемоментное ощущение этого единения. Сознание человека уже перестает существовать, он именно «не думает». «Канон тайцзицюань» кратко подчеркивает: «Чтобы овладеть чем-то, вы должны как можно меньше использовать свое сознание».[17] Мастера удивительным образом передавали это ощущение слияния с мировым потоком: «вселенская вибрация», «и Небо, и человек — все пронизано единым ци», «единотелес-ность», «нет ни меня, ни другого — все сливается в круговорот единого ци». Это, естественно, не достигается одним днем или даже годом тренировок, да, собственно говоря, и тренировки никакой нет. Есть постепенное самораскрытие и саморастворение сознания человека в мировом единстве, а этому служат определенные методики, часть из которых нашла свое отражение в ушу. В этом смысле ушу развивается не вширь, а вглубь. Не случайно многие стили включали в себя лишь два-три комплекса, и на их основе ученики постигали все многообразие оттенков ушу — сначала технических, а затем и духовных. В результате человек как бы перешагивал через ограниченность внешних форм; овладев внешним движением, он начинал видеть его внутреннюю сущность, понимаемую как гунфу. Именно эту способность ощущать ушу и жить в ушу, а не просто заниматься им, имел в виду учитель тайцзицюань Чэнь Синь, говоря: «Изучающий ушу движется от того, что имеет форму, к тому, что не имеет и следа, постигая в этом Небесном искусстве (Тяньгун) сокровенно-утонченное начало».[18] Вот он — удивительный смысл высших этапов боевых искусств! Не сильный удар, не ловкое движение, не непобедимость (это все вторично), а «сокровенно-утонченное начало», при котором ушу становится уже не искусством боя или, как принято у нас определять его, «воинским искусством», а именно Небесным искусством, т. е. связующим звеном между человеком и Небом. «То, что не имеет и следа» — это один из многочисленных синонимов Дао, однако обратим внимание, что мастер Чэнь Синь избегает вообще как-то называть его, дабы не фиксировать поток сознания бойца на каких-то словах. В состоянии «единотелесности» всякие слова теряют всякий смысл. Может быть поэтому многие народные мастера даже не знают названий тех приемов, которые выполняют. Они уже настолько слились с ними, что не чувствуют никакой разницы между врожденным началом в человеке и когда-то выученным приемом. Гунфу присутствует в нем самом, и совсем не обязательно как-то определять его словами, равно как человеку не обязательно постоянно помнить данное ему при рождении имя, ведь самоназвание никак не зависит от свойств характера самого индивидуума. Здесь мы вновь подходим к важнейшей части «самоощущения» человека в ушу, которое заключается в потере самого себя, самозабытьи, саморастворении. Разум ни на чем не фиксируется, но все отражает как зеркало, сам при этом не меняясь. Он цепко ухватывает все, ибо в этот момент сознания человек и сам окружающий его мир — суть одна. Человек, глядя в Космос, оказывается, взирает внутрь себя, и наоборот: Космос видит в человеке свое отражение. Поэтому медитативная практика даосов и буддистов с ее методиками «внутреннего взора» (нэйгуань) ведет человека не к индивидуализации сознания, не к самоотторжению от мира и окружающих людей, а наоборот — к единению. Но достаточно малейшей ошибки, и психопрактика превращается в утомительное самокопание, делающее из личности не целостного, полного жизни человека, а нравственного урода. Высокое искусство всегда имеет чудовищно страшную оборотную сторону. В процессе тренировки боец концентрируется на каких-то образах, приводя сознание в спокойное и ровное состояние, не замутненное никакими чувствами. Даже хороший знаток не сумеет определить, из какого контекста взят пассаж о достижении «покоя сердца»: «Вскармливай корень души и успокаивай сердце, пестуя тем самым Дао».[19] Этот отрывок — из наставлений в синъицюань, а «покой сердца» «позволит бойцу совершать удивительное» — «взметаться в небо как грозный дракон, приземляться как удар грома, поднимаясь — не обладать формой, опускаясь — не оставлять и следов». Человек, подобный Дао (ведь это его атрибуты — «бесформенность» и «бесследность»), обладает какой-то удивительной глубиной сердца и эмоций, сверхпокоем души, позволяющими сделать все. Здесь нет даже места решимости или упорству — абсолютное спокойствие, недвижимость духа. Это особый, малопонятный нам тип концентрации, которая не требует концентрации. Это особая праздность, умиротворенная незамутненность духа. Забавно, что гунфу можно достичь и в беззаботной беседе, и в практике ушу, и в написании иероглифов, и в прогулке по саду, чем обычно занимались благородные конфуцианские мужи. Путь к тому, что «не имеет формы» Перед нами — преемственность всех видов искусства в китайской культуре, где плод творения — картина, стихотворение или мастерски выполненный прием — не обычное отражение творческих потенций человека, но лишь путь воспитания духа, способ привести его в работу, сложная духовная дисциплина. В этом особый смысл китайской эстетики — не достичь во время всякого действия столь обычного для западных людей мучительного напряжения сознания, но проникнуться возвышенным и одновременно непривязанно-праздным духом, Благой мощью (Дэ) человека-творца. Известный философ-неоконфуцианец Мин Тао (XI век) так описал смысл своих занятий: «Когда я занимаюсь каллиграфией, я крайне серьезен. Моя цель — не в том, чтобы каллиграфия была хороша. Мои занятия — это лишь путь духовного совершенствования».[20] Странное и непривычное для нас состояние сознания «мастера всех дел» в китайской традиции — праздное, легкое, спокойное, не заостренное ни на чем. Действие, будь то даже многочасовая тренировка, превращено не в тяжкий, изматывающий труд, а в антидействие, особое вдохновение сознания. На Западе неоднократно доводится встречать определение гунфу как утомительного или упорного труда, но как раз «труда» здесь никакого нет, хотя в чисто физическом смысле какая-то работа совершается. У западных последователей ушу считается, что раз достижение гунфу — это долгий и упорный труд, надо приложить все усилия к тому, чтобы чего-то добиться. У китайцев же наоборот: целевая направленность снята, действие превращено в символически-ритуальную мистерию духа, и поэтому можно достигнуть «того, что не имеет и следа». Но так как такое достижение (кстати, в отличие от технического мастерства — «малого достижения», оно звалось «большим достижением» — да-чэн) невидимо для внешнего наблюдателя, а гунфу абсолютно несубстанциально и запредельно, непосвященному даже не ясно, зачем стоит тратить столько усилий ради «праздности духа». Для Китая гунфу — это сверхспокойствие мира. Но не стоит его понимать как насильственное помещение своего разума в состояние спокойствия, умение «загнать» его туда особыми успокоительными формулами аутотренинга. Это уже насилие, нарушение естественности. Китайцы давали простой совет: надо не думать. Тот же Мин Тао рассуждал: «Нужно ли думать, перед тем как понять? Почему говорят, что не нужно иметь вещи в уме?» Через сотню лет ему в непрекращающемся во времени диалоге мудрецов ответил известный философ Чжу Си (XII век): «Зачем думать над вещами? Поскольку вещь — это часть прошлого, то зачем же позволять ей задерживаться в мозгу?»[21] Когда уходят все мысли, размышления над смыслом приемов и самого ушу, то наступает истинное сосредоточение без напряжения, восприятие смысла вещей происходит непосредственно и интуитивно. Интуитивный характер ушу во многом получил свое осмысление после развития в Китае чань-буддизма, который учил «постижению истинности», «не опираясь на письменные знаки», тому, что «твое сердце — и есть Будда», «нельзя искать Дао вне себя». Под этим влиянием и сформировалось то, что мы назвали «обучением по аналогии». Сначала нужно не обучить технике, а привить или передать то особое, чисто-открытое состояние сознания, о котором говорили учителя. А дальше на эту материю можно накладывать любой рисунок: учить, например, ушу или кулинарному искусству—в этот момент человек потенциально умеет все, так как «единотелесен» с Дао. Приведем забавную чаньскую притчу о том, что состояние духа намного важнее технического мастерства. Будущий чаньский патриарх Шигун был в молодости великолепным охотником и прославился тем, что убивал животное стрелой с первого же выстрела. Однажды, охотясь в лесу, он встретился со знаменитым чаньским мастером Мацзу. — Кто ты такой? — поинтересовался Мацзу. — Охотник, — ответил Шигун. — И ты умеешь стрелять из лука? — Конечно! — А сколько животных ты можешь убить одной стрелой? — Одной стрелой я убиваю одно животное. — Ха-ха-ха, да ты, видно, не понимаешь, как надо посылать стрелы в цель. — А ты что, понимаешь, как делать это? — Я-то конечно понимаю. — А сколько животных ты можешь убить одной стрелой? — Одной стрелой я могу поразить целое стадо. — И то, и другое — живые существа. Как же ты способен безжалостно убить все стадо? — То, что убиваю я, — это пелена заблуждений масс живых существ. А почему ты не стреляешь в пелену своих заблуждений и препятствий на пути к просветлению, замутняющих разум? И с сегодняшнего дня ты избавишься от всех них![22] Чаньский патриарх Мацзу, может быть, никогда ранее не учившийся стрелять из лука, умел делать это лучше, чем профессиональный охотник! Его мастерство имело не частный, а всеобщий характер, и поэтому, в отличие от Шигуна, его выстрел был «внутренним выстрелом». Обратим на это внимание: в теории ушу внешнему удару предшествует внутренний удар, выстрелу — внутренний выстрел, всякому движению — движение духа и волевого импульса. Так как во внутренней форме конкретное движение теряет смысл, так как оно не субстанциально, не имеет никакой конкретной формы, и смысл его — пустота Дао, то благодаря этому и можно овладеть истинным гунфу во всем, обучаясь чему-то одному. «Воля руководит движениями», «Истинный удар проистекает из сердца», «Сначала волевой импульс, затем внешняя форма» — эти сентенции из канонов ушу как нельзя лучше передают смысл внутреннего движения, которое предваряет все внешние приемы. «Волевой импульс» — это не желание сделать что-то, его не следует путать с похожим европейским понятием. На самом деле это и есть чистота внутреннего, Небесного посыла к каждому действию, которая живет в человеке и которую следует лишь реализовать в процессе тренировок. Надо, чтобы всякое действие в жизни и сам момент жизни проживались осмысленно, но путем не продумывания или планирования, а присутствия всей чистоты своего «небесно-природного» разума. Суть такого разума — пустота, так как он предшествует каким-то конкретным действиям и формам и принадлежит Беспредельному. Гунфу, позволяющее сделать из воинского ремесла «искусство Дао», таким образом, и есть способность предварить всякое внешнее, а следовательно, и переменчиво-непостоянное действие. Само же оно является таким действием, которое воистину существует, которое неизменчиво, то есть которое само по себе и есть Дао. Молчаливое слово Всеобщность срединной гармонии и универсализм гунфу объясняют еще одно интересное явление в ушу. Оно связано с традицией объяснения знания и духовной передачи. Гунфу может быть реализовано в любом пространстве, ибо любое пространство может быть превращено в поле внутреннего опыта. Оно не зависит ни от количества слов, ни от наличия словесных пояснений вообще. Суть гунфу также не зависит и от стиля, но лишь от «истинности передачи» и обретения «формы за пределами форм». Значит, существует и «знание за пределами знания». Оно заключено не в объяснении каких-то мистических истин и тем более не в наборе приемов, а в могучем импульсе к странствиям внутрь себя. В школах ушу царствовала культура молчания и символа как сверхслова. Конечно, это не значит, что вообще никаких слов не произносилось. Скорее наоборот, преподавание всегда сопровождалось многочисленными рассказами об истории школы, афоризмами, парадоксами в монологах учителя. Но самое главное должно было остаться слегка размытым, хотя и постоянно находящимся «в кадре», — то, что утратится, будучи произнесено, но о чем и не говорить также нельзя. Отсюда — некий метаязык ушу, позволяющий в любом выражении сохранять «истинную передачу», не подавляя ее всеобщность мелочной конкретикой. Мастер не нуждается в словах, он «действует недеянием и учит молчанием», как говорит «Дао Дэ цзин». Он сам являет собой методику и конкретизацию традиции ушу. Лишь один его образ, одно его присутствие могло рассказать ученику больше, нежели набор приемов. Помимо слов, которые кто-то нелепо отождествил с мыслями учителя, существует и Истинное слово — «слово вне слов», соответствующее «истинной передаче». Его нет нужды произносить, поскольку оно уже было произнесено за горизонтами Высокой древности. Его эхо неизбывно в последующих поколениях, варьируемое от глухих отзвуков до тона самой высокой чистоты. Но кто решится произнести Истинное слово? Здесь мало страстного желания. Необходим талант восприятия его от других и «от века» — откровенный и потаенный диалог человека-мастера с Небом. Китайская традиция неоднократно обыгрывала этот образ «передачи вне слов», и особенно рельефно он проступил в чань-буддизме и различных формах чаньского искусства «молчаливого образа». Здесь коренится исток удивительного взлета пейзажной живописи, где молчание гор и вод — символ внутренней мистерии космоса, его непередаваемой, неоформленной гармонии. Однако истоки внесловесной передачи лежат намного глубже, они заключены в самых древних китайских мистериях. В этом отношении показателен пассаж из «Ицзина» («Книги перемен») — одного из древнейших посвятительных текстов: «Запись не исчерпает слова. Слово не исчерпает мысли.[23] Значит, и мысли совершенномудрого нельзя узреть… Совершенномудрые создали образы, дабы исчерпать мысли». Авторитет «Ицзина» не столько предопределил, но подкрепил древний способ познания и восприятия мыслей совершенномудрых — через образы, символы и ритуал. Следуя этой доктрине, всякая мысль не может быть выражена словами, но существует возможность вообще обойти уровень мысли, непосредственно соприкасаться с небесными образами. Устраняется необходимость не только в писаниях, словах, но даже в мыслях. Не случайно психопрактика в ушу говорила об «опустошении сознания», «достижении состояния внемыслия», «гулкой пустоте сознания». Человек мог интуитивно и без посредников входить в контакт с абсолютным знанием. В конечном счете, любое движение в ушу — повторение того, что когда-то делал совершенномудрый первопатриарх, а их исполнение — не более, но и не менее, чем соположение себя с образами Дао. «Истинное слово» становится явственно различимым в веках через внутренне зримый, но внешне невидимый образ. Это позволяет без труда открыть тайны ушу и секреты школы. Их нельзя «выдать» словом. Нельзя словами объяснить и традиционную методику подготовки, так как она была строго индивидуальной, и лишь учитель мог ее определить для каждого в отдельности. О школе, как и о гунфу, нельзя рассказать, их можно только пережить. К тому же, школа и не нуждалась в каком-то словесном диалоге внутри себя, который определял бы ее постулаты, технические и даже доктринальные отличия от других школ. Она отлична от них уже потому, что она — суть внутренняя самодостаточная реальность. Школа определяется не как совокупность техник, которых, скажем, нет в другой школе, но линией передачи и всеми предшествующими поколениями мастеров и учеников, объединенных единым «словом вне слов». Поскольку школа — это «единое тело», то оно и не требует никакой словесной коммуникации для того, чтобы что-то узнать о самой себе, знание уже пребывает внутри этого «единого тела». Для стороннего наблюдателя чисто внешне оно определяется как не-знание — ведь никто ничего о школе не рассказывает. Зачастую бывало, что школа имела весьма путаную и явно мифологичную историю, причем никого из ее носителей нимало не заботил этот факт. Носителю школы не важны теоретическое обоснование ее существования, ее технический арсенал и историческая канва. А вот внешний наблюдатель воспринимает школу не как мистическое тело (ибо он ему не принадлежит, а следовательно и не ощущает его), а именно по этим видимым параметрам. Понимание срединной гармонии передается через всеобщее отрицание, как и Дао, которое утверждает себя через глобальное всеотсутствие — его «нельзя назвать», «нельзя выразить словами», «нельзя узреть», оно «неразличимо». Гунфу всегда равно обретению, а точнее — исчерпанию Дао, поэтому и путь к нему лежит через не-знание, внемыслие, не-помысел, не-слово — через пустотную бесформенную форму.  Наставления Слово играет совершенно иную роль в ушу, нежели в европейских системах преподавания. Оно не объясняет, не рассказывает, не указывает. Слово лишь намекает, взывая к великим образам, и, следовательно, «провоцирует» сознание на огромную внутреннюю работу — «поток мыслей вне рассуждений». Это некий допинг для сознания, которое начинает «пестовать тело» без всяких волевых усилий и приказов с нашей стороны. Сознание абсолютно опустошено и гулко откликается на любой внешний и внутренний импульс. Оно черпает опыт в самом себе, и так начинается внутренняя работа — с провокации словом, жестом, текстом. Граница между словом и действием, формальным звуком и его реализацией в деле преодолена и навсегда разрушена в ушу. Вместо нее мы видим соположение некой сверхформы — образа и формы, звука и эха, внешнего очертания и глубинного образа. Слово мертво, когда оно произнесено. Оно завершает тем самым свое существование, и оно убивает знание, ибо предпринимает безнадежную попытку его объяснить, рассказать о том, что потенциально выразить невозможно. Лишь музыка молчащего слова выразит полноту души мастера. Оно ничего не создает, а поэтому ничего не разрушает. «Небесный учитель» вряд ли нуждается в словах, ибо и Небо не говорит, но безошибочно выражает себя, развертывая, пользуясь метафорой древнего даоса, «сеть из мириад вещей, которая ничего не пропускает». Ценно лишь то слово, которое уже родилось в мозгу, которое готово сорваться с уст, но продолжает сохраняться в молчании, оставаясь вечно сокрытым, потаенным и в то же время уже присутствующим здесь. «Кулачное искусство» становится элементарно обыденным лишь тогда, когда постигаешь его величие вне слов и объяснений. Ушу иносказательно по своей сути, символично, так как его нельзя выразить в приемлемых знаковых системах и приходится оперировать образами, символами и ощущениями. Когда устраняются слова и наступает «срединная гармония», то движениям тела и мысли возвращается изначально положенная внутренняя логика. Вчитаемся в рассуждения Сунь Лутана об истоке «знания вне знания»: «Простота ушу заключена в том, что формы кулачного искусства достигают простоты и непритязательности, но, тем не менее, не приходят в хаос. Начало и конец такого кулачного искусства, а также применение приемов являются тем, над чем люди никогда не задумываются, но что знают. Тем, что не изучают, но могут совершить. Использование телесных движений также являет собой обыденный принцип. Когда человек ничему не обучался, то и применение движений его рук и ног не имеет никаких правил и не может быть упорядоченным. Изучение ушу позволяет человеку познавать вне размышлений и совершать, не обучаясь. Обыденно приемлемые формы обретают срединный порядок, а движения четырех конечностей становятся нехаотичными».[24] Здесь каждая фраза — шаг к раскрытию парадоксальной сути обучения ушу. Это абсолютная мистерия, проявленная в ритуале боевых искусств. Значит, для ушу существует знание, которое предшествует обучению. Оно никогда не приходит из внешнего мира, но изначально присутствует в душе человека. Это, по сути, и есть истина, предшествующая знанию, пробуждение которой облекает все в одежды срединной гармонии. Лишь обучение у учителя позволяет обрести знание, суть которого — не-знание, точнее — то, что противоположно обыденному знанию. Необходимо не пристально всматриваться в форму движения, но понимать то, что оно давно познано, и следует лишь вспомнить его — «не изучают, но могут вспомнить». Обучение превращается не в изучение, но в глобальное воспоминание, возвращение к собственным духовным потокам. Отрывок, цитированный выше, преисполнен экстатического состояния, импульсивно и чрезвычайно ярко рефлексирующего сознания. И вновь сознание возвращается к уже знакомой мысли — мастер ничего не изучает, но знает. Он может ничего не уметь и в то же время бесконечно превосходить всякое умение, ибо исток его мастерства — в глобальном мастерстве Дао. Наивен вопрос: насколько сами размышления о кулачном искусстве адекватны сути этого искусства? Насколько размышления, выраженные словом, передадут ученику смысл самой практики ушу? Любое слово покажется здесь лишним мазком на мастерски выполненной картине, громоздким и угловатым рассуждением о заведомо недоступном для неподготовленного человека, не посвященного в мистерии ушу. Когда же ученик достигает срединной гармонии в своем сознании (фактически, все обучение было направлено именно на это), можно уже ничего не объяснять — понимание приходит в самом принципе «увэй» («недеяния»). Важно лишь понять: там, где ты стоишь, и есть середина «бесконечной бесконечности», и то, что ты делаешь, и есть гунфу. Тогда и достигается «благость» от занятий ушу, или, как называл это Сунь Лутан, «применение форм ушу начинает гармонизировать с Дао». Занятия ушу становятся неотличимы от действия Дао. «Срединная гармония» — момент, где все равно важны и равновелики в общем потоке передачи и одновременно иерархичны, ибо кто-то передает, а кто-то воспринимает, устанавливает отношения полной интимной доверительности. Прежде всего это преданность делу, школе, мастеру. Доверительность как мерило присутствия мастера в ученике позволяла перетекать знанию из одного сосуда в другой. Мастер и ученик были двумя полюсами, между которыми возникало напряжение, позволявшее создать мир нерасчлененной телесно-духовной интуиции и взаимопонимания. Здесь не было места неверному истолкованию слов — диалог, притом весьма интенсивный, происходил на ином уровне. Обучение могло начаться не с показа приемов, не с тщательного рассказа о принципах боя, но с установления искреннего, безусловного доверия между учителем и учеником.  Даос Чэнь Цзиньнань, медитирующий в пещере Разрушением границ формализованного знания школа ушу отличалась от обычной, где один рассказывает, а другие «заучивают» и где акт выражения сведен к ловкому оперированию словами, а в Китае — каноническими конфуцианскими текстами. Вызубривание сотен поучений древних философов вряд ли могло с абсолютной достоверностью обеспечить передачу их мыслей и знаний. Они были утрачены в тот момент, когда имперская цивилизация, восхитившись своей разумностью и рациональностью, презрела «малую традицию», разрушив иносказательность и образность обучения. Внутренний ритуал как мера миропонимания не смог состыковаться с громоздкой ритуальной соборностью — мерой мировыражения. На этом фоне резко прорезается луч индивидуалистического философствования мастера-отшельника, бегущего от массового освоения истин. Но народная традиция сохранила доверительность и индивидуальность обучения, бессловесной, но многовыражающей беседы «сердца с сердцем». Тайна ушу заключалась, таким образом, не в технике обучения, но в самом мистериальном подходе к ней, в самой форме бессловесной передачи. Кстати говоря, именно поэтому нельзя заставить обучать ушу насильно или обманом, поскольку, кроме чистых приемов, ничего невозможно будет вынести из такого преподавания, и многие великие мастера отказывались от почетных должностей наставников боевых искусств в императорских войсках. Те же, кто преподавал, довольно скептически относились к возможности кого-нибудь чему-нибудь полноценно обучить. Не случайно говорили, что «истинное кулачное искусство проистекает из сердца», то есть из самой души человека. Поэтому и путь ушу всегда связывался с путем в глубь себя. Лишь опытный учитель мог указать эту дорогу, и лишь искренний ученик мог увидеть ее. Доверие к наставнику превращалось в основу основ обучения. Но и сам учитель должен быть преданным своему ученику, доверяя ему часть своего сердца — того Знания, которое сам получил от первоучителей. Ушу могло умереть вне этого фанатичного доверия. Оно погибало и тогда, когда ученик проявлял духовное непонимание сути искусства, не постигая «всепреемственности духа Учения». Потеря искренности и доверия, утрата «срединной гармонии» в отношениях двух людей — крушение духовного мира гунфу, формализация отношений до ритуальных коммуникаций. Эта необычная суть ушу, где требуется за тренировками в боевой технике узреть некое Небесное гунфу, с большим трудом постигается не только иностранцами, но и самими представителями китайской традиции. И дело здесь, конечно, не в национальной специфике, но в способности привести свой дух в работу, а это всегда связано с постоянным самопреодолением. Не случайно конфуцианцы весь процесс воспитания благородного мужа сводили к одной емкой фразе: «Самопреодоление всего в себе». А следовательно, это и преодоление старых стереотипов относительно того, что есть ушу. Оказывается, в боевом искусстве речь шла далеко не об искусстве боя, равно как в каллиграфии — не только о выписывании иероглифов, а в самой жизни — отнюдь не только о механическом ее «проживании». За всем этим стоит сияние сердца человека, которое есть внутренняя глубина Космоса. Может быть, именно это сложнее всего понять представителям западной традиции в китайском ушу. Глава 4 В потоке «истинной традиции»
Передача дара В старых китайских текстах по ушу, философии, искусству в качестве синонима слова «обучение» мы нередко встречаем понятие «передача». Учитель не просто обучал, но именно передавал, что-то вручал, дарил ученику. Но что? Может быть, приемы? Но для их преподавания достаточно просто хорошего инструктора, а не «просветленного» учителя. Может быть, некие философские постулаты, теоретические построения? Но они целиком и полностью описаны в трактатах, а китайская традиция ушу при этом требовала исключительно личностного обучения, «от сердца к сердцу». Обратим внимание на другую особенность — китайское понятие «чуань» может трактоваться и как «передача» и как «традиция», в нем присутствует смысл «преемствования-передачи», некоего неугасимого потока сохранения Учения. И здесь перед нами встает, пожалуй, самый мистический, самый сложный для понимания вопрос о сути ушу: что конкретно передается и преемствуется в традиции китайских боевых искусств? Смысл выражения «традиция ушу» уловить весьма сложно, и даже китайские мастера не всегда способны объяснить его, хотя и явственно ощущают свою принадлежность к внутреннему потоку боевых искусств, пришедшему из глубокой древности. Обычные же люди полагают, что приобщение к традиции ушу есть обучение комплексам, формам, освоение принципов поединка, философских и теоретических построений. Иногда простую повторяемость внешних форм («Дед делал, отец делал, и я делаю») принимают за преемствование традиции, хотя это зачастую есть просто привычка или навык. Традиция — вещь более глубокая, связанная с особым состоянием сознания человека. В процессе обучения происходит преемствование духовного импульса, передаваемого от мастера к ученику. Процесс этой передачи бесконечен, он начинается в непроглядной древности и транслируется через века вплоть до нынешних поколений. Это и составляет суть передачи традиции. Такой духовный поток есть явление исключительно внутреннее, невидимое, по своим свойствам подобное Дао (для него существует даже выражение «преемствование Дао», т. е. Учения), а методы обучения, приемы, комплексы, трактаты и весь остальной декор являются внешним выражением, воплощением этого внутреннего потока традиции. Сложно поверить в то, что за боевыми искусствами — внешне столь эффективными, зрелищными — скрывается некое «внутреннее тело» традиции — фактически, основа ушу. Дело в том, что почувствовать ее можно лишь соприкоснувшись с этой традицией, «войдя» в ее внутренний мир. Для представителей Запада это дело чрезвычайно трудное: с одной стороны, необходимы некие каналы, по которым передается это «внутреннее тело», например, настоящая (не поддельная, не имитация!) школа ушу, «просвещенный учитель», воплощающий своим сознанием этот духовный поток, с другой стороны — колоссально долгое время, практически вся жизнь. Казалось бы, авторы отечественной книги, которая так и называется — «Традиции ушу», должны были разобраться в сущности этой традиции, но, увы, там нет даже размышлений по этому поводу, рассказа о многих важнейших этапах развития китайских боевых искусств.[25] Это вполне типичное западное понимание смысла «традиции» в ушу. Смысл Учителя ушу — в том, что он происточает и передает духовный флюид, некую Благую силу (Дэ), поток духа своим последователям. Воспринять его могут наиболее талантливые, «открытые Небу» ученики, которые так и назывались — «Небесные таланты» (Тяньцай). Здесь необходим особый тип психической организации человека, высокий уровень чувствительности. Понятие передачи и преемствования дара в китайской духовной традиции вообще играло особую роль. Прежде всего, дар — это знак признания тебя приобщенным к какой-то узкой традиции, например, семьи, клана, школы. Этот ритуал дарения пришел из древних обрядов посвящения, позже методом дарения активно пользовались китайские правители, одаривая своих подданных, что, впрочем, превращалось в перераспределение налогов и даров, поступающих в казну от подвластных князей. Происходило взаимоодаривание, и в этом проявляется смысл всякого ритуала дарения — он двойствен по сути. С одной стороны, он безусловно бескорыстен, безэквивалентен, с другой стороны — предполагает ответный дар. Ритуал взаимоодаривания символизировал приобщение людей к единому родовому древу, члены которого связаны между собой не только и не столько кровно-родственными узами, сколько объединены узами взаимной благодарности, то есть морального долга, который даже выше кровных связей. Традиционное понимание передачи знания как «одаривания» пришло и в ушу. Обратим внимание: в большинстве случаев обучение было бесплатным, бескорыстным и в известном смысле бесцельным — учитель ничего не получал (во всяком случае, видимо, материально) от самого процесса обучения. И в то же время за этой передачей стояло понятие «бао» — взаимной благодарности, которое выражалось в безмолвном обещании понести учение дальше, сохранить мастера в веках, передав дальше то, что он оставил ученику. В сущности, ученик должен был вернуть ту Благую силу (Дэ), которую передал ему учитель, но вернуть не только своему учителю, но всем тем, кто когда-либо будет приобщен к традиции ушу. Таким образом, на осознании передачи как бескорыстного и непрекращающегося взаимоодаривания и формировалось единое древо духовной традиции ушу. 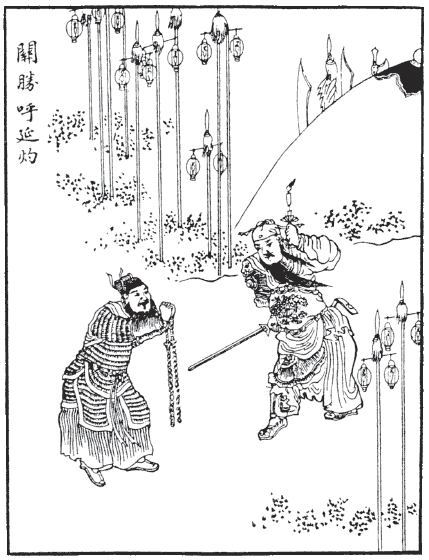 На поклон к учителю Сами носители китайской культуры явственно ощущали то, что за внешними формами, словами и поступками передается нечто вполне ощутимое. Но что конкретно? Тайные знания, некая герметическая мудрость Китая? Несложно понять, что передается сама истина (чжэнь), знание о доподлинном, изначальном лике человека и всего мира. Поэтому и система обучения в традиционных китайских школах называлась «чжэньчуанъ» — «истинная традиция», «истинная передача», или «передача истины». «Чжэньчуань» стала ключевым понятием во всех китайских боевых искусствах и особенно четко стала осознаваться в XV–XVI веках, приведя к становлению стилей «внутренней семьи» (тайцзицюань, синъицюань, багуачжан). Оказалось, что ушу стократ выше, чем простое умение вести бой, так как способно к тому же «передавать истину». Более того — оно может выглядеть совсем не по-боевому, как, например, плавные, мягкие движения тайцзицюань, но при этом способствует восприятию каких-то духовных потоков занимающимся. Духовный поток, берущий свою силу от древних мудрецов, был для последователей ушу не каким-то умозрительно-отвлеченным построением, но вполне реальной вещью, подобно тому как малопонятные для европейца «пять первостихий» и «восемь триграмм» находили конкретное применение в бою. Истина и есть само Дао, поэтому «истинная традиция» могла именоваться «преемствованием Дао» (Даотун) или «преемствованием духа», «всепроницаемостью духа» (шэньтун). Посредством определенных медитативных упражнений и — самое главное — общения с носителем «истинной передачи» человек приобщался к этому потоку духа древних мудрецов-мастеров, становился един с ними и входил, как говорили даосы, в «духовное соприкосновение» (шэньхуэй) с ними. Человек становился вечен. Он каждый раз возвращался вместе с возвращением «истинной традиции» в каждом последующем ученике. «Истинная традиция» — понятие емкое и словами практически необъяснимое, но именно ради получения чжэньчуань ученики годами, а иногда и десятилетиями разыскивали «истинных учителей». Важно понять, что чжэньчуань не заключается в каком-то определенном наборе техники или следовании методике, но исключительно в духовном, интимном приобщении к достаточно узкому кругу людей. Точнее говоря, конкретных людей здесь уже не существует — есть лишь бесконечная линия перевоплощения и трансформации «просветленного духа», проявляющегося в учениках и учителях. У учителя ушу может быть не один десяток учеников, но лишь один-два из них сумеют преемствовать эту «традицию истины», остальные же вырастут либо блестящими бойцами, либо хорошими инструкторами, но глубины боевого искусства им будут недоступны. Как мы уже говорили, это вопрос личных свойств, искренности и открытости человека, прежде всего — чистоты сердца в уважении к учителю и школе. Стоит поселиться лишь грамму недоверия и настороженности — и поток духа прервется. Искренность ученика и готовность учителя передать все — вообще основа слияния их сознания в единый организм. Лао-цзы учил: «К тем, кто добр, я иду с добром. К тем, кто зол, я также иду с добром — и так воспитываю добро. Искренним я верю. Неискренним я верю тоже — и так достигаю искренности».[26] Искренность и доброта — первый шаг к самооткрытости по отношению к традиции, ибо невозможно понять ушу, не доверяя априорно тем десяткам поколений учителей и учеников, которые проделали этот путь до тебя. Примечательно, что понятие «гунфу» всегда связано с осознанием самого себя: с одной стороны — как творца, с другой — как трудолюбивого и старательного передатчика некой внутренней истины. Ученик прежде всего должен воспринять «истинную передачу», с пониманием которой и связано гунфу. «Истинная традиция» — это всегда преемствование школы, ощущение себя членом бесконечно длинного ряда учеников-учителей как в прошлом, так и в будущем, причем речь идет о совокупной духовно-телесной передаче. Вместе с техническим арсеналом передается и духовное откровение, поэтому мы и говорим об ушу как об Учении. Человек должен угаснуть, но не должна прерваться линия «истинной передачи». Последователей истинной традиции было чрезвычайно мало во все времена, но еще меньше их сейчас, после многочисленных гонений на традиционное ушу. Этот слой мастеров чжэньчуань всегда был элитарным, полузакрытым, сохраняющим предельную духовную концентрацию внутри себя. Здесь особую роль играли специальные генеалогические хроники «цзяпу», которые имела каждая школа ушу. Зачастую они представляли собой огромные таблицы, как, например, цзяпу стиля Чэнь тайцзицюань с подробным описанием того, кто у кого учился. Смысл этих таблиц прежде всего заключался в следующем: по ним можно было безошибочно определить, кто принадлежит к «истинной передаче», а кто нет, и таким образом исключить подделки и профанацию. За счет понятия «истинной передачи» ушу всегда поддерживало духовную чистоту, чжэньчуань служила неким барьером внутренней гигиены боевых искусств, отсекало случайных, бесталанных, нечестных людей. Конечно, никакого объективного критерия здесь нет и быть не может, однако сами мастера безошибочно угадывают лжеца или профана, как бы точно он ни имитировал внешние формы ушу и каким бы могучим бойцом он ни был. Техническое мастерство, мощь удара здесь не в счет, хотя это и составляет важнейшую часть ушу. Речь идет о способности понять и полностью принять глубинный смысл ушу, превзойти самого себя и выйти за рамки собственной индивидуальности в пространство пустоты Дао. Распознать ту границу, на которой кончается техническое обучение и начинается «истина», весьма нелегко. Мастер тайцзицюань Дун Иньцзе (начало XX века) заметил: «Новички испытывают немалые трудности, определяя какие-то относительные ценности в ушу. Я могу говорить, что мое искусство лучше всех, но, в конце концов, кто может судить об этом? В идеале, человек должен свободно ориентироваться в различных приемах. Одни говорят, что они используют свою силу, другие — мастерство. Но в любом случае это не более чем набор каких-то принципов. Без истинной передачи невозможно понять смысл этого».[27] Итак, истинная традиция стоит над техникой и даже над принципами — она, по сути, предшествует им. Соприкасаясь с духом первомудрецов Испокон веков Китай был пронизан идеей передачи некоего импульса мастеров-совершенномудрых, который напитывал всю Поднебесную. Про этих людей складывались легенды и мифы, которые начинали играть важную роль для всего китайского мировосприятия. Разбираясь с историей ушу, мы все время будем наталкиваться на миф как на подмену профанной реальности сакральным отображением. Причем миф для поклонника ушу есть вещь более настоящая, более ощутимая, чем сама реальность. Бодхидхарма, Лао-цзы, Чжан Саньфэн — полулегендарные лица — для последователя ушу более привлекательны и более ценны, нежели реальные мастера. Ибо именно из древности, от этих полулюдей-полудухов и исходил первоимпульс, передаваемый затем через вполне реальных учителей. Именно эту роль и играют легенды в истории ушу, превращая ее в нечто более ценное и важное, нежели цепь рядоположенных фактов. Миф — это попытка осмыслить процесс развития ушу как священную историю передачи духа. Он не несет в себе объективного знания, но перед нами предстает познание истины куда более глубокого свойства. И китайцы сами осознавали это. Не следует забывать, что обучение в ушу всегда называлось «передачей истины».  «И даже драконы говорят с ним» В течение столетий формировались формы передачи — сначала аморфные, неясные, туманно-размытые, но тем не менее весьма действенные, типа гексаграмм «Ицзина», которые затем вылились в концепцию (если вообще возможно «пустоту» именовать так) Дао и вечных трансформаций вещей и явлений. Позже возникают и более доступные способы, например, даосская медитация, изготовление пилюль бессмертия, дыхательно-гимнастические системы даоинь, призванные пробудить сознание человека для восприятия этого импульса, идущего от древних мудрецов. В конце концов формируется особый смысл китайской эстетики и искусства, призванный не что-то объяснить человеку, как это делают философские системы Запада, а подарить ему особый тип переживания внутренней, неявленной реальности мира. Одной из таких систем является ушу в том виде, в котором оно подошло к XVII–XVIII векам, и, в частности, «внутренние стили». Но это всего лишь недоказуемые предположения, пока не способные стать рабочими гипотезами. И все же, так или иначе, ушу передает за своими внешними формами некий особый внутренний настрой, особое чувствование, называемое «Великим чувствованием», «Великим озарением», «Великим проникновением», «Великой радостью», «Великим ликованием», «преемствованием Дао». И вся суть обучения заключена лишь в том, чтобы во всей полноте передать «истину» ученикам. И передать не словами, не наставлениями, но именно своим личностным «энергетическим» воздействием на последователей. Неважно, кто конкретно передает, более существенно — обладает ли данный человек «истинной традицией». Уже известный нам Дун Инъцзе объяснял: «Сокровища древних боевых искусств, конечно же, не передавались нетронутыми. В будущем, если те, кто имеет склонность забывать своих учителей, все же сохранят то знание, которое им передали, то в этом случае мы точно получим истинную передачу. В этом нет никаких сомнений».[28] Благодаря тому, что в Китае вкладывался особый смысл в выражение «передача истинной традиции», мастера не делали больших различий в том, какой школе обучаться. Лишь в сознании начинающих или просто дилетантов этот вопрос — какая школа и какой стиль лучше — играет определенную роль, хотя на самом деле суть совсем в другом: получил ли человек, который считает себя учителем, эту «истинную передачу» или нет. Если нет, то тогда ему просто нечего передавать, он является либо обыкновенным инструктором (каковых немало в современном ушу), либо просто шарлатаном. Не бывает плохих или хороших стилей — каждый из них полноценен и только поэтому может считаться стилем. Встречается другое: люди, преподающие «доподлинно-настоящий» (чжэньцзунды) стиль ушу, например, шаолиньцюань, демонстрирующие правильные формы таолу и эффективные приемы, по своему уровню сознания не способны воспринять тот духовный импульс, то внутреннее, «бесформенное» наполнение, которое стоит за ними. «Истинная традиция» оказалась не передана, а школа, таким образом, — не реализована. Такой тип точной имитации внешней формы стилей без внутреннего наполнения называется «ложной передачей» (цзячуань). Причем большого критического смысла в это выражение не вкладывалось. Вполне понятно, что лишь единицам доступно понимание глубин ушу и его «истины», а усердная имитация движений сама по себе не так уж плоха. Важно другое: люди «ложной передачи» сами ничему научить не могут или их обучение лишено целостности. Не случайно в мире ушу существует поговорка: «Для ложной передачи требуются десятки тысяч томов. Истинную передачу выразишь и одним словом». Итак, вновь мы подходим к ключевой максиме всей китайской традиции: важно не что передавать, не сам стиль ушу, а важно кто передает, какой внутренний мир стоит за его словами и поступками. Зыбкая грань между ложной и истинной передачей волновала многих китайских мастеров, стремившихся сохранить свою школу. Увы, они сталкивались и до сих пор сталкиваются с глобальным непониманием самого смысла чжэньчуань — ведь суть передачи постигается лишь сознанием, находящимся на высоком уровне ментального развития, а обычные люди не видят большой разницы между мастером, передающим истину, и его учеником, который лишь точно копирует его. Иногда даже ученик кажется лучше: он и движется быстрее, и бьет резче. Но суть мастерства в другом — в умении оставить после себя определенный духовный импульс, «след» (цзи), а его не измеришь силой удара. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу так описывает путаницу этих понятий в головах учеников: «Люди, которые хотят обучаться боевым искусствам, спрашивают, что лучше — внешние или внутренние школы. На это я отвечаю, что все системы, созданные древними мастерами, хороши, и вопрос заключается лишь в том, получают они истинную традицию или нет».[29] Передача духовного импульса в ушу требует предельной «чистоты сердца», «умиротворенности сознания», с одной стороны, и искренности по отношению к миру и окружающим, с другой. Задумаемся, насколько нам трудно поверить, что наше собственное «Я» не является чем-то исключительным, а представляет собой лишь воплощение древних мудрецов, их чистого и светлого сознания. Логически это еще можно вообразить, но реально воплотить в себе такое переживание доступно далеко не каждому. Преемствуя импульс «истинной традиции», человек выходит за рамки собственного «Эго», а его умиротворенно-спокойное сознание способно вобрать весь мир. Человек «теряет», «утрачивает» самого себя. А это значит, что он становится всем. Мир представляется полностью прозрачным для него, вещи — взаимопроницаемыми. Человек растворяется в потоке «истинной традиции», преемствуя Дао. Здесь нет места «обучению» как таковому, «запоминанию» или накоплению информации, нет никакой четко разработанной методики. Существует лишь сама возможность войти в континуальные потоки сознания своего наставника при личностном общении, слиться с ним, а следовательно — и с внутренней реальностью мира. «Дао Дэ цзин» говорит по этому поводу: «Следуя обучению, день ото дня обретают. Следуя Дао, день ото дня теряют. Теряя и теряя вновь, достигают недеяния. В недеянии все вершится само собой».[30] Вот он — момент полной самоутраты, самозабытья, когда «не существует ни меня, ни другого», ни объекта, ни субъекта, момент полной самоотдачи и в то же время самосокрытия! Истинный мастер ушу — всегда человек просветленный и самоустранивший свое «Я» из этого мира. Он присутствует среди нас лишь как символ, как воплощение Дао. С одной стороны, он уникален, как любой конкретный человек с конкретными физическими параметрами и психическими свойствами, с другой — универсален, как воплощение «истинной традиции», прошедшей через сотни поколений. В мире существует лишь один Мистический Учитель. Он абсолютен, анонимен и дан нам как постоянное отсутствие. Ведь он подобен Дао, фактически, он и есть Дао, значит, и заметить его нельзя, можно лишь слиться, соединиться с ним. Естественно, что такое единение нельзя понимать физически или как имитацию этого Великого Учителя, — ведь он пустотен и поэтому не только не поддается имитации, но даже и невообразим в нашем сознании. Он дан нам как тип переживания, как особое миропонимание. Это не объяснишь и не расскажешь. Такое состояние молчаливого переживания внутренней реальности мира точно выразил известный австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Там, где человек может говорить, там человек должен молчать».[31] Наступает молчаливое, невыразимое восприятие истины. Ушу превращается во внешний символ этого внутреннего восприятия. Каждый ученик, каждый последователь бесконечно стремится воплотить в себе образ Мистического Учителя, растворенного в Вечности. Здесь и ответ на то, почему столь большое значение китайцы придавали малейшим тонкостям биографий известных мудрецов, хотя многие из них были явно полулегендарными личностями, например, знаменитый Бодхидхарма. Ведь перед нами на самом деле не «биография» Бодхидхармы или легендарного основателя тайцзицюань Чжан Саньфэна, а всего лишь иллюстрация к образу Мистического Учителя, его видимое воплощение. Мастера, передавая духовные импульсы из поколения в поколение, заставляют этого Учителя вновь и вновь возвращаться в мир, в бесконечном потоке духа переживают его просветленное состояние сознания. Именно эта «истинная традиция», этот духовный импульс и составляет суть традиции в ушу. Не приемы, не способы тренировки, не ритуалы, а некое внутреннее духовное состояние, переживание, особое видение мира как самого себя, непрекращающееся ощущение своей принадлежности к древу Учителей. Все остальное — приемы, комплексы — является либо внешним оформлением этого внутреннего духовного импульса, либо, подобно психомедитативной тренировке, — методом проникновения в собственные континуальные потоки сознания.  Объяснения тайной схемы Человеку западной традиции чудовищно сложно уловить смысл единства ушу не через похожесть приемов (как могут быть похожи боевой стиль шаолиньцюань и неподвижные позиции цигун?!), а через общность духовной передачи, через ощущение собственной принадлежности к «телу» древних мастеров, а точнее — к перевоплощениям Мистического Учителя. По сути дела, в мифо-логизированном сознании китайцев Бодхидхарма важен не тем, что основал шаолиньцюань или вообще все китайское ушу, а тем, что он воплощал собой образ и символ этого Мистического Первоучителя, был носителем истины и «преемствовал Дао». В отличие от Запада, в Китае считалось, что человек не рождается уже приобщенным к традиции, но вступает в нее в процессе передачи духовного знания — «истины». Он автоматически принадлежит к китайской культуре, но еще не принадлежит традиции. Последнее — это результат пре-емствования духовного импульса через «просветленного учителя». Сколько лет надо обучаться «истинной традиции»? Умение воспринять традицию зависит во многом от способностей самого ученика, и нередко у талантливого учителя могли быть бесталанные ученики. Впрочем, это случалось редко — истинный мастер просто не имеет возможности тратить время на тех, кто априорно не способен повести школу дальше. Великий мастер тайцзицюань Ян Баньхоу годами искал себе учеников и при этом прогонял десятки поклонников со своего двора, утверждая, что никто из них не способен понять и сотую долю учения, которое заключает в себе его стиль. Кажется странным: разве можно заранее сказать, из какого ученика вырастет настоящий мастер, а кто на всю жизнь останется лишь тщательным имитатором? Но именно тем и отличается мастер ушу, что безошибочно может понимать суть человека, который «пришел к его стопам». Остальное — дело времени. Ушу не просто учит человека быть терпеливым, спокойным и духовно сильным, но еще и требует немало времени для того, чтобы эти качества помогли открыться в учении самым глубинным слоям его сознания. Сколько лет надо для этого? Послушаем, как отвечает на этот вопрос мастер тайцзицюань Ян Чэнфу: «Один человек захотел узнать, сколько потребуется времени, чтобы овладеть тайцзицюань». Я сказал ему: «Мой друг, когда дело касается боевых искусств — о них нельзя рассуждать в понятиях времени. Учитель может использовать одни и те же методы для передачи своего знания, но способности каждого ученика — разные. Некоторые обучаются за год-два, некоторые достигают мастерства за три-пять месяцев. А есть и такие, которым не удается ничего постичь и после десяти-двадцати лет тренировок. Достижение в этом искусстве заключается не в обретении физической мощи или времени обучения, но исключительно в индивидуальных умственных способностях. Я изучаю это искусство уже в течение пятидесяти лет, но часто ощущаю потребность обратиться к учителю».[32] Удивительная способность китайского учителя: он считает себя вечным учеником, и благодаря этому его обучение никогда не прекращается. Он постоянно ощущает себя в потоке трансформаций и самосовершенствования, никогда не равен самому себе и стремится к вершине. Поэтому вопрос о времени обучения, о «количестве лет», необходимых для тренировки, для Ян Чэн-фу кажется просто бессмысленным. Вся жизнь человека, каждый ее миг — есть практика ушу. Не случайно он подчеркивает, что боевые искусства бесконечно превосходят физическую тренировку и являются способом развития своих духовных способностей.  Передача тайного дара — передача знания Сколько раз можно услышать от китайских учителей: шаолиньцюань можно выучить за полгода, для овладения багуачжан достаточно и двух месяцев. Что это — ловушка для доверчивых любителей боевых искусств? Но нет, действительно всякий стиль можно выучить за несколько месяцев, точнее — его технический арсенал. Но вот истинную передачу можно не получить и за всю жизнь. Кстати, Дун Иньцзе, составивший, пожалуй, самый подробный «график» тренировок в тайцзицюань, отводил на разучивание комплексов тайцзицюань около трех месяцев и свыше десяти лет — на постижение его глубин. Истинная традиция передается только при личностном общении, и ее нельзя описать в книге, прочесть и выучить, не случайно все мастера ушу смеются над обучением ушу по книгам. Понимание того, что существует лишь передача «от сердца к сердцу» и нет никакой другой, пришло в Китай еще в середине первого тысячелетия до нашей эры. Именно тогда зародилась мысль о том, что мудрец учит уже одним своим присутствием. Лао-цзы объяснял: «Мудрец действует недеянием и учит молчанием. Мириады созданий, не испытывая никакого вмешательства, возникают благодаря этому».[33] Таким образом, молчаливое обучение мастера, Великого Учителя, носит вселенский креативный характер, создавая все вещи и в то же время не вмешиваясь в их естественный ход развития. Мысль о внесловесной передаче истины путем личного общения проиллюстрировал даос Чжуан-цзы (IV век до н. э.). Он рассказал: «Хуань-гун, пребывая в покоях, читал нараспев старинную книгу. А колесник Бянь обтесывал неподалеку колесо. И вот, отложив долото и молот, он поднялся в покои и осведомился у князя: — Осмелюсь спросить, что за слова читает государь? — Это речи мудрецов, — ответил Хуань-гун. — А мудрецы эти живы? — спросил колесник. — Умерли, — ответил князь. — В таком случае то, что вы, государь, читаете, — это лишь винный отстой, что остался от древних. — Я, князь, читаю книгу, — сказал Хуань-гун, — а о ней смеет рассуждать какой-то колесник? Если есть что сказать — говори, если нет — умрешь! И колесник Бянь сказал так: — Я, ваш слуга, гляжу на это с точки зрения своего ремесла. Когда обтесываешь колесо не спеша — работается легко, но колесо выходит непрочным. Когда же поспешаешь — и работается трудно, и колесо не прилаживается. Умением не спешить и не медлить владеют руки, а сердце только откликается. Словами этого не передашь — ведь тайна ремесла осталась где-то между ними. Я не способен даже намекнуть на нее сыновьям, а сыновья не способны от меня ее принять. И вот в свои семьдесят лет я продолжаю обтесывать колеса. А уж древние тем более не в силах передать свое учение — потому что умерли. Стало быть, то, что вы, государь, читаете — лишь оставшийся после них отстой!»[34] В связи с тем, что «истинная традиция» передавалась тайно, неприлюдно, в акте духовного общения двух людей, она часто называлась еще и «тайной передачей» (мичуань). К мичуань в различных школах ушу относили вполне конкретные вещи, например, некоторые приемы, комплексы, принципы, медитативные упра-жнения, философские тексты. Полный канон шаолиньцюань, начиная от элементарных учебных комплексов вплоть до сложнейших методов боя, также носил наименование «Тайная шаолиньская передача». Но разве простейшие шаолиньские комплексы типа «Большой красный кулак», «Малый красный кулак», известные любому ученику с первых месяцев занятий шаолиньцюань, можно считать тайной? К тому же они еще с XVIII века были опубликованы и ни от кого особо не скрывались. Здесь нам приходится столкнуться с особым характером понятия «тайны» в ушу. «Тайная передача» — это не то, о чем нельзя говорить прилюдно, а то, о чем вообще невозможно сказать. Понятие «тайны» похоже на понятие «сокрытое — ти» Дао, которое ни от кого специально не прячется, но постичь его дано лишь просветленному человеку. Истинная традиция — всегда тайная традиция, так как существует в виде скрытого духовного потока за многоликостью различных движений, приемов, разговоров, наставлений, трактатов. Не будем, конечно, отрицать, что существуют «тайные разделы» в различных стилях ушу, например, особенности ударов по точкам, использование подручных средств для боя («тайное оружие»), управление психикой противника и т. д. Преподаются они лишь на высших этапах обучения наиболее доверенным ученикам, полностью овладевшим не только технической базой стиля, но и морально-нравственными принципами ушу, называемыми «боевой моралью». Даже в «безобидном» стиле тайцзицюань существуют «тайные» надавливания на точки, приводящие к частичному обездвижению соперника, потере сознания или даже смерти. Тем не менее, до многих вещей можно дойти самому, зная основы анатомии, психологии, кинематики движений, хотя это потребует не одного десятка лет. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем интересным фактором, что многие комплексы ушу, называемые «тайной передачей», по своему техническому арсеналу и прикладной мощи ничем не лучше, нежели «открытые» комплексы. Причем сами носители ушу зачастую не способны объяснить это явление. Но можно посмотреть на этот факт и с другой стороны: комплексы «тайной передачи» не ведут напрямую к овладению какими-то тайнами, а сами символизируют то, что на этапе изучения данного таолу человек приобщается к каким-то потаенно-невыразимым вещам в ушу. Фактически это некие знаки, говорящие, что ученик получил «допуск» или прошел посвящение в число наиболее доверенных людей, способных продолжить школу. То же относится и к тайным трактатам. Существуют «Канон тайной передачи тайцзицюань», «Канон тайной передачи шаолиньцюань», открыто опубликованные в разных вариантах. Но тайна состоит не в самом тексте, не в том, что написано, а в том, что стоит за текстом, в той эмоции сознания, которую может вызвать мистический текст ушу у ученика. Многие способы тренировки, описанные в тайных трактатах, требуют десятков лет занятий, но сама «тайность» трактата гарантирует то, что усилия при правильном соблюдении всех методик увенчаются успехом. Тайна для ушу, таким образом, — не прием, не слово, а «истина», некий глобальный принцип, который стоит за всем этим и который можно понять лишь через много лет занятий. А это значит, что «тайная традиция» связана с понятием священного в жизни. Такой характер тайности, которая кажется полной открытостью, приложим, в частности, и к китайским тайным обществам. Хотя они и считались «тайными», об их существовании прекрасно знали вся местная чиновничья администрация и даже центральные власти. Но их «тайность» говорила о том, что эти общества несут в своих недрах понимание того мистического начала жизни, которое недоступно обычному человеку. Тайна для Китая всегда есть способ приобщения к потоку «истинной традиции». «Истинная традиция» проявляется как личная передача возврата к прошлому, к такому «доформенному» состоянию в запредельно далеком, где формы сливаются в один общий образ, единящий всех последователей этой традиции в единое тело. При впечатляющем разнообразии форм, стилей, направлений, методов тренировки — ушу в своей основе едино. Переливаясь множеством красок и полутонов, оно неизбежно оказывается тождественным самому себе, как «самовозвратно» Дао, дающее проявление «десяти тысячам вещей». Но поскольку ушу целостно и, как учили мастера, единится в лоне «истинной передачи», почему же вместо процесса сближения и слияния стилей шел процесс их «расползания» в разные стороны? 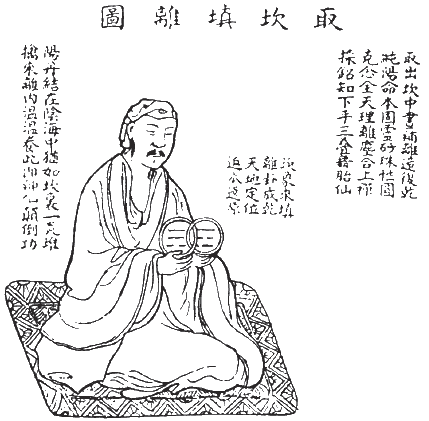 Мастер, вбирающий в себя воду и огонь (XV век) Ответ на этот вопрос имеет как бы несколько слоев. Прежде всего, каждый учитель имеет свои индивидуальные склонности, конкретные физиологические особенности, привычки, свой склад ума. Но более глубинный ответ заключен в самой сердцевине той культуры, которая породила ушу. Китайская почва определила момент передачи традиции и восприятия «истины» непосредственно лично, как момент интимного общения ученика с мастером, а фактически — человека с Дао. Происходило то, что называлось «Великим следованием», когда человек своей волей, своим сердцем уподобляется потоку Дао и, таким образом, не имеет «постоянного сердца», проще говоря — индивидуальной души. Своей душой ученик сливается с сердцем учителя, а следовательно, и с потоком истинной традиции. Так происходит акт усвоения культуры, а она интимизируется, сокращаясь до индивидуальной личности и одновременно раздвигая свои рамки в бесконечность. Этот процесс присутствует в обучении ушу в предельно концентрированном виде и позволяет уловить «невыразимо утонченную природу» (вэй) ушу вне форм и даже, в конце концов, вне образов, исключительно как момент трансформации воли. При полном единстве и повторяемости этого момента конкретно-личностная ориентация обучения приводила к несхожим внешним проявлениям, равно как несхожи у двух людей почерки, даже если они и учились у одного наставника. Ведь, по большому счету, передавались принципы, а форма служила лишь емкостью для этой передачи. Содержание не зависит от упаковки, равно как кувшин не определяет, что в него налито, а единство принципов не ведет к единой форме. В современном Китае понятие «истинная традиция» несколько изменило свой смысл. Иногда его применяют к любому, кто занимается традиционным стилем ушу у старого учителя. Понимание «истинной традиции» как исключительно духовной передачи пропадает. Сегодня зачастую «истинная традиция» просто противопоставляется тем, кто занимается ушу ради внешних показных эффектов («лишь ради демонстрации» — вэй бяо-яньды) типа спорта, когда от огромного комплекса боевых искусств остается лишь внешняя имитация. И тем не менее, традиция «истинной передачи» жива в Китае до сих пор, хотя поддерживается крайне небольшим кругом традиционных школ. Их миссия — передать целиком тот духовный импульс, который был воспринят их предшественниками сотни лет назад. Многие сегодня даже отказываются брать учеников. Если нет «истинного ученика», соответствующего самой глубине культуры ушу, то лучше не обучать никого, нежели преподавать недостойному, или, как говорили в школах ушу, «лучше уж вовсе не передавать, нежели передавать поверхностно». Базовый трактат по искусству меча одной из старых школ ушу «Наставления по мечу куньу» объяснял: «Иметь возможность передать и не передать — это значит потерять человека. Не уметь передавать, но передавать — это значит потерять искусство меча. Но если предполагать, что человек не истинен, то лучше потерять и человека, и искусство меча».[35] Истинная традиция останется жить лишь в сердцах достойных и открытых для Неба людей как бесконечный поток духа совершенномудрых древности. Глава 5 Человек, открытый абсолютной тайне
Мастер — «Лик безликого» Учительствование на Востоке — всегда священнодействие. «Хороший певец заставляет других следовать своей мелодии, а хороший наставник заставляет других следовать своему идеалу. В словах он краток, но выразителен, небрежен, но полон скрытого смысла. Отличается он тем, что приводит яркие примеры для того, чтобы люди понимали его. Таким образом, можно сказать, что он искусен в том, чтобы заставить других следовать своему идеалу. Благородный муж знает, что трудно и что легко, что отменно, а что заслуживает сожаления, ведает он и о тех вещах, которым следует учиться».[36] Так говорит «учитель учителей» Конфуций. Больше всего историй и легенд ходит, конечно же, о мастерах ушу. И все же есть много недосказанного, и прежде всего — невыразимого, ибо фигура китайского мастера ушу предельно мистична. О китайских мастерах — носителях ушу писать чрезвычайно сложно. Слишком далеко отстоят они от нас, слишком высок и далек их нравственный идеал, заложенный в самой сути традиции китайской мудрости. Мы говорим об их отдаленности, но подразумеваем, конечно же, не время, но огромную духовно-пространственную дистанцию. Исторические хроники о таких людях упоминают крайне сухо, предельно по-деловому, вплетая их в бесконечный ряд поэтов, художников, преданных чиновников, отводя им место в «потоке Дао». Редко, крайне редко доходят до нас их высказывания — мудрые, точные, иногда ироничные. Жизнь, искания, идейные концепции мастеров ушу невозможно изложить тем общепринятым языком, каким мы привыкли описывать «жизненный путь» западных знаменитостей. Причина тому — не в отсутствии у нас их биографий. Скорее, наоборот, кажется, порой их слишком много, начиная от династийных историй, кончая семейными хрониками и устными повествованиями. Правда, повергает в недоумение их поразительная схожесть, будто речь идет о собирательном, идеальном образе Мастера. Действительно это так, хроника описывает не столько реального человека, сколько идеал традиции, сложившийся на протяжении столетий. Признаться честно, ни про одного из мастеров ушу средневековья или даже нового времени мы не можем рассказать с абсолютной достоверностью, целиком положившись на архивные материалы. И все же это нас не будет слишком удручать — легенды и предания передают не столько реальность, сколько отношение самой духовной традиции к этой реальности. А значит, мы можем узнать, как сама китайская среда относилась к истинным носителям ушу. Ушу представляется нам своеобразным зеркалом, позволяющим пристальнее вглядеться в возможность сохранения собственной природной целостности — того, что было присуще великим мастерам. Поэтому имеет смысл не излагать их биографии (у нас еще будет немало возможностей для этого), но посмотреть на тот собирательный образ мастера, который сложился в китайском ушу. Вот первое интересное наблюдение. В их биографиях нет ничего, что говорит о мастерах ушу как об активных творческих личностях и новаторах, творцах, настойчиво утверждающих приоритеты своих жизненных принципов, философии или концепций, что обычно высоко ценится в западной традиции. В Китае же мастер ушу явно неприметен и своей жизнью лишь повторяет общий абрис Дао. Он вплетен в цепь пространственно-временной передачи Учения, поэтому для китайской традиции имеет большее значение, у кого он учился и кто стал его учеником, нежели доскональная точность в описании его биографии. Личная драма творчества остается «за кадром». Более того — и это покажется нам парадоксальным — в метафизическом плане не важно, чему и как конкретно они обучали. В конечном счете мастер всегда передает Дао, он сводит свою жизнь к многозвучию абсолютной творческой пустоты, он рассыпается, диффузирует в переливах жизни и при этом отсутствует в какой-то конкретике. Этот акт самоутраты в многоликости форм обозначался в традиции как «сань» — «рассеивание», «рассыпание». Величайший мастер — тот, кто сумел уйти от личностности передачи, от собственного субстанционального «Я» в мир «утонченного» (мяо), «сокровенного» (сюань) и «бесформенного» (усин). Поэтому мастер как данность отсутствует (что, кстати, не исключает, а лишь подтверждает существование вполне реальной личности наставника), существует лишь его Мастерство. Миссия этих людей — в передаче «истинной традиции». Они — лишь отсвет «лика безликого», того, что пустотно, неуловимо-всеобще и на словах обозначается как Дао, но лежит за рамками обыденно-чувственного понимания и всяких словесных объяснений. Жизнеописания мастеров стереотипны и явно собирательны. Мы без труда насчитаем не больше десятка возможных сюжетов, по сути дела — мифологем, из которых складывались биографии великих учителей ушу. Практически все они повторяют биографии «истинных людей» — даосов, нередко им приписываются подвиги буддийских святых. На первый взгляд нас может удивить, что все они совершали одни и те же поступки, например могли передвигаться, не касаясь ногами земли, расшвыривали десятки противников, оставались неуязвимыми для ударов мечей и копий. Такая стереотипизация — отнюдь не насильственное обезличивание, характерное для технократических культур, обозначаемое как «единство людей», где мы, самоуспокаиваясь, создаем мифы о каких-то личностях — вполне средних и вполне понятных нам людях. В китайской культуре «передача духа» есть факт вполне реальный, чувственно ощутимый и представляющий собой высочайшее вознесение каждого до вершин наиболее талантливых и мудрых людей, где личностная конкретика — имя, внешний облик, даты жизни — уже ничего не прибавит к экспрессивности и истинности общей картины духовного совершенства таких людей. Нравственный идеал традиции Культ учителя, мастера и наставника (шифу, лаоши) — одна из характерных черт не только китайской культуры, но и многих стран Востока. Учитель — это не столько тот, кто учит, но прежде всего — «тот, кто знает», кто обладает истинностью знания и способен его передать. Абсолютным критерием такого учителя-мудреца в Китае было обладание им «Благой мощью», «Благой силой» — Дэ, идущей от Неба и являющейся по сути дела проявлением Дао в человеке. Китайский учитель-шифу не показывал приемы — это мог сделать один из его старших учеников. Учитель передает учение и учит уже одним своим присутствием. Он несет истину и может свидетельствовать о ней ученикам. Тот, кто ею обладает, сам может рассматриваться как трансцендентное существо — Абсолютный Учитель. Шифу выступает сразу в двух ипостасях, ибо его явленная сущность — смертный человек с конкретным именем и обликом, обучающий тому, чему научил его учитель. Но существует и его вторая ипостась, скрытая и данная лишь в эзотерической сущности учения, — он вечен, обладает вневременным характером, так как передает истину. И этот Учитель ниоткуда не берется и никуда не уходит. В этом смысле шифу безличностен, ведь он учит тому, что извечно, что создано не им, но передано некими первоучителями. Он не просто говорит о вечных вещах, но прежде всего сам воплощает их, символизирует их и немыслим вне этой тайной реальности космоса. Шифу — ретранслятор древнего учения великих учителей. Его миссия заключена в том, чтобы целостно передать эту истинность, в данном смысле у него нет иного стимула к существованию в этом мире. Знания он получал мистическим путем и таким же мистическим путем передавал их дальше. Десятки мифов, распространенных про учителей, лишь подтверждали их статус: про одних наставников говорили, что они учились у бессмертных небожителей — сяней, другие получили свои знания во сне, когда им явилось сокровенное божество, третьи обучались у животных, наблюдая за их повадками. Так или иначе, свою мудрость они черпали из природы, от Неба, а соответственно и сами уходили корнями в Прежденебесное начало. Эти мифы значительно повышали ценность каждого конкретного учителя: ведь он говорил словами древних, а мудрость его не имеет истоков в этом, сущностном мире и принадлежит совсем иному пространству. Чем древнее учитель, чем больше столетий прошло со дня его смерти, тем ценнее его изречения. И передавать его слова считалось большой заслугой, доступной далеко не всем. Так что статус учителя ушу, передающего мысли первопредка (тайцзу), благодаря этому был весьма высок. «Тот достоин быть учителем, кто, постигая новое, сохраняет в себе старое», — отмечал Конфуций. Он же говорит и о сущности передачи: «Я передаю, но не создаю нового, честен в словах и привержен древности». Таким образом, учитель в Китае — передатчик древней традиции, эзотерического знания, которое он сохраняет, передавая из поколения в поколение. Не случайно всякая мысль Конфуция об учительствовании проникнута идеей, что учитель — это не тот, кто лучше всех учит, а тот, кто лучше всех учится. Именно это и определяет само понятие традиции в ушу — долговременного сохранения духовного опыта первопатриархов (пускай легендарных) и самой системы эзотерических знаний благодаря личности учителя. И в этой традиции передается прежде всего личность самого учителя. Наставник ушу в Китае — это всегда живое воплощение первооснователей школы. Он не божество, он именно человек во всей полноте проявления своей внутренней природы (син), «реализованный человек», великий своей связью с древностью. Школа ушу обеспечивает передачу того эзотерического знания, в которое посвящен шифу, и фактически через этот канал личность учителя передается ученикам. В этом и заключена мистическая сущность школы, которая не столько «учит ушу», сколько обеспечивает бессмертие Абсолютного Наставника, воспроизводя его жесты, его поступки в каждом последующем поколении учеников, и в конечном счете сводит эту личность к ее сокровенному истоку — тому, что «не имеет ни формы, ни образа», к абсолютному пределу всякого учительствования и культурной формы вообще — к животворной пустоте. Ученик в школе ушу редко удостаивался словесных объяснений. Да и как объяснить пустотную сущность высшего смысла ушу? Он должен был бессловесно и «изумительно точно» повторять движения учителя, следить за его поступками, стремиться во всем быть похожим на него. Эта «похожесть» ни в коем случае не должна была стать простой имитацией, но являлась именно воспроизведением внутреннего состояния шифу. По-китайски ученик назывался «туди», что дословно означало: «тот, кто идет следом», или «тот, кто вступает в след», что по смыслу близко западному понятию «последователь». Вдумаемся в изначальный смысл этого слова — речь идет о самообнаружении человека в следе великого учителя. Ведь то, что воспринимает ученик, — жесты, слова, мысли — все это следы того наставника, который когда-то существовал в этом мире, да и сам мир является глобальным следом первомудрецов. Именно поэтому ученик не заучивал какой-то набор приемов, но был «следом» (цзи) и «образом» (сян) учителя. В качестве такого абсолютного учителя могли выступать не только люди, но даже животные, что встречается, например, в имитационных стилях. Мастер по стилю хоуцюань (стилю обезьяны) Фу Минькэ держал в своем доме в качестве учителя обезьяну, воздавая ей такие же почести, как и шифу. Основатель танланцюань (стиля богомола) Ван Лан наблюдал за повадками сражающегося богомола, перенимая его манеру поведения перед лицом опасности.  Воин учится даже у прохожего с вязанкой хвороста Не скроем, у нас — представителей западной культуры — зачастую создается впечатление, что мастер ушу — это прежде всего тот, кто может одним ударом свалить нескольких нападающих, способен кулаком крушить черепицу и сбивать в прыжке всадника с коня. Тем поразительнее может показаться тот факт, что истинный мастер всегда избегал поединка и более того — мог никогда не вступать в бой. Истинное мастерство определяется не количеством побежденных противников, ибо его исток — внутренний, невидимый, духовный, внебытийный. Этим мастер отличался от обычных кулачных бойцов — гаошоу («высокие руки»), которые показывали свое умение на ярмарках, бросали вызов другим бойцам, демонстрировали удивительную физическую силу, поднимая мельничные жернова. Бойцов уважали, боялись, ими восхищались, но мастерство шифу было другого свойства — ему поклонялись. Более того, учитель может и не показывать своего мастерства. В традиции мистического даосизма распространилась поговорка: «Даос выше мага». Маг мог летать на облаках и усмирять тигров, мог внезапно исчезать из виду и светиться в темноте. Но мастер-даос был уже выше этой показной обыденности — он превосходил внешние феномены этого мира. Шифу передает свою душу, и психологии истинного запредельного мастерства чуждо стремление к славе, к наживе, к шарлатанству. Мастер далек от показной демонстрации своего умения, и может быть поэтому имен самых больших мастеров мы не знаем. Одной из характерных черт учителей ушу была их жизненная ненавязчивость, шифу никогда не проповедовал о пользе ушу среди непосвященных, не «зазывал» к себе в школу. «Дао Дэ цзин» очень точно сравнивает осторожность мастера по отношению к жизни с «человеком, переходящим реку по льду зимой». А что должен знать сам учитель? Сколь полны должны быть его знания? Кажется, он должен обучаться многому и в общем-то быть универсален во всех областях жизни. Но вот Конфуций дает совсем иное направление нашим мыслям: «Благородный муж говорит: «Великий человек не обязан быть умелым в каком-то деле. Великий характер не должен быть искушен в какой-то службе. Великая честь не обязательно заставляет людей хранить свое слово. Великое уважение ко времени не делает человека пунктуальным». Знать эти четыре вещи — это значит знать истинный смысл вещей в жизни».[37] Оказывается, по сути дела мудрец не должен знать ничего — точнее, ничего конкретного, никакого дела. Это понять несложно — он не обязан вообще что-либо делать, проявлять активность, «обучать» в западном понимании этого слова. Он присутствует в этом мире и уже тем самым учит людей. Его Знание выше обыденного знания, эти два понятия просто несопоставимы. Тот, кому открыты глубины Космоса, может не знать, как делать, ибо ему известен секрет «Великого делания» — то есть он соритмичен с Дао, которое также «ничего не делает, но нет того, что оставалось бы несвершенным». Мастеру, так же как и Дао, присуще недеяние через сверхдействие. Он не делает ничего конкретного, потому что умеет делать все и тем самым превосходит всякое действие. Он не вступает в поединок, ибо для него нет даже намека на прямое столкновение с миром. «Умеющий путешествовать, не оставляет колеи. Умеющий говорить, не делает ошибок. Умеющий считать, не пользуется счетными палочками. Умеющий запирать двери, не пользуется засовами, а то, что он закрыл, невозможно открыть. Умеющий связывать, не использует веревок, а то, что он завязал, невозможно распутать. Поэтому мудрецу часто удается спасать людей, не оставляя ни одного из них. Это зовется сокровенной мудростью» («Дао Дэ цзин»). Обратим внимание на то, что мудрость и сверхумение мастера — сокровенны. По-китайски это обозначается словом «сюань» — «потаенное», «темное», «сокрытое». Все эти термины приложимы и к Дао, таким образом, истинный мудрец не просто «следует Дао» — он и есть воплощение Дао. Воплощение реальное, но непроявленное и как бы нарочито ускользающее от самопроявления. Нетрудно заметить разительное различие в отношении к мастерству в китайской и западной традициях. На Западе учителем может считаться любой человек, который, обладая определенным набором информации, преподает тот или иной предмет, при этом обладая, возможно, каким-то формальным удостоверением, например, дипломом. А вот в Китае понятие «Учитель» рассматривается как морально-этическая и сакрально-мистическая категория. Его знания — «не от мира сего», и в поисках истинных шифу ученики могли проводить в странствиях всю жизнь. Многие мастера ушу вообще отказывались брать кого-либо в обучение, не видя достойных, считая, что передача их знаний может в данном случае лишь повредить людям. Мастер передавал свои знания не на уровне приемов, но на уровне, как говорили в Китае, «семян» (цзин). Он оставлял завязь, которая должна взойти, повторив его самого. Учитель ушу как главный, а порой и единственный носитель школы был не просто человеком, лучше других знающим свой стиль. По существу, он — человек с абсолютно иным, качественно более высоким восприятием мира как метафизической целостности. Он — не только тот, кто лучше всех знает ушу, он и есть манифестация самого ушу. Подавляющее большинство его последователей навряд ли понимали ту глубину, которую он открывал перед ними, но все подпадали под непреодолимо притягательное обаяние его облика — по сути, под влияние его трансцендентного образа. Именно этот образ, растянутый по времени, и сохранял традицию школы в непрерывности, так что даже со смертью Учителя она продолжала жить в учениках. «Тёмен, безобразен и пуст» Здесь мы незаметно затронули один тонкий, но чрезвычайно важный вопрос: чем же традиционное ушу отличается от современного? Да и вообще — где конкретно коренится традиция ушу? Ответ на него для большинства современных западных авторов сводится к несложному определению: «Все, что не современное, то традиционное» или: «Традиционное — это то, что существовало раньше». Естественно, мы здесь намеренно несколько упрощаем картину, но суть остается той же: традиционность ушу понимается как явление чисто внешнее, несмотря на многочисленные ссылки на «эзотерическое ушу», на его мистицизм и т. д. Примечательно, что в традиции господствует не форма действия, но его внутренний образ. Это справедливо и для ушу, поэтому традиция ушу — это ответ не столько на вопрос, что демонстрируется мастером ученику, но что передается за внешней формой и как передается. Для ушу, как и для многих явлений восточной культуры вообще, каналом ретрансляции традиций являлась именно эта духовная связь, «мастер — ученик», что выражалось классической формулой: «Передавая дух, преемствуем учение».  Легендарный император Фуси, создавший письменность, научивший людей готовить пищу и подаривший им приемы кулачного боя Интенсивность, чувственность, реальность традиции поддерживались именно представлениями об облике первоучителя, сам же этот образ ковался в мифах, тайных учениях и рассказах о «людях необычайных». И этот образ для последователя ушу не был чем-то далеким и расплывчатым, но обладал абсолютной конкретикой, материальностью, ибо всякий ученик осмыслял себя не иначе как преемником этого образа. О каком образе, в сущности, идет речь? Образ учителя, традиционный для Китая, может показаться для европейца парадоксальным и необычным. Это не прекрасно сложенный атлет, не мудрец, говорящий четкими и меткими афоризмами, что предусматривается канонами греко-римской красоты. Это и не силач, внушающий ужас и поклонение своими подвигами. Облик легендарных мастеров — Бодхидхармы, Чжан Саньфэна — зачастую безобразен и отталкивающ. У одного — огромные уши, нечесаные волосы до земли, другой — хром и отвратителен на вид, третий — груб и невыдержан. Естественно, не стоит считать, что каждый учитель ушу именно таков, реальность подсказывает нам скорее абсолютно противоположное. Речь идет об образе, о метафоре, о собирательном персонаже легенд. И этот образ учителя — уродливого и насмешливого — несомненно метафора традиции сакрального, создание народной культуры, реакция на вычурность и подчеркнутое благородство чиновников, на их самовозвеличивание. Народная культура отреагировала на культуру элитарную созданием некого «антисоциального» образа учителя, поклоняясь ему не меньше, чем богам и духам. Не случайно в деревенских школах ушу до сих пор рядом с изображениями духов очага устанавливается посвященный мастеру школы алтарь, на котором регулярно возжигаются благовония перед табличкой с его именем. Поклоняются даже не столько мастеру — но всей совокупности культуры ушу, которую он воплощает, равно как культ предков в Китае есть символ служения всей «высокой древности» и миру духов. Мастер-учитель в китайской традиции противоположен обыденному порядку вещей, он «не таков», он обратен привычности. Это и выражается в подчеркнутом юродстве таких людей. Они противопо-ложны канону не только красоты, но и обучения. Наставник ушу учит не по писаным канонам и не объяснениями, но парадоксами (эту парадоксальность мы встречаем и в чань-буддизме) — непоколебимым молчанием, пронзительным криком заставляет ученика то рубить дрова вместо изучения ударов, то часами наблюдать за падающими каплями воды. Поведение мастера ушу сближалось с природной естественностью, спонтанностью действия «вне мысли». Утрирование, гротеск мастера отнюдь не становились эпатажем социальной действительности. Скорее наоборот — четче обрисовывали те вещи, мимо которых равнодушно проходил интеллектуальный взор непосвященного. Здесь размывается привычный строй вещей, декристаллизуется обыденность, понятия нашего внешнего, вещного мира теряют устойчивость, твердость своих граней. Мастер переводит жизнь, да и весь мир, в иную плоскость — плоскость духовного бытия. Само размывание границ обыденности, ее распластывание в пространстве и времени в конечном счете ведет наше сознание к сердцевине, к началу всех вещей, оно обращается в абсолютную пустоту — идеал философской и эстетической традиции Китая. Не случайно даос Чжуан-цзы говорил, что облик учителя «темен и пуст, хоть целый день гляди — не углядишь, слушай — не услышишь, дотрагивайся — не дотронешься», то есть фактически он повторяет все характерные черты Дао. Не случайно мастеров сравнивали с темным, или сокровенным, зеркалом (сюаньцзин) — предметом ранней культовой практики даосов, которое представляло собой отполированную круглую металлическую пластину. Зеркало объективно отражает события, но в то же время само не меняется, вечно оставаясь самим собой. Более того, человек, глядя в зеркало, видит не само зеркало, а свое отражение в нем и не замечает зеркальной поверхности. Действительно, мастер — это «сокровенное зеркало», его характер, истинный облик потаены от окружающих, он находится в ином измерении и живет жизнью космической, вселенской. Здесь проявляется особое отношение к акту творчества, характерное для Китая. Для западного художника, поэта, философа акт творчества может состояться лишь тогда, когда его произведение выставлено на публику, прочитано, увидено, оценено людьми. Для китайского же мастера важен не результат, но сам процесс, ибо это всегда путь самосовершенствования. Творческий акт свершается прежде всего для себя, для собственной души, и в нем мы всегда единимся с учителями высокой древности, когда наступает «духовная встреча» (шэньхуэй) поколений. Прекрасная каллиграфия, великолепный художественный свиток не обязательно должны быть выставлены напоказ. Не случайно блестящий эстет и художник V века Цзун Бинь смысл своего творчества видел не в создании прекрасных картин, а в том, что великие мужи древности возвращаются к жизни в его сознании, а сам он лишь оттачивает свой разум. «Что может быть более важного, чем оттачивать свой разум?»[38] Только так — «оттачивать свой разум». В китайских текстах зачастую употребляется более точное слово — «полировать», обрабатывать, подобно полировке поверхности зеркала, дабы оно естественнее отражало реальность, причем не только реальность внешнюю, природно-телесную, но и внутреннюю, сокрытую. В этом и есть высший смысл творчества. Момент самовыражения должен быть ускользающе стремителен, и именно в этой мимолетности, неуловимости и преходящести состоит высшая ценность мастерства. Оно ускользает снаружи, но остается в вечности, в духовном пространстве бытия. Мастер всегда следует Дао, он не предпринимает сам никаких действий, лишь проживает свою жизнь как некое высшее духовное предназначение, как вселенскую миссию — легко и свободно. Он не замутняет свой разум сомнениями о выборе пути, ибо Дао само предо-пределяет выбор вне размышлений. Надо лишь довериться этому пути, а фактически — поверить в чистоту собственных изначальных природных свойств. Таким образом он уравновешивает собственные природные свойства (син), данные ему от рождения, и некую человечески-мирскую универсальную жизненность, или судьбу (мин), — индивидуальное проявление его мастерства. Иногда природные свойства понимались как внутреннее начало человека, его психика, физическое начало. Внутреннее предопределяется неизменным и неизбывным Дао, ушу же позволяет реализовать этот Срединный путь в жизни конкретного человека. Мастерство в Китае, которое и было равносильно понятию «гунфу», — это восприятие мира, отличного от обыденного. Оно начинается с «прозрения собственной природы» (гуаньсин) благодаря «взиранию внутрь» (нэйгуань). Мир, распадающийся в сознании обычного человека на сотни несвязанных явлений, собирался воедино, и последователь прозревал «целостное Дао» (цюань Дао) и «достигал Единого». Мир приходил в свое изначальное единство, нерасчлененность, суть которого — глобальная Пустота. «Прозрение собственных природных свойств», «своего незагрязненного истинного лика», осознание себя как сверхбытийного, несубстанционального явления (не человека!), разлитого в природной естественности, приводит к ощущению собственной неотличимости от этой глобальной Пустоты. Приводя свой дух в покой и умиротворяя собственную природу, мастер сливается своим пустотным сознанием с Дао, и тогда каждое его движение обретает исключительную ценность, ибо оно и есть воплощение самого Дао, а не механический повтор чьих-то поучений. Лишь у мастера прием действительно исходит из сердца. Эта распластанность человека в пространстве бытия, утрата личностного в обмен на вселенское и понималась в китайской эзотерике как «не-я» (уво), или «самозабытье» (ванво) — самоутрата в бесконечном потоке изменений. Ясно, что в этот момент перед нами предстает не человек, но воплощение «истины Небес». Так обучение ушу обращается в передачу мистической традиции. Передача традиции в Китае есть всегда передача истины. Ложное не может передаваться, ибо является не Учением, но лишь его формальным исполнением. В потоке вечного возвращения Возвращение Абсолютного Учителя в каждом последующем поколении учеников — одно из самых мистических явлений в ушу, вещь, с трудом понимаемая обычным человеком, хотя это — стержень и нравственный идеал китайской традиции вообще. Как так: если человек умер, погибла его физическая оболочка, тело превратилось в прах — то что «вечно возвращается»? Душа? Дух? Людям, знакомым с языческой и христианской мистикой, это еще может показаться понятным, хотя некоторые возразят против самого факта возвращения каждой души. Но в ушу не об этом идет речь. Возвращается не просто абстрактный Учитель, возвращается его конкретная Личность. Возвращается не только в духе, не только в тождественности помысла и психотипа, но и в конкретных чертах лица.  Обучение бою с копьем У конфуцианских философов, например, мы встречаем замечательные пассажи о том, как, услышав древнюю музыку, человек видит в мельчайших подробностях лик того, кто ее сочинил, хотя ему никогда не приходилось воочию сталкиваться с автором музыки, жившим за два-три столетия до этого. Мастер тайцзицюань Ян Чэнфу говорил, что когда он начинает делать комплекс тайцзицюань, рядом появляется Чжан Саньфэн (образ? лик? реальность?), который обучает и поправляет его. Создатель стиля багуачжан Дун Хайчуань учился у даосских небожителей, которые появлялись лишь в момент тренировки, причем он ясно видел их облик, одежды, мог описать даже тембр голоса — «низкий и медленный, очень глубокий». И еще одна история из анналов ушу. Однажды великий мастер синъицюань Го Юньшэнь собрал своих учеников и сообщил: «Сегодня я решил, что мой путь по земле завершен, и я покину вас». Ученики были потрясены решением мастера умереть — умереть так просто и обыденно, при полном здоровье — и принялись уговаривать Го Юньшэня не покидать их. Го, усмехнувшись, заметил: «Напрасно печалитесь. Пока вы занимаетесь этим искусством, я буду жив». Значит, учителю суждено возвращаться явленно и неявленно, и как образу и как реальной личности, как иллюзии присутствия и как доподлинной личности. В этом — величайший мистический факт передачи ушу. Глава 6 Врата учения
Школа — внутренний мир ушу Естественно, что, говоря о мастерах ушу, нельзя не затронуть такую важную часть внутренней традиции ушу, как школа — основная ячейка, где передается учение. Сегодня можно услышать, как «школой ушу» называют обычный спортивный клуб, секцию, причем это понятие настолько закрепилось в нашем сознании, что мы вряд ли задумываемся над его сутью. А вот для Китая понятие «школа» имело совсем иное, исключительно духовное значение. Система школ ушу возникает в тот момент, когда начинается осознание боевых искусств как духовно полноценной системы, ничем не отличной от других китайских «искусств». Эта мысль явилась психологической посылкой для формирования школ. Необходимо накапливать и сохранять знания, вводя человека в тесный и интенсивно духовный круг общения, где все проникнуто единой мыслью овладения тайнами ушу. Прежде всего постараемся разобраться, что мы вообще подразумеваем под названием «школа ушу». Чем она отличается от стиля? Правомочно ли параллельное название, скажем, «шаолиньский стиль» и «шаолиньская школа»? Кстати, такая путаница нередка, и сегодня даже далеко не каждый последователь ушу в Китае способен разобраться в ней. А эти различия весьма немаловажны для понимания «внутреннего пространства» ушу. Отметим, что школы ушу отнюдь не возникают вместе с возникновением боевых искусств. Они начинают формироваться в XIII веке, однако их складывание завершается лишь к XVII веку вместе со становлением системы внутренних стилей, которые можно практиковать лишь внутри таких школ. Школ было множество по всему Китаю, хотя, конечно, не все они были равноценны и многие лишь имитировали традиционные буддийские общины и даосские секты. Вообще же, на формирование школ ушу и на их структуру, с одной стороны, повлияли форма и взаимоотношения внутри традиционной китайской семьи, с другой — организация и система обучения в даосских и буддийских сектах. К тому же школам предшествуют многочисленные народные общества ушу, носящие в своем большинстве массовый, общедеревенский характер. Становление народного синкретизма в тот момент, когда ушу стало самым массовым народным занятием, поставило точку в формировании школ как организаций не только обучения ушу, но и передачи духовной «истинной традиции». Особенно бурный рост ушу шел в XVII–XIX веках, частично он был связан с глухим противостоянием народных «мудрецов» элитарно-имперской культуре, частично — с интимизацией мистической культуры вообще, когда единственным способом сохранения духовной «истинности» становилось создание исключительно узкого, герметического сообщества, где концентрация внутреннего напряжения была предельной. Не стоит полагать, что духовная самоорганизация была основным стержнем всякой школы ушу. Отнюдь нет. Например, после прихода в Китай маньчжуров ряд школ оказался тесно связан с тайными обществами, особенно это распространилось на юге Китая, где действовала знаменитая «Триада» — «Общество Неба и Земли». Зачастую школа ушу и тайное общество полностью взаимоналагались, растворяясь друг в друге, школа вырастала в огромное сообщество. Поэтому наряду с крайне закрытыми школами ушу, в которых нередко объединялось не более десятка человек и отбор в которые был очень строг, стали развиваться более массовые «общества» (шэ) или «дворы боевых искусств» (гуань). В них зачастую состояло до нескольких сотен человек, на деревенском и на уездном уровне их члены тренировались абсолютно открыто, не таясь ни от местных чиновников, ни от проверяющих, хотя при этом нередко такие «дворы» и разгоняли за «еретическую практику», фактически — за отправление неофициальных ритуалов, поклонение «не тем» богам и духам. Такие «дворы» были обычно тесно связаны с узкими школами, называемыми «мэнь» («врата»). Более того, и во внутренней иерархии, и в структуре взаимоотношений, и даже в изучаемых приемах и комплексах эти два типа школ могли полностью совпадать, благо они обычно располагались в одной местности. И тем не менее, разница была, причем разница весьма существенная. Огромное духовное напряжение, возникающее в небольшом круге учеников школы-мэнь, позволяло передавать ушу как истинно сакральное знание. Да и вообще, по сути, передавалось не ушу, а некое «нечто», которое стоит за ним, — «искусство Дао». В больших же «дворах», тайных обществах многие секреты ушу растворялись в массе занимающихся, но самое главное — утрачивалась возможность передачи «от сердца к сердцу». Это была своеобразная имитация формы, которой приписывался мистический смысл, но который фактически уже давно был утерян. Стили ушу как таковые разрабатывались внутри школ, именно там простой технический арсенал боя приобретал свою стилистику — историю, легенды, первопредка, внутренние ритуалы — одним словом, все «опознавательные» знаки стиля. Практиковались же эти стили в более широких обществах. Учение и внутренняя психологическая обстановка школы были очень сложны для большинства тех, кто желал практиковать ушу, а их по всему Китаю были миллионы. Многие аспекты были вообще недоступны для ментальных и духовных способностей некоторых учеников. Поэтому «дворы боевых искусств», выполняя особую, компенсаторную роль, собирали самый различный люд, который овладевал ушу в основном на внешнем, техническом уровне, хотя в этом многие достигали поражающего мастерства. И все же наиболее духовно открытых вводили в узкий круг учеников школы. Интересно, что существовало и «материальное» отличие школ от обществ или «дворов» — школы имели свои генеалогические хроники, сакральные тексты, их члены широко занимались медитацией, обладали полными методиками «внутренней тренировки». А вот в массовых объединениях это практически полностью отсутствовало или лишь имитировалось в «снятом» виде. Настоящих школ в Китае было немного, были они малоприметны, равно как и мастера, руководяшие ими, в основном же можно было столкнуться с «дворами боевых искусств». Школы же были столь тесно вплетены в общую духовную ткань культуры, что исчезали в полнозвучии многочисленных «обществ», «дворов боевых искусств», «армейских школ», которые заслоняли их своей яркостью и массовостью. В школах и шла «истинная передача» ушу, так как лишь их структура и внутренний климат позволяли в полной мере не только сохранять знания в концентрированном виде, но и беречь сам дух, саму внутреннюю стилистику традиции ушу. Сам характер школы исключал приход в нее случайных людей, ученики редко покидали ее недоучившись, большинство из членов школ своим основным занятием в жизни считали практику ушу, и другой «работы», по сути, у них не было, хотя многие последователи являлись крестьянами, торговцами, лодочниками, ремесленниками. Интересно само название школы ушу. Классическая школа именовалось «семьей» (цзя) или «вратами» (мэнь). Через эти врата неофит входил в новый, по сути запредельный мир — мир тайн великих мудрецов. Там он готовился в течение долгих лет к восприятию трансцендентных истин ушу, тренировал тело и дух, постигая самого себя. «Войти во врата» — так именовалось вступление в школу ушу. За вратами ученик должен оставить, может быть, все то, к чему привык. «Выбросить себя старого и породить нового», — говорит китайское изречение. Наставники ушу советовали «выбросить старую одежду, выбросить старые привычки, выбросить старое «Я». В некоторых школах при ритуале вступления символически сжигались одежда ученика, а также табличка или клочок бумажки с иероглифами, на которых было написано имя неофита. Пепел растворяли в воде, и такой напиток назывался «чай небожителей». Затем ученик выпивал этот чай, как бы поглощая сам себя. Человек символически умирал, уничтожал себя, чтобы возродиться вновь, но уже в истинном виде — в качестве адепта ушу. Вступление в школу ушу представляло сложное испытание для психики и тела неофита. Новичок обычно сначала отвечал на ритуальные вопросы, произносил магические заклинания. Во многих школах ушу ритуал вступления был сильно редуцирован, уменьшен внешне до простых формальностей, как бы переведен во внутреннюю форму переживания. В полном ритуале, сложных действиях, заклинаниях не было необходимости. Мастер прекрасно чувствовал, кого он берет к себе в школу, говорили, что мастер узнает об ученике раньше, чем тот придет к нему. Порой меткое слово, точность выражения мысли становились «пропуском» в школу ушу. Главное, чтобы в них отражались искренность души и живость мысли. Вот одна из историй, относящаяся к XV веку. Однажды на улице города Лояна шао-линьский наставник Хайъу повстречал мальчишку-оборванца удивительно жалкого вида и дал ему несколько медяков. И вдруг нищий ответил ему стихами: Лишь отчаяние погнало жалкого Цзю медяки просить. Наставник Хайъу пристально посмотрел на мальчишку и ответил: — Тот, кто с молодости выражается стихами, — не нищий. Если просящий милостыню преисполнен решимости — он уже не нищенствует. Придет день — и ты пожелаешь стать благородным мужем и героем. Старый монах и мальчишка вместе возвратились в монастырь. Хайъу не ошибся — нищему оборванцу было суждено в 28 лет стать одним из самых молодых настоятелей Шаолиньского монастыря и получить прозвище Будда-Воин.[39] Школа или стиль? Заметим, что школа по своему характеру отличается от стиля или направления ушу. Например, ряд школ мог практиковать один и тот же стиль. У истоков стиля обычно стоял легендарный первооснователь. Его личность обычно восходила или к полностью мифологическим персонам, чей образ «очеловечился», например к бессмертным небожителям или к полулегендарным героям, которые прямого отношения к ушу не имели, но освящали стиль своей благостью, — Бодхидхарме, Чжан Саньфэну. Был также целый ряд вполне реальных людей, причем живших сравнительно недавно, два-три века назад, которые, однако, столь сильно обросли легендами, что сама реальность этих личностей утратилась абсолютно. Например, основатель стиля «Огненная палка Шаолиня» монах Цзиньнало в мифах приобрел имя буддийского небесного божества Кинары, поэтому считалось, что сами духи принесли методы боя с палкой на землю. Так или иначе, персона-основатель стиля был всегда мифологичен и символичен как воплощение духовной мощи, идущей от века и от мира. По сути, у стиля не было начала, ибо его корни уходили в бесконечную глубину эпохи первопредков. В отличие от стиля, в начале школы почти всегда стоял реальный человек. Сама структура школы вырастала из организации китайской семьи, клана (патронимии), а поэтому и назывались они семейными или клановыми названиями, например, янши тайцзицюань (школа тайцзицюань клана Ян) или хунцзямэнь (школа семьи Хун).[40] Вступление в школу, таким образом, становилось приобщением к семейным связям.  Два бойца из одной школы ушу А вот вопрос с созданием стилей ушу не так прост, как может показаться. Прежде всего, что такое стиль? В Китае его обозначали как «цюань» — «кулак» (шаолиньцюань, танланцюань) либо «люпай» — «группа последователей». Правда, встречались исключения, например, когда стиль вырастал из семейной школы. Южные стили так и называются — хунцзяцюань (стиль семьи Хун) или люцзяцюань (стиль семьи Лю). Да и знаменитый тайцзицюань первоначально в некоторых центральных районах Китая просто назывался «стиль семьи Чэнь» по имени его первооснователей. Стили вырастали из школ. Носители «истинной передачи», да и просто талантливые ученики покидали лоно родной школы, переезжали с места на место. Многие чиновники служили за сотни километров от родных мест, более того, считалось, что чиновник не имеет права служить на родине, дабы не потакать и без того развитой коррупции, неформальным связям и тайным обществам. Многие из местных шэньши — чиновников — блестяще знали ушу, к тому же отменное здоровье было важным условием на чиновничьих экзаменах. Это знание ушу помогало «пришлым» быстро адаптироваться в местной среде при переездах с места на место — народ высоко ценил боевое мастерство. Так, ученики школы могли начинать преподавать в разных районах Китая, естественно, с разной долей усердия, к тому же и их способности были различны. Представители семейных школ на новом месте были вынуждены брать в обучение членов других фамилий, и клановость школы ушу нарушалась. Боевые искусства становились все более открытыми и вместе с тем разветвленными. Да и как можно было скрывать наличие школы ушу в деревне, когда занятия происходили прямо во дворе и становились столь же привычным зрелищем, как и готовка пищи. Но все эти разъехавшиеся в разные стороны люди сохраняли ощущение принадлежности к общему центру и взаимосвязи внутри единого тела школы. Эта идея единила их, а центром мог становиться не только мастер, но какое-то святое место. Так в разных районах возникают школы стиля шаолиньцюань. Их наставники могли никогда и не бывать в Шаолиньсы и даже не общаться с монахами, но чувствовать свою принадлежность к славной обители было приятно и почетно. Центром могло стать даже какое-нибудь животное, и в этом видны отголоски древних тотемных понятий, когда единство рода определялось по принадлежности к знаку (а следовательно, и покровительству), например, тигра, черепахи и т. д. Это породило в Китае сотни абсолютно несхожих школ имитации животных, которые при этом единились под общим названием: хуцюань — стиль тигра, шэцюань — стиль змеи. Ни один, даже самый искушенный знаток не нашел бы ничего общего между шаолиньской школой богомола и школой богомола из провинции Хэбэй. И тем не менее их последователи считали себя представителями единого стиля и возводили свой исток к бывшему монаху Шаолиня Ван Лану. А сколько непохожих направлений ушу единились под названием одного стиля лишь благодаря тому, что считали своим патриархом Бодхидхарму! Таким образом, стиль — это чисто психологическое отнесение себя к той или иной ветви ушу. Он не определяется ни общим техническим арсеналом, ни общей духовной традицией, в отличие от школы, где люди связаны единым принципом комплиментарности и единым «резонансом духа». Здесь — забавный парадокс традиции китайского ушу: бесконечное разнообразие стилей и подстилей есть проявление полного внутреннего единства боевых искусств. Единство понимания стилей, конечно же, может показаться надуманным для европейца, но для китайца оно было бесконечно важным. Разве сам китаец не замечает, что стиль тигра, или шаолиньцюань, в разных провинциях и даже уездах не похожи друг на друга? Значит — самообман? В некотором роде да. Но мы уже видели, что миф для Китая, демонстрирующий внутреннее единство всего со всем, намного важнее, чем безыскусная реальность. Стремление отделить одно внешнее проявление Дао от другого сначала привело к мифу о существовании южных и северных стилей, шаолиньском и уданском направлениях ушу, а затем и к более подробной классификации. Итак, в отличие от школы, которая действительно полнится духом мастерства, стиль — это чисто психологическая потребность ощущать единство под одним названием. В школе происходит преемствование «истинной традиции», в стиле — лишь названия. Существовала и другая причина быстрого роста стилей. Сама система ушу развилась уже настолько, что необходимо было отделить представителей одной школы от другой. Например, шаолиньцюань разросся настолько, что возникло по крайней мере около сотни направлений с разным техническим арсеналом, методикой обучения, способами духовной передачи. Ряд из них принимал за основу даосские методы психотренинга, другие настаивали на главенствовании чань-буддизма, третьи же вообще старались вобрать в себя от всего понемногу. Но какой же учитель захочет, чтобы его школу путали с другой, да и не все были способны придерживаться традиции тайны и анонимности мастера. Постепенно стали возникать «индивидуальные» названия школ, а затем и стилей. Иногда за основу брались названия известных комплексов. Так возникли стили хунцюань («Красный кулак») и лоханьцюань («Кулак архатов») из арсенала шаолиньских комплексов. Истинные мастера вели себя по отношению друг к другу беспристрастно, уважая то дело, которое выполняют вместе. А вот ученики зачастую устраивали споры, а то и ругались по поводу того, какой стиль лучше. Наказание за это было одно — бесповоротное изгнание из школы. Дело здесь не только в нарушении элементарных моральных правил: это демонстрировало, что человек не понимает самой сути ушу. Стиль или школа не могут быть лучше или хуже, ибо созданы для того, чтобы передать целостность духовного импульса. А боевое мастерство зависит уже от индивидуальности человека. В основном стили создавались в среде народного ушу, но их основатели часто были людьми весьма образованными, способными не только обучать, но и составлять трактаты, передающие традицию школы. Дун Хайчуань — основатель стиля багуачжан — вышел из обедневшей аристократической семьи, Чэнь Вантин — создатель первостиля тайцзицюань — был блестяще образованным человеком и долгое время служил в императорских войсках. Колоссальную роль играли генеалогические хроники, или «семейные списки», — цзяпу, которые выстраивали генеалогическое древо рода и, по сути, имелись у каждой семьи. Школы ушу переняли у семьи и эту характерную черту, что еще больше перевело связи между членами школы на уровень кровно-семейных, «от Неба данных», а поэтому нерасторжимых. Хроники хранились как святая святых, передавались из рук в руки от учителя к прямому преемнику школы. Они прежде всего идентифицировали каждого конкретного ученика со всем телом школы, фактически — с телом внутренней традиции. Благодаря такой хронике человек произрастал из семейного древа, осознавал свою принадлежность к «корню мастеров». Он воистину «занимал место» в этом мире, и надо многое понять в китайской культуре, дабы осознать, сколь важно для традиционного китайца, для последователя ушу почувствовать себя живым воплощением духовной традиции, ее производным и ее ретранслятором. Фамилия ученика не просто вписывалась в книгу (кстати, туда попадали далеко не все, а лишь преемники «истинной традиции», два-три человека из одного поколения), она заносилась в «истинную традицию», на путь целостной духовной передачи. Внесение ученика в генеалогическое древо фактически свидетельствовало о его приобщении к полной традиции школы. Списки долгое время не было принято публиковать, что объяснялось глубоко личностным характером отношений в традиционном ушу, хотя сегодня их можно встретить в некоторых описаниях классических школ; правда, неписаная этика говорит, что такую публикацию может делать лишь прямой последователь школы.[41] Школа ушу никогда не понималась ее последователями как «список приемов», комбинаций и комплексов. В школе не было и «срока обучения», она вообще могла не иметь видимого (скажем, технического) воплощения. Прежде всего, под школой подразумеваются все поколения учителей и учеников и непрерывность «истинной передачи». Вот почему столь высоко ценились древние тексты и рассказы о мастерах школы. Вот почему нельзя объявить об одномоментном создании собственной школы, хотя в короткий срок можно составить эффективный набор приемов, пригодных для рукопашного боя. Вот почему невысоко ценились люди, не имеющие за своими плечами мастера, несущего в себе школу «древних предков», — кто ничего не воспринял, тому нечего и передавать. После этого не покажется странным утверждение, что школа ушу постулировала вневременную жизнь. Мы — лишь след великих мудрецов, давно прошедших. Но одновременно мы — воплощение их духа, и ученик, даже в десятом поколении, и есть мастер. Мы растворены в потоке мастерства, и мы транслируем его вперед. Так сохраняются дух и форма школы, вечно возрождаясь в новом поколении учеников. По сути, не существует даже и возрождения, есть лишь вечное возвращение одного и того же Мастера в каждом новом ученике. Связи духовные и связи семейные Связь внутри школы была реальным воплощением семейных связей, причем еще более сакрализованных, нежели в реальной семье. Следует также учитывать, что ранние школы вообще полностью базировались на семье — отец или, чаще, дед учили младшего по возрасту. Долгое время семейные школы для пришлых вообще не открывались, например, школа клана Чэнь тайцзицюань не допускала к себе внутрь более ста лет. Благодаря этим кровно-родственным связям школа и получила свое второе название — «семья» (цзя). Спектр значений термина «цзя» крайне широк: «община», «семья», «сообщество», «клан». Семейные отношения — наиболее тесные и надежные для китайцев, не случайно существует выражение: «Вся Поднебесная — одна семья». Многие отношения в обществе осмыслялись через термины семейного родства, а китаец всегда старается себя идентифицировать с собеседником как «младший» или «старший брат». Таким образом, школа ушу была как бы уменьшенной проекцией государства и семьи, неся на себе тот же оттенок небесной святости; не случайно общение внутри школы происходило в терминах родства: «брат», «сестра» и т. д. Благодаря этому школа становилась миром в себе и для себя, представляющим не только маленький образ неких «больших» внешних семей, но реально придерживающимся всех семейных уложений. Отношения соподчинения, внутри какой бы ячейки общества они ни реализовывались, всегда воспроизводили связь отца с сыном, например, император всегда был отцом для своих подданных и заботился о них, как о своих детях. Учитель в школах ушу также был отцом своих учеников, причем статус его был значительно выше, чем у отца по крови, — учитель являлся отцом по духу. Он как бы рождал новую духовную личность, возрождая в ней самого себя. Поэтому и ученик должен относиться к мастеру с чувством сыновней почтительности, как к родному отцу. Поскольку наставник школы всегда выступал в роли духовного отца, то и его ученики именовались «детьми в духе» или «братьями в учителе». Китайское выражение «братья в учителе», или «братья по учителю» (шисюн), очень точно выражает саму суть учительствования в Китае. Наставник манифестирует собой родовое древо, выступает как абстрактное начало, некое «тело семьи», ретранслирующее самого себя. Мы уже говорили, что связь внутри школы — это всегда семейная связь, а следовательно, облик Учителя — пускай реального, но в конечном счете всегда мистического и вневременного — и есть облик их общего отца. В терминах родства воспринимались и все члены школы ушу. Основатель школы обычно именовался «тайцзу» — «великий предок», так же, как называли и императоров — основателей династии. Его портрет всегда висел перед алтарем школы, а перед табличкой с его именем (по китайским поверьям, в нее после смерти человека переселяется часть его духа) возжигались благовония. Напомним, что основателем школы могло считаться и легендарное лицо. Например, легендарный родоначальник многих стилей ушу Гуань Юй был обожествлен китайской традицией и назывался «бог Гуань» (Гуань-ди). Наставник ныне существующего учителя школы звался «шицзун» — «наставник-первооснователь», или «дед-наставник». В школе почитались не только те, кто непосредственно преподавал ушу, но и те, кто связан с семьей мастера, например, его жена именовалась «шинян», или «шиму», — «матушка-наставница», младшая дочь учителя — «шимэй», старшая дочь учителя — «шицзе». В женских школах ушу (существовали и такие) сами женщины-последователи называли себя «шимэй» и «шицзе», фактически — «старшей сестрой учителя» и «младшей сестрой учителя», и хотя никакого реального родства не было, устанавливалась символическая кровная связь между членами одной школы. Старший сын мастера или старший ученик — шисюн (обратим внимание, что между сыном и учеником не делалось различий) — выполнял обязанности старшего инструктора школы. Он обучал технике приемов, следил за выполнением новичками основных дисциплинарных норм и ритуалов. Существовал также шидае — первый помощник учителя, фактически равный ему по положению, и ему выказывали такое же уважение и почитание, как самому шифу. Таким образом, школа функционировала как семья, воспитывала детей-учеников, устанавливала отношения с другими семьями, а распределение обязанностей в школе ушу было таким же, как и в обычной семье. Ближайшие ученики приглашались жить в доме учителя, правда, не в самих покоях мастера, а в других постройках. Большинство же просто приходило к нему, так как все жили в одной деревне. Ученики выполняли обычно все обязанности по дому — носили дрова, убирали помещение, готовили пищу, содержали хозяйство. «Тот, кто вступает в след» Широко известно, что далеко не всякого брали в ученики. Менее известно, что даже того, кого мастер пускал к себе во двор, еще рано было называть учеником — этот человек мог в течение нескольких дней лишь выполнять домашнюю работу, убирать двор, чистить оружие. До тренировок он не допускался, никаких наставлений от мастера не получал. Люди, поверхностно знакомые с внутренней традицией ушу, это явление объясняют так: учитель хотел проверить преданность и искренность намерений ученика.  «Мудрец смотрит на людей как на своих детей» Действительная причина здесь заключена в ином. Истинное мастерство наставника заключено как раз в том, что он лучше знает своего последователя, чем тот себя самого. Дело в том, что неофит должен был почувствовать обстановку школы, ее внутренний климат, особую психологическую ситуацию. У новичка была полная возможность отказаться непосредственно от обучения, если он понимал, что физически или духовно не способен воспринять учение. Но сразу отказать человеку — полному энтузиазма, горячего рвения, уверенности в своих силах, настойчивости — значит нанести ему душевную травму. Большинство учителей сразу чувствовало, кто останется, а кто покинет школу, даже не приступив к обучению, не случайно до сих пор традиционные наставники «учеником» начинают называть лишь того человека, который пробыл в школе не менее трех лет. До этого срока его просто нечему обучать, так как ни его разум, ни его психика не готовы к восприятию этого особого внутреннего мира ушу, который и превращает боевую технику в духовное искусство. Иногда самой большой милостью по отношению к человеку становился мягкий отказ от преподавания ему боевых искусств. Не каждый способен выдержать груз этого знания. После обряда инициации ученика посвящали в особые тайные ритуалы школы. Эти ритуалы могли лишь в тонкостях отличаться от общепринятых, но тем не менее они составляли один из секретов школы, ибо дистанцировали ее от остального мира, делали ее «внутренней». В частности, в ряде школ смысл таких ритуалов заключался в том, что неофит объявлялся «ребенком», или «младенцем», — человеком, который стоит лишь на пороге своей настоящей жизни. Именно после этого учитель и «рождал» ученика. Смысл такого действа хорошо виден в известной поговорке, распространенной в школах ушу и даже вошедшей во многие уставы школ: «Мать и отец дали мне кости и плоть, учитель дал мне дух». Таким образом, идея «второго рождения», причем рождения истинного, духовного, мистического и глубоко сокровенного, возникновения «человека целостных свойств», заложенная глубоко в недрах эзотерической китайской традиции, получала воплощение в ушу. На первых этапах ученик находился вне понимания того, что практикует. До прихода в школу ушу любой китаец много слышит об ушу, нередко наблюдает тренировки, демонстрации мастеров, но вне учителя никому не дано проникнуть в саму сердцевину боевых искусств. В школе же появляется возможность постичь это «изнутри», но понимание есть прежде всего долгий процесс психической переориентации и перестройки сознания. Поэтому, делая первые шаги, надо лишь доверять мастеру и следовать ему — следовать ему безотчетно. В традиционных школах, в частности, не принято, чтобы ученик задавал вопросы, — мастер сам знает, когда заговорить. Для знатока ушу обучение, а точнее постижение школы проходит в несколько этапов, отражающих изменение его ценностной ориентации и психологических установок. Здесь речь, конечно, идет не о внешних ритуалах посвящения или присуждения какой-то очередной степени мастерства, как это можно встретить в каратэ, но о понимании самой метафизической глубины процесса обучения как постепенной интериоризации (переведения внутрь себя) духовных ценностей школы и срастания своей личности с личностью мастера. Подражать следовало всему — самому мастеру, тому, как он выполняет таолу, его выражениям, жестам и многому другому. Человек не обучается — он перерождается, он вступает в след мастера, входит в его тень, становится созвучным с его внутренним ритмом. Ученик постепенно реализуется как мастер. Медленно, очень медленно удельный вес чисто внешней имитации уменьшается, да и технический аспект имеет свои рамки, уступая место воплощению мастера в своем сознании. Внешнее как бы сворачивалось, сходясь до неизмеримо глубокого внутреннего пространства.  Обучение ушу перед головой жертвенного кабана Наконец, исключительно духовное следование постепенно заменяло внешнее подражание, и наступало преодоление, отказ от внешней формы. Она переставала играть определяющую роль в обучении ушу, но лишь опосредовала собой существование внутреннего аспекта. Переход в изучении школы от внешнего к внутреннему происходил у учеников по-разному, многие так и не сумели преодолеть этот барьер. Момент перехода открывал качественно новый этап в ушу. Школа уже становилась внутренней реальностью для занимающегося, она обретала свою субстанциональность, а все комплексы, поединки служили лишь проекцией этого внутреннего пространства во внешнем мире. Сохранились интересные воспоминания одного из японцев, который в начале 40-х годов XX века присутствовал при ритуале приема в школу ушу. В центре сидел мастер, по бокам от него стояли два ближайших ученика. Посвящаемый вышел в центр, произнес традиционную формулу с просьбой о приеме в ученики и сделал несколько поклонов. Внезапно мастер подал какой-то едва уловимый знак, один из стоявших сбоку старших учеников резко взмахнул мечом, и… посвящаемый упал замертво. То же самое произошло и со вторым неофитом, а вот третий человек, который произносил ту же заученную формулу, делал те же самые поклоны, был принят. Наблюдатель-японец, профессиональный солдат, был поражен жестокостью ритуала. Речь идет не о правильности произнесения формулы или выполнения поклона, но об искренности, о том, чтобы все исходило от сердца, от «Небесной воли». Естественно, что не многие могут отважиться пройти такой ритуал, но ведь сама цель посвящения — проверить искренность, чистосердечие человека в помыслах заниматься ушу. Первое время ученика в школе могли подвергать тяжелым испытаниям. Однако не стоит считать это издевательствами, это была лишь проверка крепости его духа и черт его характера. Например, он не должен обижаться, ибо учителя прекрасно знали, что обидчивого человека ничему нельзя обучить. Смотрели и на то, как ученик подает пиалу с чаем учителю, как общается с братьями по школе, как сидит, как реагирует на замечания. Это был долгий путь терпения и самовоспитания. Среди огромного количества учителей и учеников ушу лишь немногие считались действительно подходящими друг другу. Встреча истинного учителя и способного ученика предопределялась Небом, и не случайно последователи ушу годами бродили по Поднебесной, разыскивая «своего» учителя. Истинный наставник — это прежде всего «пресветлый учитель», или «просветленный мастер» (минши), настоящий же ученик должен быть «Небесным талантом» (Тяньцай). Его особые свойства объяснялись не только упорством и тщательностью в следовании наставлениям мастера, но во многом и врожденными способностями, «данными Небом». «Небесными талантами» также называли талантливейших художников, поэтов, философов. По существу, это была особая категория людей, способных не просто выучить что-то, не просто быть старательным ремесленником в своем деле, но открытых для того, чтобы дальше понести умение и мастерство гунфу в любой сфере человеческой жизни. Между учителем и учеником устанавливались прежде всего взаимоотношения глубочайшей содоверительности. Ученик должен бесконечно доверять своему учителю, лишь эта вера поможет ему реализовать форму, которую он изучает. Эта вера форме и учителю особенно важна на первых этапах, когда ученик лишь постигает азы и не понимает смысла многого из того, что делает. В этот момент надо полностью отдаться словам и мыслям наставника, не вопрошая, почему и зачем, но лишь выполняя то или иное упражнение. Веря учителю, ученик относится с искренним доверием к стилю, который изучает, к его истинности и непреходящей ценности заключенной в нем мудрости. Лишь такая безраздельная вера в стиль и учителя, задающая направление развития, не позволяет ученику сойти с истинного пути. Вместе с тем и учитель доверяет ученику, так как передает ему часть своей души. Без доверия к миру и учителю невозможно постижение тайн ушу, так как первые шаги в любой системе метафизического знания, к которой относится и ушу, требуют не логического анализа, не попыток разобраться, «что к чему», но приятия всей системы целиком, абсолютного вживания в нее. Но и в среде самых упорных, старательных учеников всегда выделялась особая группа тех, которые были способны на полную самореализацию ради ушу. Таких людей в школе обычно было немного — два-три, но чаще всего один. В ушу таких людей называли «учениками внутренних покоев» (шинэй туди) или «учениками, вхожими в покои» (жуши туди). Все же остальные, пускай весьма способные и преданные, именовались «учениками внешних покоев» (шивай туди). Такое деление имело двоякий смысл. Первоначальный, вполне очевидный, исходил из того, что традиционное жилище на севере Китая делилось на внешнюю и внутреннюю части. Во внешней принимали гостей, во внутреннюю были вхожи только члены семьи. Таким образом, человек, который допускался во внутреннюю часть дома, символически становился родственником, кровным преемником учителя. Но существовал и более глубокий смысл в названии «учеников внутренних покоев» — понятие «внутреннего» как бы переводило общение последователя с наставником в сферу духовного, невидимого и недоступного для сознания других. Зачастую «ученики внутренних покоев» жили вместе с учителем, вместе странствовали, сопровождали его повсюду, куда бы он ни пошел. Им открывались все секреты школы, и именно они должны были принять ее в полном объеме. «Учениками внутренних покоев» становились лишь те, кто действительно был способен не только воспринять смысл ушу, но и полностью перевоплотиться в мастера, «встать в его след», т. е. преемствовать «истинную традицию». Нередко это были сыновья учителя, так как с ними мастер мог общаться чаще и дольше всего, однако начиная с XIX века прямыми последователями становилось и немало «пришлых», выделенных глазом наставника из большой группы учеников и помещенных в благодатную среду школы. По таким ученикам и строилось генеалогическое древо школы в хрониках. Например, один из создателей стиля Ян тайцзицюань Ян Лучань (1799–1872) обучил за свою жизнь несколько сотен людей, он преподавал и в родном уезде, и в Пекине, среди его учеников были и простолюдины, и богатейшие аристократы. Однако лишь три человека были вхожи в его «внутренние покои» — его сыновья Ян Цзяньхоу и Ян Баньхоу и некий Ван Ланьтин. Несмотря на то, что двое сыновей в дальнейшем значительно модифицировали технический арсенал стиля Ян Лучаня, тем не менее именно они считались прямыми и истинными продолжателями его школы. Произошло преемствование духа, безраздельное и абсолютно целостное. В этом случае трансформация формы движений, добавление приемов уже не играют существенной роли, ибо ученики в полной мере овладели смыслом учения (не только формой стиля!) Ян Лучаня, как бы переродили своего наставника внутри себя. Мысль о мистическом перерождении — единственном способе восприятия гунфу — есть центральный пункт в становлении личности «ученика внутренних покоев». Ему суждено в полном объеме понять своего учителя, поэтому немаловажен был и вопрос: кого они понимают? Не является ли человек, стоящий перед ними, талантливым имитатором, заблуждающимся в собственных возможностях, а то и просто шарлатаном? Зачастую никто из «учеников внутренних покоев» до последнего момента не знал, кто станет преемником школы. Всех их обучали индивидуально, и никто не ведал, что объясняют другому. Могло быть и такое, что каждому объясняли свое направление стиля, как, например, поступал мастер багуачжан Дун Хайчуань со своими учениками. Истории рассказывают, что, следуя теории восьми триграмм, он обучил восьмерых лучших учеников своей школе с небольшими вариациями, в результате чего возникли восемь различных школ багуачжан, каждая со своим патриархом. Преемника называл сам учитель перед смертью, лишь он один чувствовал, кто сумеет в полной мере понести его учение дальше. Благодаря этому между старшими учениками не было разногласий, один становился лидером школы, другие либо оставались его ближайшими помощниками, либо сами набирали учеников. Во время тренировки У каждой школы была своя традиция тренировок, свои ритуалы, хотя во многом они совпадали. В ряде классических школ самой тренировке предшествовало особое приветствие, которое обычно представляло собой девятикратное коле-нопреклонение — цзюкоу, иногда упрощавшееся до обычного поклона. Существовали школы, возникавшие в среде религиозных сект, где приветствие превращалось в длительный акт литургии. Благодаря этому в сознании учеников сам процесс тренировки отделялся от обыденной жизни, превращался в акт священнодействия, выступал как пространство приобщения человека к священным началам. В традиционном Китае занятия ушу проходили обычно во дворе перед домом учителя. Он был обнесен оградой, что скрывало тренировки от взглядов случайных прохожих. Обстановка такого двора должна была воссоздать внутри ученика уникальный и одновременно универсальный по своим ценностям мир ушу. На стенах зачастую вешались многочисленные изображения духов и богов, вооруженных мечами и топорами, каллиграфические надписи типа «Сочетай военное и гражданское», «Одухотворенное ци и священный удар», «Сконцентрировав дух, достигай совершенства». Были и надписи, напоминавшие об особенностях техники школы: «Руки летают, как два веера, ноги бьют, как молния, вращайся, подобно змее, прыгай, как тигр» (в шаолиньцюань), «Замахнись рукой, но ударь ногой. Покажи вверх, но ударь вниз» (в синъицюань). Но был и другой — незаметный тип тренировки. Автору этих строк приходилось видеть, как сегодня тренируются последователи традиционного ушу в дальних деревнях Китая. Почти в каждой деревне есть своя школа ушу, которая может являться ответвлением от более крупной школы, действующей, например, во всем уезде. Деревенский учитель в определенное время выходит на небольшую неогороженную площадку и начинает выполнять упражнения. Несколько человек пристраиваются за ним и без всякой команды, без малейших объяснений начинают повторять его движения. Здесь нет ни приветствий, ни поклонов, ни долгой литургии — все до неожиданного обыденно, жизнь плавно перетекает в священнодействие ушу, открываясь человеку своей сакральной, но до времени скрытой гранью. В этом случае тренирующимся может оказаться любой житель деревни — ушу открыто для всех, к тому же в китайской деревне живут обычно близкие родственники или две-три семьи, возможность понять ушу зависит уже от свойств самого ученика. Здесь видишь, что истинное ушу, ушу классическое, оказывалось настолько тесно вплетено в существование местного общества, что даже сам момент занятий боевыми искусствами неприметно вырастал из каждодневной, рутинной жизни местного деревенского общества. Мастера как в больших «дворах» (гуань), так и в узких школах — «вратах» (мэнь) — практически никогда не проводили тренировку сами. Считалось, что технические аспекты могут показать и старшие ученики — «старшие братья» (дагэ). Роль мастера — нести ушу именно как Учение, а не как набор техники, который может продемонстрировать и не просветленный человек. И вместе с этим внешняя отрешенность от техники ушу отнюдь не означала безразличия к качеству ее выполнения. Мастер был призван объяснить, что техника ушу есть всего лишь дорога к мастерству, но отнюдь не само мастерство, не сама суть ушу, постигаемая внутренне и внесловесно. Именно об этом гласила сентенция из «Трактата о тринадцати позициях»: «Словесные наставления необходимы для того, чтобы провести ученика через истинные врата и вывести на истинный путь, в то время как мастерство в искусстве обретается лишь в постоянном самовоспитании». Канон китайской традиции диктовал свои условия: форма есть лишь символическое выражение внутренней сути ушу, и этот технический аспект в классических боевых искусствах самостоятельной роли не играет. И тем не менее он необходим, обойти его невозможно: лишь этот набор форм, объяснений, ритуалов — одним словом, всего того, что мы отнесем к «внешнему», видимому аспекту, позволяет проникнуть через эту прозрачную и все же труднопреодолимую ширму. Показательным моментом является также то, что в ушу не существует степеней мастерства, подобно тому как существуют пояса, даны, кю в каратэ. Есть лишь мастер и ученик. Перерождение ученика в мастера — процесс, несоизмеримый с показателями нашего, сущностного мира. Нельзя стать мастером натреть или наполовину, при этом любой учитель остается лишь вечным учеником. Никаких формальных подтверждений истинности мастерства быть не может, ибо достижение гунфу в конечном счете всегда есть обретение мистического опыта школы. И тем не менее, определенный документ все же иногда выдавался. Зачастую он представлял собой обычный лист бумаги с каллиграфической надписью тушью. В нем говорилось, что такой-то такой-то действительно являлся учеником такого-то мастера. И все, больше в нем ничего не говорилось. Документ не свидетельствовал ни о «степени мастерства», ни о том, что предъявитель сего прошел курс обучения по какому-то стилю, — все это показалось бы нелепым любому последователю традиционного ушу. Он свидетельствовал о большем — о преемствовании «истинной передачи». Мастер брал на себя немалую моральную ответственность, «подписываясь» под всеми поступками ученика. В ученике воплощался дух школы, он приемлет и концентрирует весь опыт своих предшественников и призван передать его последователям — «передать чашу истины, не расплескав». Дурной поступок перечеркивал весь смысл школы, «выбрасывал» ее за пределы морально-этических концепций ушу. Известны случаи, когда мастера полностью прекращали преподавание, узнав, что их ученик убил кого-то на турнире или начал демонстрировать приемы где-то за пределами школы. И все же вероятность ошибки была крайне мала, преемником школы не мог стать кто-то случайный или неискренний, ибо сама традиция «школьного» воспитания, складывавшаяся веками, гарантировала от этого. Система воспитания в школе представляла собой особого рода естественный отбор, безжалостно отсекая на различных этапах либо недостойных, либо нетерпеливых или неспособных. Таким образом, «Небесный талант», раскрывавшийся внутри школы, представлял собой своего рода духовную элиту ушу, гарантируя своим существованием сохранение «истинного ушу» на фоне общего, зачастую бесталанного энтузиазма. Обучаясь и преподавая ушу, надо обязательно верить в доброту человеческих свойств. Без этой абсолютной убежденности исчезает даже сама возможность восприятия боевых искусств. Попробуем отвлечься на миг от уже привычных нам представлений и посмотреть на ушу взглядом стороннего наблюдателя. Нам откроется парадоксальная картина: люди с почти фанатичным упорством изучают методы нанесения друг другу максимального урона, годами отрабатывают удары и блоки, способы воздействия на жизненно важные точки. Мастера обучают целые деревни, рассказывают о методах воздействия на психику соперника. Разрабатываются десятки вспомогательных методов укрепления тела, до миллиметра выверяются удары копьем и мечом. Большая часть населения традиционного Китая так или иначе через широкую сеть непохожих и неравноценных школ была вовлечена в этот мощный водоворот боевых искусств. Одних только видов оружия насчитывались сотни! Так гуманно ли искусство, столь бережно пестуемое в школах ушу? Этот парадокс трудноразрешим для тех, кто сам не вникал в суть боевых искусств, не шел за их неистовые формы. Вот несколько общеизвестных фактов: школы ушу не враждовали между собой, истории о поединках между школами — скорее дань традиции кинобоевиков, нежели историческая реальность. Под воздействием ушу миллионы людей воспринимали основные нормы жизни в обществе, то есть проходили то, что мы называем социализацией. Мифы, легенды, рассказы о тайных приемах и мистических учителях, сложные философские рассуждения… Мы бродим среди них, будучи, может быть, так и не способными уловить их суть. Кажется, «истинность» ушу оказывается рассыпанной в переливах этих побасенок и вечно ускользает от нас. А может быть, это и есть единственный способ передачи внутреннего смысла ушу, ибо прямые словесные объяснения оказываются здесь бессильны? Так какую же роль играют эти вещи в ушу? Почему им отводилась столь важная роль в воспитании учеников? Через легенды и рассказы, распространенные в ушу, многие узнавали об истории Китая, его духовных и культурных ценностях. Чтобы пояснить нашу мысль, приведем лишь один пример. Многие ли из нас сумеют правильно назвать части одеяния древнерусского воина, отличить один тип шелома от другого или рассказать, как правильно должно крепиться зерцало русского богатыря? Китайцы же благодаря традиции ушу знают, какие мечи и трезубцы держали их предки столетия назад. Через сеть школ ушу прошла масса людей, восприняв тот добрый и искренний настрой, который царит в них. Без веры в доброту человека, в чистоту его природных свойств не может быть ни мастеров ушу, ни самой передачи мастерства ученикам. Именно эта вера и позволяет прокладывать внесловесный мост между сердцами наставника и последователя. Это самооткрытие в процессе обучения требует внутреннего усилия, внутреннего понимания добра и зла — понимания не на уровне предписаний «можно — нельзя», но исходящего от самых чистых природных свойств человека. Поэтому боевые искусства требовали постоянного, ежемоментного обнаружения меры человеческого в человеке, меры истинности в собственном сознании, меры святости в мирской пыли. «Узреть Heбо внутри себя» Можно говорить об особой культуре ушу, сложившейся в Китае, — очень тонкой, почти прозрачной на фоне мощной имперской цивилизации, вечно ускользающей от понимания «снаружи». Иногда эта культура может быть настолько плотно вплетена в общий фон китайской метакулътуры, что становится исчезающе тонкой, практически отсутствующей. Но взгляд «изнутри» традиции как бы меняет местами, переворачивает эти две культуры — «малую», в основном народную, почти сектантскую культуру ушу и помпезность элитарного официоза. Ушу — народная культура — оказывается «внутренним» по отношению к элитарно-имперской культуре, которая в этом случае представляется «внешней», а следовательно, и более далекой, чуждой. И все же это ничуть не снижает ценности последней, ибо в Китае внешнее — не более (но и не менее!) чем проекция «внутреннего». Здесь перед нами характерное и неизбежное для Китая понимание собственной традиции. Сколь часто формы ушу воспроизводили почти полностью практику боевых искусств в армии и при дворе, но в более неистовой, неудержимой внутренней форме, подобно выбросу лавы из недр доселе спокойной земли. Эта стремительная скачкообразная смена регистров моментально отделяет внешнее от внутреннего, которые с этого момента начинают избегать друг друга, при этом бесконечно взаимоопределяясь и выверяясь одно через другое. Хотя нить ушу, вплетенная в общую материю китайской цивилизации, и могла для стороннего взора сливаться с монотонным буйством общего фона, тем не менее для вдумчивого наблюдателя эта нить — «серебряное плетение». Она явно отличается от всего остального, отличается не по яркости, но по особой выверенности, безошибочности стежка. Не будем забывать, что эта неброская яркость существует лишь благодаря фону, от которого она отличается. Ведь мы узнаем смену темы в музыкальной композиции по резкому изменению тональности и оцениваем красоту на фоне общей серости. Не следует понимать буквально, что все остальное, кроме ушу, было «серым» и невыразительным. Оно было «выразительным» по-другому, по-своему, оно было внутренне иным и в то же время тематически и духовно постоянно пересекающимся с культурой ушу и находящим с ней параллели. В частности, вся теория китайской живописи строилась практически на тех же терминах, что и ушу. И здесь мы обнаружим принцип «юньци» — «циркуляции ци», принцип «воля следует прежде формы», важнейшую мысль о том, что ценность формы определяется по наличию бесформенного в ней. Но все же культура ушу, равно как и культура живописи, есть именно внутренняя реальность со своими сложными конвенциями и абсолютной завершенностью — целостностью. Мастер ушу — воплощение этой целостности, поэтому его характерной чертой и является полнота душевных свойств. Культура ушу действительно самодостаточна, хотя эта самодостаточность и была исторически предопределена не столько развитием самих боевых искусств, сколько всей общей метакультурой Китая, обращением ее к иной реальности — реальности не исторической, но вневременной. Она как бы взращивала свое детище, дав затем ему право на самостоятельность. Ребенок похож на мать ровно настолько, насколько и отличен от нее, ибо это два разных существа. Духовное родство при этом — момент отнюдь не врожденный, но достигнутый в результате нравственного усилия и сознательного резонанса. Поэтому для нас не будет сложным понять, что культура ушу сформировала в своих недрах свою систему коммуникации и саморегуляции, она имеет собственные каналы сохранения, воспроизведения и ретрансляции, свои ценностные критерии и нравственные идеалы. Поэтому ушу — не только часть культурной традиции Китая, но и отдельная целостная культура. Именно сочетание этих двух сторон дает столь чарующее, но не улавливаемое многими европейцами разнообразие ушу. Кстати, это раз и навсегда ставит крест на бесстрашных попытках создать ушу вне Китая: ребенок не рождается вне матери. Общение в культуре ушу — вещь весьма хрупкая. Учителю, например, не принято задавать вопросы, выходящие за рамки неписаного канона. Не стоит, например, спрашивать, у кого он обучался, что знает, какими стилями владеет и что вообще думает о вещах, не относящихся к ушу. Весьма некорректной покажется просьба показать «очередной прием». В традиционных школах тайцзицюань иногда учили по одной форме в неделю, а в багуачжан и синъицюань — вообще по одной форме в месяц. Все, что следует сообщить, он скажет сам, будет обучать каждого лишь тому, чему тот может научиться. Выход за эти условные границы есть прежде всего выход за рамки культуры ушу, и общение на этом обычно обрывается. Ушу имеет свою логику и внутреннюю динамику в понимании, преподавании и общении. Культура — это жизнь, прожитая осознанно, когда каждый момент существования преисполнен внутреннего смысла, подобно священнодействию, и в этом обыденная жизнь человека ничем не отличается от невидимого, но лишь предчувствуемого ритуала. Это не только понимание того, что дано сделать в жизни, но и того, что никогда не будет дано, того, что следует сделать и чего делать не следует. Следование Дао осуществляется не в соответствии с какими-то законами, а как свободное, спонтанное произлияние сознания и воли человека во внешний мир, считывание «текста культуры» из собственного сознания, где он имплицитно присутствует. Сам момент существования человека приобретает оттенок глобального бытийствования, вечного пребывания «только здесь и только сейчас», странствия в промежутке между бытием и небытием; так как сознание человека дисперсирует, растягивается во времени, он принадлежит в равной степени и прошлому и будущему. Так произрастает Вечно Длящееся Настоящее, которое в равной степени можно назвать вечно длящимся отсутствием этого Настоящего, ибо суть человеческого Дао — все же пустота, а не действие. Отлична ли природа человека от небесной природы? Дано ли ему в потенции быть равным Небу, или, как говорили китайцы, «узреть Небо в глубине себя»? Культура для Китая — не набор предписаний, регуляторов общества, но прежде всего — способ глобального общения, резонанс вещей, человека и самого Неба, когда звук одного продлевается во всех, когда человек существует в соприкосновении и проникновении в «семя» вещей, в зародыш сущего. Ему дано быть всем, не утрачивая человеческую природу, потому что его Путь — возвращение внутрь себя, как говорили чань-буддисты — «узреть свой истинный лик до того, как ты родился на свет». Европейский гений Ницше говорил: «Надо обладать большим мужеством, чтобы вступить в область запретного». Не всегда психические силы человека способны совладать с теми глубинами внутри него, которые открывают ему «тайное искусство» ушу, то самопробуждение универсального сознания, которое равно миру. Речь идет не столько об удивительных вещах, демонстрируемых мастерами цигун, вплоть до левитации и абсолютно точного предвидения будущего, но прежде всего об ином уровне миропонимания. Кстати, такие «фокусы» истинно просветленному не нужны, он перерос их. Китайская поговорка утверждала, например, что «истинный даос выше мага». За обрядом всегда стоит таинство, за формой всегда скрывается мистерия мира. В обучении ушу любой прием первоначально, на самых ранних стадиях обучения, важен прежде всего сам по себе как возможность овладеть «еще одной техникой», которая в конечном счете позволит быстро и эффектно одолеть соперника. Но затем к приему прибавляется внутренняя работа, которая немыслима без определенного состояния сознания. Это предполагает трансцендентацию самого понятия «прием», когда он становится лишь путем к духу человека, но не целью тренировки. Здесь и преодолевается барьер между почти ритуальным символом — таолу в ушу — и таинством вселенской архитектоники, на которой он и основывается. Школа ушу, таким образом, переносит человека через пространство культурных условностей, отделяющее его от собственно природного начала (цзыжань) или его природных свойств (син), открывая человеку уже не столько познавательную глубину самих форм, но их образы и более того — саму внутреннюю структуру мира. Каждый человек должен попытаться остаться один на один с этой бесконечностью и войти в лоно мистерии собственного духа. Попытка может, увы, оказаться неудачной, и далеко не каждому суждено стать не то что мастером, но даже полноценным учеником. И тем не менее, эта попытка обязательно должна состояться, ибо лишь в ней есть врата к самому себе. Глава 7 Комплексы в ушу — форма бесформенного
Таолу: что скрывается за движением? Ключевым моментом тренировки во всякой школе ушу является изучение комплексов формальных движений — тао, или таолу. В каждом стиле существует свой канонический набор таолу, например, в классическом шаолиньцюань их было несколько сот, в синъицюанъ — пять-шесть, в тайцзицюань и багуачжан — по одному. Дело, естественно, заключается не в количестве комплексов, а в самой возможности реализации внутренних принципов ушу через особую геометрию движений. В комплексах изучаются не просто комбинации приемов, как полагают многие, но определенные принципы (ли), лежащие в основе стиля, в том числе и принципы энергетической работы, умения направить ци и внутреннее усилие-цзин в ту или иную точку тела. Естественно, здесь не играют большой роли количество движений, их амплитуда, скорость или резкость. Важно другое — насколько полно комплекс соответствует внутренним принципам стиля. «Истинный мастер может проявить себя и на пятачке, где уляжется корова», — говорят в ушу. Комплексы в традиционных стилях ушу формировались веками, постепенно находя идеальное равновесие между внешним выполнением движения и внутренней регуляцией циркуляции ци. Отсюда нетрудно понять, почему практически невозможно самому создать «истинный» комплекс ушу, — можно лишь просто механически сложить движения вместе, превратив отработку таолу в простое физическое упражнение, а не в форму активной медитации. Внешний вид комплексов мог существенно разниться. Например, в шаолиньцюань существует правило «одной линии» (исянь), когда боец во время выполнения комплекса передвигается по прямой лишь с небольшими отклонениями в стороны. С другой стороны, траектория передвижений в южных школах, подражательных стилям животных, в стилях «Пьяный кулак», «Потерянный след», столь запутанна, изобилует таким количеством разворотов и изменений направления движения под самыми неожиданными углами, что лишь на запоминание таких комплексов могут уходить долгие месяцы. Здесь и «шаги сливового цветка» — передвижения по пятиугольнику, «шаги дракона» — передвижения по серпантину, будто дракон волочит свой хвост, «дуговые передвижения» — передвижения по пологой дуге вперед и назад, «шаги змеи» — передвижения с вращением всего тела, «шаги по девяти дворцам» — передвижения по многоугольнику. В последнем случае во время тренировки на земле рисовался огромный квадрат, разбитый на девять квадратов поменьше, что, по представлениям древних китайцев, соответствует архитектонике самого Неба. Кстати, такие же «девять дворцов» существуют и в нижнем киноварном поле человека, где пестуется пилюля бессмертия, и даже в голове, в верхнем киноварном поле, где рождается высшая духовная субстанция — шэнь.  Комплекс с боевыми граблями Обычно передвижения в таолу соответствовали развертыванию небесных соответствий на земле, автором которых является сам человек. Например, в стиле багуачжан боец передвигается по девяти кругам, повторяющим схему «девяти дворцов», при этом в общем плане сама траектория передвижений рисовала на земле схему Тайцзи — Великого предела. Обратим внимание: здесь понятие «форма» — это не просто вещь, которую можно осязать или видеть, но особая граница между сферой небесных образов, фактически — прообразов всего видимого мира, и сферой мира вещного, материального. Отсюда же и знаменитое выражение о необходимости «прозрения доподлинной формы», что означает понимание предела развития обеих сфер, когда одна переходит в другую, образы трансформируются в вещи, а вещи без разрушения уходят в свое предсостояние. Здесь — обретение истинной формы, то есть формализация ведет к определению предела, к самому Тайцзи, где каждое понятие не просто абсолютно тождественно своей противоположности, но оно парадоксальным образом и есть эта противоположность, когда «истинный удар — отсутствие удара», «великая белизна — темна», «великий звук не услышишь», «великая музыка — беззвучна». Теперь нетрудно понять, почему форма — это лик, отражение Дао. Именно поэтому в ушу внешней форме придается столь большое значение, когда ученик годами может овладевать десятком движений. Ясно, что овладевает он не столько самим движением, сколько его «небесным прообразом». Тренировка в ушу обычно начинается с овладения базовыми упражнениями — цзибэньгун, которые могут включать в себя простейшие махи ногами, растяжки, передвижения, несложные удары, стойки и т. д. Все их принято сводить к «пяти методам», или «пяти способам» (уфа), которые в сочетании и дают корректную реализацию внешней формы приемов. Это работа руками (удары и блоки), работа ногами (удары, подставки), движения корпусом, стойки и передвижения, способы взгляда. Обычно наибольшее внимание новички уделяют именно ударам и блокам, и мало кто знает, что истинный знаток боевых искусств определяется по движениям корпуса и способам взгляда. Считается, что именно эти две составляющие свидетельствуют о знании энергетических основ ушу. Скажем, движения корпусом — это отнюдь не просто гибкость или подвижность тела, но особое умение направить ток ци в нужную точку, что в определенной степени похоже на йогические асаны. Существуют стили, где большая часть работы приходится именно на движения корпусом — скручивания, развороты, различные вращения, наклоны, нырки, легкие подрагивания, откидывания корпуса назад. Таковы, например, стили «Пьяный кулак» (цзуйцюань), змеи (шэцюань), обезьяны (хоуцюань). Крайне важна работа корпусом и в упражнениях с оружием, не случайно китайцы говорят, что «меч держат рукой, вращают поясницей, а укол наносят всем телом». Корпус является своеобразным передаточным звеном внутреннего усилия, характерно, что в ряде стилей его называют «срединным сочленением», уподобляя корпус могучему стволу древа, связывающему воедино влагопитающие корни и цветущие ветви. Способ взгляда — один из самых сложных элементов в искусстве ушу. Обычно он включает в себя две составляющие — направление и выражение. Например, взгляд может быть направлен на ударную конечность (это обычно делается во время выполнения комплексов) или в сторону удара. В тайцзицюань взгляд всегда следит за «наполненной» рукой, выполняющей основное движение, и тем самым как бы передает ей волевой импульс, не случайно зачастую китайцы говорят о некоем «духе глаз» (янь-шэнь), который наполняет то пространство, на которое направлен взгляд бойца. Необходимо научиться и играть выражением взгляда. Он может быть спокойным, грозным, гневным или даже растерянным, как, например, в стиле «Пьяный кулак». В синъицюань важнейшим способом воздействия на противника является «отравленный взгляд» (дуянь). Большим знатоком искусства «отравленного взгляда» был великий Сунь Лутан, который лишь одним своим взглядом приковывал противника к месту. Другой мастер синъицюань, Ли Лонэн, «отравленным взглядом» вызывал такую нестерпимую боль у своих соперников, что они валились на землю от боли во всем теле. В некоторых стилях могли основной упор в тренировках делать именно на отработку особого типа взгляда, причем сами способы держались в строгом секрете. Например, в провинции Хунань в XVII веке на стыке синъицюань, шаолиньского стиля пяти животных, стиля орла и стиля журавля родился стиль горного орла. В этом стиле внутренняя энергетическая работа превалировала над чисто внешней имитацией движений орла, например, особыми упражнениями следовало вскармливать «Прежденебесное ци» и «Посленебесный дух», что в конечном счете должно было «укрепить кости и подарить долголетие». Но основное внимание здесь уделялось «духу взгляда» — «орлиный взгляд» должен был заставить противника в страхе броситься бежать. Сам же боец, когда перед его лицом размахивали мечом или даже кололи в голову пикой, не имел права не только измениться в лице, но даже моргнуть. Естественно, что такой выдержке и искусству взгляда обучались годами. Например, ученики часами смотрели на зажженную свечку не моргая, а вглядываясь в даль, пытались рассмотреть мельчайшие детали у отдаленных объектов; особым образом учились переводить взор из стороны в сторону, не поворачивая головы. Канон формы в ушу и творчество духа Средоточием принципов ушу и реализацией базовых навыков является прием (чжао), или форма (ши). По сути, это и есть форма Дао в предельном своем выражении. Это квинтэссенция всей тренировки ушу. Обратим внимание: просто отдельный удар приемом не является, прием может состоять из пяти-шести движений и имеет вид завершенной композиции. Действие такого приема простирается значительно дальше, чем защита или нападение. Он имеет еще и «провоцирующее» значение, вызывая в сознании различные образы и выводя сознание человека за рамки собственной персоны. Об этом ярко говорят и названия самих приемов: «Смиренный монах поклоняется Будде», «Голодный тигр бросается на добычу», «Яростно бить в бронзовый колокол», «Черный дракон выходит из воды», «Панда карабкается на дерево». Не менее показательны названия форм тайцзицюань: «Расчесывать гриву дикой лошади», «Петух, стоящий на одной ноге», «Держать птицу за хвост». Прием в ушу всегда взывает к образу, к переходу сознания человека в этот образ и тем самым бесконечно превосходит выполняемое действие. Например, в тайцзицюань форма «Схватить птицу за хвост» состоит из четырех базовых элементов: отведение руки соперника (пэн), ее захват и рывок противника на себя (люй), надавливающее движение, теснящее соперника (цзи), и, наконец, толчок (ань). При этом занимающийся представляет, как к его руке привязана птица, рвущаяся в небо, а он легко притягивает ее обратно. Прием, конечно же, не простая совокупность движений или слагаемая векторов силы. Это прежде всего самобытный психологический акт. В этом коренятся две на первый взгляд кардинально противоположные стороны формы в ушу. Прежде всего, выполнение формы в определенной степени механистично и даже конформно — прием непосредственно связан с определенным каноном, который в свою очередь зависит от традиции данной школы, ее технического арсенала, привычек наставника. В этом случае от ученика требуются абсолютная ортодоксальность выполнения форм, их строгое соответствие канону. Ушу безусловно стоит на каноне, но не на догматике, которая в боевых искусствах Китая абсолютно исключена. Однако существует и другая сторона приема, которая не позволяет формализации дойти до предела. Она связана с уникальностью человека как совокупности определенных психических свойств, доминантных физических качеств (его роста, силы) и духовных принципов. Приемом руководит всегда воля конкретного человека, зависящая от степени его внутренней свободы и, следовательно, возможности интуитивно варьировать требования канона. Боец, не освоивший формального знания приемов, не сможет эффективно вести бой и остается как бы «обнаженным» без усвоения канона. Но, с другой стороны, человек, боготворящий канон и боящийся уйти от него, также обречен попасть в тупик. Он становится рабом внешних уложений, которые он не способен творчески применить на практике. Эта проблема — чисто психологическая, ибо свидетельствует о полной внутренней несвободе и душевной скованности человека. Истинный поединок в ушу есть всегда процесс внутреннего творчества, рождающегося из освоения базовых принципов ушу. Эти принципы рождают в человеке бойца, уводят его от механицизма в область свободных вариаций. Поэтому «боевая машина» — не лучшая оценка настоящего воина, так как автоматизм является далеко не последней фазой в освоении боевой техники ушу. Прием доведен до автоматизма, но этот автоматизм подкреплен возможностью интуитивно чувствовать и непредвзято ощущать реальность, выбирать варианты ведения поединка, выражая свой творческий импульс — волю (и), одним словом, творить, освобождаясь от стереотипа канона. Когда требования канона доведены до абсолютного предела, интериоризировались, от внешних наставлений перешли в плоть и кровь, канон ненасильственно самоустраняется. Боец постигает полноту внутренней свободы поединка, открывая перед собой бесконечное количество вариантов и возможностей. Власть канона и его самоустранение — не просто два этапа в изучении ушу, эти две сущности присутствуют и в поединках и в комплексах, именно это позволяет наиболее полным образом выразить себя. Таолу — это средоточие всех принципов стиля, живое воплощение духа древних мастеров. В этом состоит абсолютная ценность традиционного таолу — ученик ощущает, явственно осознает, что выполняет те же движения с той же последовательностью и обретает то же внутреннее состояние, что и великие мастера школы. Таким образом, происходит преемствование духа через преодоление внешних форм в таолу. Комплексы как бы рассказывают ученику о традиции ушу, делая это в столь необычной, но проникновенной форме. Традиционные таолу и есть «истинные формы» ушу. Безусловно, знание такой «истинной формы» еще не означает, что ученик обязательно достигнет уровня мастера, но лишь правильность таолу, их полноценное понимание и целостное объяснение открывают путь к этому. Форма в ушу — всего лишь особый указатель, не путь, но знак этого пути, подсказывающий, куда идти. «Если человеку указано на юг, он уже не пойдет на север», — говорят по этому поводу китайские мастера. Сама по себе дорога еще не гарантирует, что каждый желающий одолеет ее, но она потенциально может привести к цели. Таолу служит пространством соположения неизменной повторяемости движений и состояний с уникальностью личного опыта. Истинная форма, сополагаясь с силами космическими, внебытийственными, переносит их вселенский покой на человека. Для этого и следовало «успокоить ци», «привести его в состояние стабильности» (динци). В этом проявлялся принцип «срединной гармонии» (чжунхэ), тонкого и чуткого созвучия, созвучности всех существ и явлений в этом мире. «Срединная гармония» всегда опосредуется в человеке через циркуляцию «срединного ци» (чжунци). Рассуждая о его качествах, мастер тайцзицюань Чэнь Синь писал: «Срединное ци поименовать труднее всего, равно как и трудно дать имя той дороге, по которой движется срединное ци. Оно бесформенно и беззвучно. Если не практиковать долгое время гунфу, то не сумеешь осознать его. Поэтому, не отклоняясь и не колеблясь, является оно следом без формы и срединой одухотворенной естественности».[42] Занимаясь ушу, мастер омывает свое тело «срединным ци», ибо оно «проникает в центр сердца и почек, наверху достигает макушки головы, а внизу опускается до точки хуэйинь (центральная точка промежности. — А. М.)». Во время выполнения комплексов человек должен быть подобен не столько бойцу, ставящему своей целью грамотный поединок, сколько мудрецу, получающему свои силы и толчок к выполнению движений от «пружины Неба» — Дао. У такого человека движения ушу рождаются сами собой, как бы проистекая из сердца («основа сокровенной пружины проистекает из сердца»), а сами приемы являются лишь видимым и доступным для окружающих выражением самотрансформаций Дао. Все происходит интуитивно и спонтанно. Мастер Сунь Лутан выразил это следующими словами: «Каждое движение тела — это Путь Неба, поэтому можно, не прилагая усилия, достичь Средины (чжун). В отсутствие размышлений легко и свободно достигаешь Срединного Пути. Такой мудрец имеет общее тело с Великой пустотой и совместные установления с Небом и Землей. Принцип кулачного искусства также составляет единое целое с Путем мудреца».[43] Это отсутствие мысли, размышлений (сы), по выражению Сунь Лутана, и есть «возвращение к Пустоте посредством упражнения духа». «Не двигаясь, изменяемся и достигаем состояния уво («не-я»). Тогда и приходит состояние кулачного искусства вне кулачного искусства, воли за пределами воли, бесформенной формы, безобразного образа, отсутствия себя и отсутствия другого. Упражняя дух, возвращаемся к пустоте. Изменение духа — это и есть достижение неизмеримо утонченного Дао».[44] Таолу, равно как и вся система ушу, требует понимания не того, зачем делаешь, но того, что делаешь вообще. Здесь принципы ушу в своем предельном выражении неотличимы от принципов обыденной жизни вообще — поэтому и говорят, что «в ушу нет ничего особенного и сверхъестественного», ибо сложно не ушу, а та внутренняя реальность, которая стоит за боевыми искусствами. Но она же стоит и за самим актом жизни и заключена в умении свободно и естественно принять сам момент своего существования. Жизнь тогда обращается в судьбу, а человек должен осознавать свое предопределение, свое мессианское предназначение. Это и есть то, что китайцы называли «полнотой жизненности», позволяющей принимать жизнь в ее данности — «таковости». Использовать неиспользуемое В мистической традиции ушу всякое движение, всякий прием становятся знаком присутствия Дао. Особенно ярко эта традиция прозрения внутренней реальности за внешними приемами проявилась в стилях «внутренней семьи» — тайцзицюань, багуа-чжан, синъицюань. Об этой второй сущности приема говорил и мастер синъицюань Го Юньшэнь как об умении использовать «сокровенно-утонченные изменения духа». Все это и есть проникновения в образы Дао, в предобразы мира и самого себя, понимание второй, «внутренней» сущности любого явления, которая предшествует первой — видимой и осознаваемой. «Вторая» реальность может оказаться более чувственной, более настоящей, чем первая. Дао ни умозрительно, ни чувственно не уловимо — «смотрю на него и не вижу его; слушаю, но не слышу», — поэтому и не имеет смысла описывать его внешнее, «вещное» выражение. В данном случае целиком подтверждается известный афоризм, что «все сказанное есть ложь». Знак противоречит сущности, ибо Великий Путь нельзя кодифицировать, так как Дао само кодифицирует нас, расставляет все «по полочкам» и определяет судьбу — «жизненность» (мин) всех людей. Не случайно для ушу описательная форма — трактат, устные наставления — значит намного меньше, нежели бессловесное внимание мыслям (даже не словам!) учителя и вхождение в его образ как образ самого Дао. И все же при всей иррациональности Дао его можно постичь, но лишь приняв весь мир за его символ — Великий символ бытия. Поэтому вся китайская культура предельно символична и образна, как бы вечно отстранена от конкретики и в то же время предельно прагматична. Примером тому может служить даже не столько даосизм, сколько конфуцианский грандиозно сложный ритуал, ритуал помпезный, богато декорированный и перманентный, зачастую сливающийся с самой жизнью. А что есть жизнь, коль не зримое, объек-тивизированное выражение Дао, где все действия, события, люди — лишь «указатели» на некоего темного двойника действительности, столь же реального, сколь и призрачно-далекого, не имеющего «ни цвета, ни звука, ни запаха, ни формы», пустотного, но всеопределяющего. Ритуал в этом контексте уже становится далеко не механически-безжизненным набором жестов и слов, но попыткой отделить священное от профанного и на этой основе указать на всеобъемлющую двойственность бытия — внешнюю и внутреннюю стороны. Их суть едина и безусловно сводима к Дао. Поэтому в китайской культуре внешнее — всегда лишь проекция внутреннего, и это прекрасно видно на примере взаимоотношений внешних и внутренних стилей, где противоречия — лишь кажущиеся и во многом наигранно-традиционные. Мир — как символ, движение тела всегда равно движению души, а последняя всегда дана как трансформация сверхбытийной творческой воли — все это определяло суть многих явлений китайской культуры, переводя их в разряд «искусства души». В частности, на этом полностью базировалось художественное творчество, где предметы изображались скорее как символы, нежели как почти фотографическое отображение реальных форм. Стоит ли рисовать обыденность, когда за ней скрыто то, что действительно достойно внимания и долгих лет духовных поисков? Этот подход даже позволил раду исследователей говорить, правда не совсем доказательно, о китайском «импрессионизме», «символизме» и даже «сюрреализме» в живописи, особенно в монохромных пейзажах гор и вод. Однако Европа всегда выражала отношение личностного «Я» к происходящему, утверждая приоритет полнокровного «Эго» и его отражения действительности над самой действительностью. Китай же вел речь о символической глубине явления, но в отнюдь не символическом его восприятии личностью. Это была особая перспектива духа, которая открывалась после преодоления внешней формы. Китайский мастер-живописец не мог сказать про свою картину: «Я так вижу», — ибо так и есть на самом деле во внутренней реальности космоса. На таком же символическом понимании мира — воплощения внеположенного Дао — и основывалось философское учение ушу. С одной стороны, движение в ушу крайне важно, так как оно сущ-ностно оформляет всю систему, тренирует тело и похоже, пользуясь китайским определением, на сосуд, резервуар, куда вмещается некое содержимое. И в то же время оно не имеет никакого значения, так как это всего лишь заурядная символика непостижимой сущности, а существует «форма вне форм» и «кулачное искусство вне кулачного искусства». Это не более чем горы и воды на живописном изображении, камни и карликовые деревья в китайском миниатюрном саду. Эти два момента — апологетика формы и ее постоянное преодоление, отрицание вплоть до цинизма («Но на самом деле ничего этого не надо человеку — лишь трата времени» (Сунь Лутан)) — отнюдь не отрицали друг друга. Постижение Дао в ушу идет через квинтэссенцию — некую сверхформу, когда на основе долгих занятий «мертвое» движение наполняется духом — «одухотворяется». Поэтому в ушу часто ведут речь о «священном», или «одухотворенном», ударе — шэньда. Форма и не-форма идут всегда рядом, причудливо и иллюзорно переплетаясь, но никогда не смешиваясь. Ушу включает в себя тысячи приемов, сотни методов тренировки, массу гигиенических, диетологических и моральных предписаний. Даже профану нетрудно понять, сколь огромную роль они играют в формировании корпуса ушу. Но все же, чтобы выразить мастерство, равное в данном случае выражению Дао, не требуется множества форм. Достаточно лишь одного удара. Или, наоборот, полного покоя вне всяких ударов. После долгих лет тренировки истина открывается в своей непосредственной простоте и непритязательности. Об этом и говорят поговорки в ушу: «Один удар и есть Дао», «Всякий прием таит в себе полноту истины». По смыслу это похоже на известное чаньское изречение: «Обыденное сознание и есть истинное Дао». Действительно, коль скоро каждая из мириад вещей мира может служить вратами в сокровенную сущность Дао, то почему ими не может быть всего лишь один прием, выполненный в состоянии обыденного, спокойного сознания? Но стоит ли в таком случае изучать сотни сложных форм в ушу? Не достаточно ли одной-единственной, но «истинной»? Казалось бы, это может значительно сберечь усилия и сократить путь. Однако истина хотя и проста в ее непосредственном восприятии и выражении, путь к ней может быть весьма долог, так как это дорога к просветленному сознанию. Методы психотехники в ушу предназначены для «просветления» или «очищения» сознания, устранения всех отвлекающих мыслей — «шумов». Разные стили и школы могли использовать и разные методы, хотя можно сказать, что между ними было больше общего, чем отличного. Стили, возникшие под влиянием буддизма, предлагали одни методы медитации и психопрактики. Развивавшиеся в лоне даосизма — активно опирались на опыт психопрактики, накопленный в древних системах даоинь и даосами-мистиками. Однако в XVII–XVIII веках все методы столь тесно переплелись, что стало нелепым говорить об исключительно «буддийских» или «даосских» стилях — таковых просто не было. Итак, путь к пониманию высшей сути ушу можно выразить приблизительно так: преодоление («опустошение») формы через изучение этой формы и даже фанатичную преданность ей. Мастера ушу вели речь о некоем сокровенном «использовании» (юн). Что же это такое? Первоначально надо использовать лишь то, что имеешь и чем владеешь. Вначале это могут быть несколько базовых движений, позже — сложные комплексы. Их формальное изучение надо довести до некой критической точки и, «используя», полностью исчерпать их, сделать шаг в их внутреннюю сущность. «Использование» — особая наука в ушу, так как всегда существует опасность «споткнуться» о форму, апологизировать ее и вместо использования формы предаться поклонению ей, забыв, что это всего лишь этап на пути к более высоким целям. Чжуан-цзы говорил, что «многие умеют использовать то, что имеет сущность. Но нет тех, кто сумел бы использовать неиспользуемое», т. е. само Дао… Известный мастер Чэнь Синь (XIX век) так говорил об этапах постижения ушу: «Изучающий ушу движется от того, что имеет форму, к тому, что не имеет и следа, постигая в этом небесном искусстве сокровенно-утонченное начало». Трудно выразить точнее обретение смысла ушу, равного пониманию самого Дао — «того, что не имеет и следа». Все истинное в ушу не имеет следа и пустотно, например, «срединное ци», определяющее мастерство в тайцзицюань, «использование пустотного» в отработке приемов. Поэтапность обучения фактически заключается в переходе от «полного» (ши) и «имеющего форму» (юсин) к использованию «пустотного» (сюй) и «бесформенного» (усин).  Так иллюстрировались учебники ушу в XVI веке Сунь Лутан писал, что существует несколько этапов «использования» в ушу: «Использование того, что имеет форму и внешний вид. Использование того, что имеет вид и имя, но бесследно. Использование того, что имеет звук и имя, но не имеет формы. Использование того, что не имеет ни формы, ни вида, ни следа, ни звука, ни запаха».[45] Таким образом, в ушу происходит постепенное нивелирование внешней формы и приход к доформенному состоянию мира. «Движение за пределами движения» Итак, движения в комплексах обретали символическое звучание, как бы сообщая, что за ними присутствует бесформенная пустота, которая придает структурное единство всей системе ушу, равно как и любому виду традиционного китайского искусства. Не случайно в наставлениях по выполнению таолу речь идет об «одухотворенном движении», становившемся идеалом естественности человеческого самовыражения. Редко какой-нибудь комплекс, за исключением тайцзицюань, выполнялся больше трех-четырех минут, на большинство же затрачивалось чуть больше минуты. Спрессованность всего знания ушу в нескольких десятках движений заявляла о себе в особом внутреннем состоянии человека, абсолютно отличном от обыденного. В эти мгновения человек жил особой, космической жизнью. Обратим внимание, как об этом говорили сами китайцы. В эпохи Суй и Тан, когда только формировалась система тренировок через таолу, выходившая из недр ритуальных танцев, боевые комплексы уже именовали «чудесными», «преисполненными великой радости», «открывающими Путь», а мастера XVIII века считали, что смысл таолу — «сделать сердце спокойным, дух устойчивым, а сознание невозмутимым». Такое понимание комплекса выходило далеко за рамки его чисто тренировочной, физической функции. Важно было другое — «намекнуть», что за самой ничтожной деталью движения должны угадываться богатство и «неисчерпаемость» (уцюн) внутреннего содержания. Комплексы ушу начинают непосредственно сополагаться с эстетическими концепциями Китая и превращаются в искусство символа и «движения за пределами движения». Известный учитель багуачжан Хуан Бонянь (начало XX века) говорит именно об этом вибрирующе-тонком, эстетически преломленном состоянии, которое характерно для первого движения комплекса лунсин багуачжан («Форма дракона «Ладони восьми триграмм»): «Из Беспредельного рождается Великий предел. Из Великого предела рождаются два начала (Небо и Земля), четыре проявления (большое инь, малое инь, большое ян, малое ян) и пять первостихий (металл, дерево, вода, огонь, земля). Нет ничего, что бы не рождалось отсюда. Покой изменяет движение, движение трансформирует покой. Опустошаясь, наполняемся. Наполняясь, опустошаемся и изменяем тем самым все сущее. Принцип этот неисчерпаем… Нельзя использовать силу, чтобы наладить циркуляцию ци. Обретаешь состояние пустоты пещеры, отсутствия себя и отсутствия другого. Эти слова содержат покой, но причина его не видна. Эти слова содержат и движение, но не узреть его след. Это — основная форма для регуляции ци и вскармливания духа».[46] Очевидно, что речь идет о проявлениях в движении Дао, которое настолько бесследно, что утверждает себя лишь через самоотрицание — «но не видна его пружина». Человек, мало знакомый с принципами ушу, вряд ли догадается, что здесь речь идет о первой и самой простой позиции в комплексе, когда боец стоит прямо, ноги вместе, а ладони лежат на бедрах. Простота внешней формы как бы предопределена многообразием внутренних трансформаций, космическим рождением внутри человека Великого предела, Неба и Земли, четырех проявлений, пяти первостихий — одним словом, всего мира. И здесь сам человек становится этим миром на стадии семени, завязи, предшествия. Безыскусность движения, которого, по сути, нет (в физическом плане это статичная позиция), лишь подчеркивает его внутреннюю глубину, вводя человека в состояние двойного самоотсутствия — «отсутствия себя и отсутствия другого» (дословно — «не-я и не-он»), снимая грань между субъектом и объектом, человеком и миром, распластывая его в пространстве сверхбытия и возвращая человека к абсолютной пустоте даосской пещеры — гулкой пустотности пространства, в котором ничего нет, но которое содержит семя всего сущего. 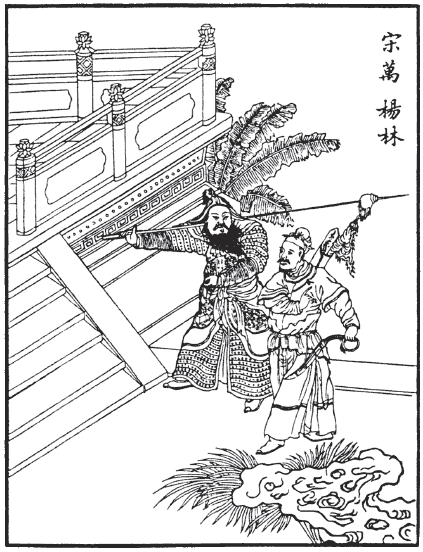 Воин и благородный муж Итак, таолу в ушу — это внутреннее движение, воспроизведенное вовне. Эта мысль — «дать форму бесформенному» — четко прослеживается в традиции внутренних стилей. Например, известный трактат «Рассуждения о тайцзицюань» так описывал переход импульса воли от внутреннего образа к внешнему движению: «Его корень располагается в ступнях, проистекает из ног, направляется поясницей и обретает форму в пальцах рук».[47] Обратим внимание на безличную форму построения предложения, в котором идет речь о кристаллизации в движении «его» — бесформенного и неясного Дао, которое изливается в вибрации тела человека. Воля пронизывает все движения, присутствует в них ежемгновенно, а боец не должен «отпускать» ни одно свое действие, он ведет его от начала и до конца. Даже если, например, в комплексе встречается остановка или резкая смена ритма, одним словом «разрыв», то ток воли, ее импульс, не должен прекращаться — это и придает внутреннюю целостность внешне прерывистым движениям. Учителя «внутренних стилей» говорили, что необходимо в любой момент осознавать, где верх и где низ, где левая сторона, а где правая, где наполненное и где опустошенное, где открытое и где закрытое. По существу, речь идет о некой космической самореализации в пространстве, пронизанном единым ци. Присутствие воли ни в коем случае не может трактоваться как напряженное внимание — воля здесь не имеет отношения к сознательному действию. Мозг не успевает отслеживать стремительные движения ушу, речь идет прежде всего о движении как о метафизической реальности. Сознание не следует за движениями, но именно «охватывает» их, наполняет и одухотворяет. Обратим внимание на этимологию самого иероглифа «и» — «воля». Он состоит из трех графем — «устанавливать», «говорить» и «сердце». Это можно трактовать как «актуализация того, что глаголет сердце», «проявление того, что исходит из души». Воля — и есть истинная предформа, она «знает» эту форму, содержит в себе ее образ, ее семя. Образ в воле уже прекращает быть некой концептуальной абстракцией, он уже готов актуализироваться в движении. «Воля прежде движения» — этот важнейший принцип ушу открывает нам правило, что движение должно рождаться и предвоплощаться в виде образа посредством воли, а затем уже переводиться в вещное выражение. В ушу идет как бы параллельное выполнение комплекса — в мире форм и до-форм, причем образное выполнение — не менее реально и чувственно, чем формальное. Это и позволяет наполнить пространство образов волей, причем движение не выполняется мысленно по фазам, но рисуется единым мощным штрихом волевого импульса, а затем в этот рисунок «входит» форма, помещается физическое тело. И здесь ток ци интенционально опережает тело и стимулирует его к движению. Волевое всеприсутствие — чрезвычайно сложная вещь в ушу, если даже не самая сложная и мистичная по своему пониманию. Волевой посыл заключен не столько в самом движении, сколько в предформе и сверхформе. Таким образом, обычный прием перемещается в сферу космической геометрии. Форма, реализовавшись, уходит, исчезает, забывается, но благодаря своей наполненности остается вечно присутствовать здесь, в этом мире, в метафизическом виде волевого импульса. Глава 8 На пути боевой добродетели
Сила и мудрость «Большая сила побуждает к великой мудрости» — в этом известном афоризме традиционного ушу тонко подмечена основа гармоничного воспитания бойца, сочетающего в себе единство духовного совершенствования и боевой практики. Скрытый смысл этой максимы и других, подобных ей, зачастую не сразу подмечается даже искушенными в боевых искусствах представителями западной традиции. Может быть, все это — не более чем обыкновенный восточный трюизм, облеченный в мудрую традиционную форму, и мы напрасно ищем за глубокомысленной фразой духовное откровение старых мастеров? Не покажутся ли нам рассуждения о добродетельных поступках воинов, их высокой гуманности и мудрости немного наигранными, чуть театрализованными и рассчитанными «на публику»? А если все же допустить, что за всем этим стоит вполне реальное, абсолютно конкретное состояние духа учителей ушу и их объяснения добродетельной мудрости следует понимать не через логически-холодный разум, а осознавать сердцем? Спросим себя, почему известные наставники в своих трудах больше места уделяют именно нравственному воспитанию человека, причем не в затертом утомительными рассуждениями западном смысле нравственности, но именно как проявлению чистого, запредельно спокойного, светло-доброго состояния сознания, непротиворечивого взаимопреемствования мира и человека? Этот особый путь нравственно-духовного воспитания через боевые искусства, ведущий к реализации природной чистоты человеческого духа, носит название «удэ» — «боевая мораль», или «боевая добродетель», а если толковать весьма расширительно — то «благое качество, достигаемое через занятия боевыми искусствами». Именно этому качеству испокон веков отводилось важнейшее место во всех школах ушу. Вот один из ярких примеров. Известный мастер XVIII века из Хэнани Чан Найчжоу в «Книге о технике боя» («Уцзишу») в первых главах и предисловии к своему опусу больше внимания уделял понятию добродетельного поступка, почтительности и скромности бойца, нежели описанию ударов. Он считал, что ушу начинается с воспитания души, а отнюдь не с объяснения техники поединка. Вот его слова: «Изучая кулачное искусство, надо прежде всего совершать добродетельные поступки, в мирских делах быть почтительным и скромным, не вступать в бой с другими людьми. Только таким образом можно стать истинным человеком и благородным мужем».[48] Не покажется ли нам парадоксальным, что боевое искусство, одна из целей которого заключается в умении нанести своему сопернику максимальный урон, должно начинаться с овладения некими моральными нормами, причем это овладение заключалось не в механистическом заучивании правил поведения, но в их интериоризации, «погружении внутрь сознания», когда предписания становились основой истинной натуры человека. «Боевое искусство создано для того, чтобы им никогда не пользоваться», — подтверждает этот парадокс другая сентенция из ушу. Однако этот парадокс становится закономерностью и необычайной продуманностью, если мы будем учитывать тот факт, что культура, воспитывавшая в своих недрах столь искусных бойцов, вырабатывала и определенные нормы регуляции отношений этих людей с самим обществом. Общество, равно как и сами мастера, должно быть уверено, что их искусство никогда не будет обращено во вред людям. Неправильно определять «боевую добродетель» как набор каких-то нравственных качеств, как раз «нравственного» тут мы не встретим. Это особая форма существования, стилистика жизни в ушу, по сути — каждодневное существование на грани человеческого и небесного. Годами проверялся ученик, прежде чем его допускали до истинных тайн школы, до наиболее эффективных приемов и методов. Удэ постепенно превращалась не столько в ряд запретов, сколько в пробуждение общегуманного начала в человеке. Из моральных понятий, навязываемых извне человеку, боевая мораль превращалась в «отклик Дао» внутри него. Примечательный факт — ученику редко запрещалось что-нибудь делать, ему лишь объясняли, что тот или иной поступок несопоставим с идеальным образом последователя ушу. Остальное он мог решать сам: либо следовать предписанным путем боевых искусств, либо пребывать в мире иллюзий, считая, что может существовать боевое искусство без морально-духовного подвижничества. Конечно, мы говорим о некоем идеальном варианте, но, как ни странно, этот идеал бойца воплощался в Китае не столь редко, как это было с западными нравственными идеалами. Боевая добродетель представлялась не как набор скучноватых морализаторских поучений и разрозненных дидактических наставлений, но как раскрытие высочайшей тайны души мастера («истинного человека»!), которую он передавал последователю, — слепок человеческого духа, достигшего своей вершины. Удэ начинается с воспитания скромности — проявления особого уважения как к учителю и собратьям, так и ко всем окружающим. Ученик, который выказывал подобострастное поклонение учителю, но был груб и заносчив по отношению к обычным людям, считался утерявшим важнейшую черту боевой добродетели — всеобщность принципа искренности — и зачастую изгонялся из школы. Учитель мог строго наказать ученика за то, что он демонстрировал знания ушу без явной необходимости, добиваясь дешевой популярности. К правилам «боевой морали» относили не только нравственно-душевные качества, но и саму серьезность человека в процессе обучения. В тренировке необходимо соблюдать «золотую середину», «не торопиться и не медлить», как учили китайские мастера, «позволять вещам и самому человеку развиваться естественным образом, своими советами помогая ученику, но ни в коем случае не приказывая. «Каждый должен следовать в обучении своим собственным склонностям», — объяснял учитель тайцзицюань Ян Чэнфу.[49] Настоящий учитель живет внутри самого человека, новичок просто не замечает его. Этот внутренний учитель, по сути дела, и есть незамутненная природа человека (син), его врожденно-чистые свойства, которые равны самому Дао. Наставник в ушу лишь помогает пробудить этот изначальный мир внутри человека, но основной духовный процесс остается за самим обучающимся. Учитель подсказывает методы тренировки, объясняет приемы, своим поведением и состоянием устанавливает для подопечного некую точку устремлений, горизонт развития. А вот чтобы подойти к нему, требуются особое терпение, моральное усилие, выраженное в серьезности, покой души и неторопливость — качества, которые предписаны правилами поведения ученика. Примечательно, что большинство трактатов по ушу описывали обучение не как поэтапное овладение приемами, но как процесс становления сознания, или, как это часто называли во внутренних школах, «овладение истинной мыслью и истинным устремлением». Древний трактат из «Канона тайцзицюань» «Пять заметок об использовании мастерства» так описывает этапы саморазвития: «Глубоко изучай. Вникай, вопрошая. Тщательно продумывай. Отчетливо осознавай. Искренне следуй».[50] Процесс саморазвития, как видно, начинается с вопросов к учителю, пока наставления не войдут в плоть и кровь ученика и не станут неотъемлемой частью его души. И лишь затем начинается следование учению — фактически, само ушу. За всем этим стоят колоссальная тщательность и уважение к искусству. Об этом говорил учитель тайцзицюань Дун Иньцзе: «Метод человеческой гармонии заключен в том, что хотя вы и вступаете в поединок, но при этом должны оставаться вежливыми и не терять достоинства».[51] Обратим внимание на вежливость — не наигранную вежливость, но особый тип искренности, выражающий чистоту отношения к миру. В этом — глобальная вежливость к жизни, предел глубины человеческого сердца. Парадоксы гуманности воина Перед мастером ушу нередко вставала проблема: когда можно использовать свои знания? Что в действительности можно считать экстремальной ситуацией? Боевая добродетель предписывала: надо сделать все возможное, чтобы предотвратить поединок, но если он все же состоялся, следует быть предельно решительным и применить все средства для достижения победы. Не случайно у Конфуция понятие «гуманность» часто сочетается с твердостью и решительностью. Гуманность (жэнь) требует большого мужества и выдержки и рождается, по традиционной конфуцианской теории, в процессе постоянного «самопреодоления». «Кто полон гуманности, тот храбр. Кто храбр, тот не обязательно гуманен», — говорил Конфуций.[52] В ушу понятие гуманности приходит из учения Конфуция. Даже краткое перечисление всех оттенков этого понятия потребовало бы немалого научного исследования, к тому же эти оттенки зачастую меняются в зависимости от контекста. Поэтому здесь мы поговорим лишь о том, что важно для понимания внутренней природы ушу. Прежде всего обратим внимание, как относился к гуманности, или человеколюбию, сам «учитель учителей» Конфуций. Мудрец понимал под гуманностью «путь преданности и великодушия», а также «любовь к людям». Как-то один из учеников великого учителя поинтересовался смыслом гуманности, и Конфуций объяснил: «Тот, кто в Поднебесной способен придерживаться пяти качеств, может быть назван гуманным». Речь шла о скромности, великодушии, искренности, настойчивости и доброжелательности.[53] Для Конфуция гуманность превращена в особую стилистику жизни благородного мужа, меру человеческого в человеке. А может быть, еще и в особую осторожность по отношению к самой жизни, к акту человеческого миропереживания. Ведь жизнь — это своего рода ритуал, а его надо выполнять по правилам. Итак, гуманность оказывалась не просто доброжелательным и милосердным отношением к людям, но неким гармонизирующим фактором: во-первых, между миром и человеком, а во-вторых, между человеком культурным и человеком природным внутри одной личности. Тот же Конфуций требовал в следовании гуманности быть неизменно человеколюбивым, бесхитростным, терпимым, твердым, скромным и уступчивым. Так и рождался благородный муж, который «серьезен без суровости» и «не знает ни печали, ни страха, ибо в его сердце нет угрызений совести». Обратим внимание: на Западе гуманность воина понималась несколько иначе, в основном как проявление сострадания к человеку, прощение сильным слабого или победителем побежденного, как это было в рыцарских поединках. Однако китайское понятие «жэнь» — «гуманность», «человеколюбие», «справедливость», «милосердие» — значительно отличается от западных аналогов. Прежде всего, мастер ушу никогда не искал боя — вероятно, поэтому ему и приходилось столь редко применять свое искусство. Именно понимание мастерства как внутреннего качества, делавшее человека не противоречащим миру, а следовательно и незаметным для этого мира, устраняло саму необходимость поединков, впрочем, как и вообще всякого соперничества. За всей этой непритязательной внешностью, некой предельной обыденностью жизни кроется духовная непобедимость мастера, поэтому и его добродетель в некотором роде запредельна, «не от мира сего». Иероглиф «жэнь» состоит из графем «человек» и «два» и может трактоваться в своем наиболее древнем значении как опосредующая функция Человека между двумя остальными началами триады — Небом и Землей. Таким образом, гуманность оборачивается некой мирорегулирующей функцией, медиатором социального поведения человека в обществе, причем само это начало исходит от Неба. Гуманность не слепа, она выборочно действует в зависимости от ситуации, хотя для правителя, правившего, опираясь на гуманность, высшей целью становилось умиротворение народа и приведение Поднебесной в гармонию. Считалось, например, что казнь преступника — это также проявление гуманности по отношению к народу, ибо преступник может принести в мир немало зла. Гуманность не дается от рождения, ей надо учиться. Далеко не сразу приходило полное понимание сложных взаимосвязей между гуманностью, ритуалом, тайными знаниями ушу и ценностью человеческой жизни. Не случайно Конфуций называл Знание, Гуманность и Смелость тремя путями благородного мужа: «Знающий не сомневается. Гуманный не тревожится. Смелый не боится».[54] В связи с особым пониманием гуманности обратим внимание еще на один небезынтересный момент. Дело в том, что в Китае не сформировалось такого понятия, как «путь воина», подобно японскому «бусидо» как высокоэстетизированного переживания смерти. При всем желании многих исследователей обнаружить некий «путь бойца» в Китае, вряд ли возможно сделать это. Действительно, в древних текстах неоднократно встречаются такие выражения, как «путь кулачного искусства» (цюаньдао) или, например, «путь синъицюань», но вот «пути воина» мы все же не обнаружим. Дело в том, что в Китае величественность облика, характерная, в частности, для японского самурайства, заменялась внешней непритязательностью, изящно незаметной линией внешнего абриса, указывавшей, что все истинно ценные вещи заключены внутри человека и не требуют какого-то внешнего подчеркивания. Истинный воин неотличим от самой ткани мира, поэтому и не может существовать пути воина, отдельного от пути человека. Ни разу в Китае не было произнесено это выражение: «Путь воина как путь жизни». Все обыденно, просто, внешне неотличимо от повседневности. Но именно в неприметности, нарочитой тусклости для глаз окружающих и обнаруживается «культура духа», созданная китайским народом и нашедшая свое выражение в живописи, поэзии, ушу. Существует, кажется, еще одно обстоятельство, которое затрудняет для представителей западной традиции понимание воинской гуманности в Китае. Вопрос заключается в том, что в основе христианских понятий «справедливости» и «гуманности» лежит ощущение непреходящей значимости и высшей ценности человеческой жизни как творения Божьего. Отнять жизнь у другого — величайший грех, влекущий муки в «геенне огненной», тяжелые внутренние переживания или, по крайней мере, осуждение обществом. Множество произведений европейской литературы строит свое повествование именно на коллизии убийства, раскаяния и наказания за него, причем сам момент смерти может становиться отправной или даже центральной точкой всего произведения. А вот в противоположность этому в традиционных китайских романах герой может убивать направо и налево без малейших угрызений совести и — что может немало поразить западного читателя — без малейшего видимого осуждения со стороны окружающих. Заметим, что все это происходит на фоне весьма «гуманной» конфуцианской культуры. Немалое восхищение вызывали во все времена у китайских любителей народного фольклора имена таких бойцов, как Лу Чжишэнь, Ли Куй, Лю Бэй, которые никогда не впадали в раскаяние или хотя бы легкую грусть по поводу многочисленных жертв, павших от их ударов. Попробуем объяснить этот парадокс. Тесная связь гуманности с ритуалом в китайском традиционном обществе приводила к примечательному явлению: понятие гуманности распространялось лишь на тех, кто соблюдал нормы ритуального поведения в обществе. А поскольку таковым поведением, полностью базировавшимся на реализации чувства осознанно-ритуального соприкосновения с миром, была проникнута вся китайская культура, то тот, кто нарушал эти правила, считался «потерявшим лицо». Автоматически он утрачивал и собственную гуманность по отношению к другим, т. е. терял основное свойство человека, а сле-довательно, с ним можно было поступать без всякой гуманности. В этом отношении весьма показательна одна из бесед Конфуция со своим учеником Янь Юанем. Когда Янь Юань поинтересовался, что такое истинная гуманность, Конфуций объяснил: «Сдерживать себя и поступать сообразно ритуалу (выделено мной. — А. М.) — вот что такое истинная гуманность». — «Позвольте узнать, — продолжал спрашивать Янь Юань, — как этого добиться?» — «Не смотреть на то, что противоречит ритуалу. Не слушать того, что противоречит ритуалу. Не говорить того, что противоречит ритуалу. Не делать того, что противоречит ритуалу», — объяснил Учитель.[55] Не будем разбирать всей смысловой гаммы этой сентенции, это значительно выходит за рамки нашего изложения. Подчеркнем лишь один момент, кардинально важный для нас в данном контексте. Вывод из всех этих рассуждений оказывается прост, хотя и неожидан: тот, кто не следует ритуально упорядоченным нормам поведения, сам вычеркивает себя из числа тех, к кому приложимо понятие гуманности. И с ним, с человеком, «потерявшим лицо», можно поступать достаточно жестко, если не сказать — жестоко. Кстати, именно поэтому бойца, преступившего правила своей школы, нарушившего нормы общения с учителем или с другими людьми, могли сурово покарать или даже убить, ибо в какой-то момент он просто переставал существовать как полноценный человек. С другой же стороны, пока эти базовые ритуальные нормы не нарушены, необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить поединок и не травмировать соперника. Именно поэтому в теории ушу сосуществовали внешне абсолютно противоречивые установки. С одной стороны, учили: «Пусть твоя защита не будет сильнее, чем нападение», «Мудрец не обнажает оружия по своей воле», а с другой стороны, наставляли: «Коли вступил в поединок — свали противника с ног, как больное животное», «Ударить противника — все равно что щелкнуть пальцами». Оказывается, что дело здесь заключается не столько в противоречивости речей разных наставников, сколько в оценке того, соответствует ли поведение человека социально принятым ритуалам (напомним, что даже национально принятая форма приветствия — тоже ритуал) и, следовательно, обладает ли он в необходимой мере гуманностью. В этом отношении весьма показателен пример Сунь Лугана — общепризнанного символа «боевой добродетели». По его теории, истинный боец должен придерживаться двуединой добродетели — «добродетели в речах» и «добродетели в руках», т. е. в поединке. В то же время Сунь Лутан весьма образно объяснял: «Смотри на соперника, как на сорную траву. Ударить соперника — все равно что прогуляться по дороге».[56] Кажется на первый взгляд весьма негуманным давать такие советы рядом с рассуждениями о гуманности и добродетели бойца, и все же, как видно, китайская традиция с ее внутренне-ритуальным понятием добродетели вполне допускала это. Добродетельный боец Может быть, именно субъективность этих понятий заставляла учителей ушу формулировать особые уставы школ, где описывались элементарные нормы поведения. На первых порах обучения именно они и понимались под «боевой добродетелью», хотя, разумеется, смысл ее был намного глубже и средства языка не способны были адекватно передать его. Так рождались «Шаолиньские правила учеников», «Правила последователей внутренних стилей» и многие другие уставы. Особая роль в них уделялась отношениям учеников с мастером. Китайская эзотерическая традиция считала, что Небо испускает некую Благую силу, или Добродетельную мощь, Дэ, которую воспринимает высший среди людей — император, не случайно называемый Сыном Неба. В свою очередь, правитель распространял Дэ на своих подданных и таким образом своей Благой мощью напитывал Поднебесную, ведя ее по пути гуманности, преданности и справедливости. Если же император оказывался недостойным человеком, то он лишался «мандата Неба» на правление, а объективно это проявлялось в том, что он был не способен передавать небесное Дэ на землю и в Поднебесной начинался хаос. В уставах школ ушу практически та же теория описывалась в отношении учителя — именно он воспринимает истинное Дэ и передает его своим ученикам, напитывая свою школу. Уважение к учителю становится залогом установления прямой передачи благой силы Неба и, соответственно, истинного «небесного» мастерства. Но если человек не нес в себе это качество, то все его претензии на мастерство были напрасны, и уставы школ ушу советовали остерегаться таких людей, впавших в самообман. Дэ было практически единственным качеством, которое определяло человека как Мастера, и никакого другого критерия не существовало. Одним из тех, кого называли «мастером, овладевшим в равной степени и боевым искусством (уи), и боевой добродетелью (удэ)», был знаменитый патриарх стиля мицзунцюань («Потерянный след»), основатель первой в Китае Ассоциации Чистых боевых искусств (Цзинъу тиюй хуэй) Хо Юаньцзя. Рассказывают такую историю. После основания в 1909 году Ассоциации нашлось немало бойцов, которые хотели помериться силами с главой организации — Хо Юаньцзя. Обычно на турнирах выступали ученики мастера, неизменно выходившие победителями. Но однажды на помост для поединков лэйтай, построенный в центре Шанхая, поднялся могучий боец по стилю нань-цюань («Южный кулак») Чжан Гуанъу и заявил, что хочет померяться силами с самим Хо Юаньцзя. Однако сначала с ним сошелся первый ученик мастера Лю Чжэньдун. Бой продолжался с небольшими перерывами почти до вечера и окончился безрезультатно, противники оказались достойны друг друга. На второй день на помост решил подняться сам Хо Юаньцзя. Чжан Гуанъу был весьма осторожен и сразу же стал использовать обманные действия, выбирая удобный момент для нанесения решающего удара. Вот он начал проводить прием «Смести многотысячную армию» — удар ребром ладони в горизонтальной плоскости, но, не завершив его, внезапно провел прием «Богиня, ткущая на челноке» — мощный толчок правой ладонью из-под левой руки. Но Хо Юаньцзя, отразив удар, вошел в ближний бой и начал атаковать локтями, сковывая движения противника захватами, затем резко нанес удар коленом — «Свирепый тигр вырывается из клетки», а правым кулаком атаковал в висок — «Одинокая вершина пронзает Небо», сопровождая эти действия пронзительным криком. Наконец, захватив правую руку Чжана своей правой рукой и поставив левую ногу за его ноги, он обвил левой рукой поясницу противника и мощным движением оторвал его от помоста. Публика замерла, ожидая страшного по своей силе броска. Но тут Хо Юаньцзя неторопливо произнес: «Не стоит мне быть невежливым. Прошу прощения», — и с этими словами осторожно опустил могучего бойца на ноги. Публика несколько мгновений молчала, а затем взорвалась одобрительными криками и аплодисментами. Чжан Гуанъу признал: «Хо Юаньцзя поистине обладает не только блестящим боевым мастерством, но и высочайшей боевой добродетелью и действительно достоин уважения».[57] Понятие «добродетельного бойца» зачастую полностью срасталось с именами известных мастеров. Например, рядом с фамилией знаменитого мастера Сунь Лутана часто употреблялся буддийский знак «Десять тысяч лет добродетельного счастья» — свастика, или, по-китайски, ва. Иногда сам Сунь Лутан подписывал свои труды, ставя рядом с фамильным иероглифом «сунь» знак свастики, причем никто из его поклонников не сомневался после этого в авторстве трактата, ибо лишь один человек в Китае в то время мог без ложной скромности так именовать себя. Кстати, китайский буддийский миссионер Сюаньцзан, привезший из Индии немалое количество сутр и ставший их первым переводчиком на китайский язык, переводил свастику иероглифом «дэ» («добродетель», «благая сила»).[58] Качество боевой добродетели Боевая добродетель всегда оборачивалась истинной душевной щедростью мастера, проявлялась в его готовности рассказывать людям о непреходящих ценностях бытия. Один из известных отечественных китаеведов академик В. М. Алексеев очень точно, хотя и весьма расширительно, трактовал термин «жэнь» («гуманность») как «культура духа» или «человеческая культура».[59] Сочетание простоты общения и духовной открытости мастера ушу, кажущаяся доступность его слов и непостижимость их внутреннего смысла, забота о сохранении чистоты школы и истинно гуманного духа учения ушу постепенно делали удэ универсальным регулятором морально-этических ценностей всего комплекса боевых искусств. Понятие «удэ» менялось со временем. Например, в раннем Китае удэ рассматривалось лишь как способ сделать государство и народ процветающими, а одним из первых о «боевой добродетели» заговорил сам Конфуций. В летописи «Цзо-чжуань», авторство которой приписывается великому мудрецу, говорится о семи аспектах удэ — обуздании жестокости (т. е. борьбе с самоуправством должностных лиц), отказе от использования военной силы, поддержании общественной безопасности, умиротворении народа, приведении народа в гармонию, процветании и богатстве.[60] Позже зарождение основных направлений ушу как бы монополизировало за собой качества удэ, изъяло этот термин из политической культуры и трансформировало его содержание. Прежде всего принципы удэ призваны были сохранить внутренние принципы школы от глаз случайных людей. По этой причине не рекомендовалось без крайней необходимости показывать технику школы. Точно так же считалось излишним без надобности мериться силами с представителями других школ, если это не затрагивало чести «семьи» или учителя. К тому же, ушу — это проявление особой работы духа, а выяснять через кулачный бой, «у кого дух лучше работает», для традиционной цивилизации кажется недопустимым. Не случайно был распространен совет: «Пройди мимо обидчика, не замечая. Но если вступил в поединок — убей одним ударом». Поэтому многочисленные истории о противоборстве школ ушу в Китае представляются по крайней мере надуманными, во всяком случае, реальных исторических описаний этого в анналах школ мы не встречаем. Скорее всего, они рождены авторами многочисленных современных кинобоевиков о «кунфу», нежели китайской реальностью. Другим качеством удэ являлось умение распознать представителя «своей» школы, даже впервые встретив его в толпе людей или на пустынной дороге. В качестве таких «паролей» широко распространились особые тайные знаки — типы приветствия, расстановка пиал на столе, умение держать палочки для еды особым образом, завернутые рукав одежды или штанина брюк, способ захвата посоха, медальон, татуировка. Существовала и некая тайнопись — обычный, всем известный иероглиф, например, «дао» или «ци», вписывался в сложный узор таким образом, что полностью «терялся», и лишь посвященный мог вычленить его из переплетения линий. Некоторые иероглифы, например, названия школы или приемов, записывались другими иероглифами, близкими по звучанию, но обозначающими совсем другое понятие. Более того, иногда для членов школы стиль носил одно название, а для обычных, «внешних», занимающихся — другое. Так, крупнейший стиль тунбэйцюань внутри школы записывался иероглифами «сквозная (комплексная) подготовка», а для всех остальных — «удары, наносимые через спину» или «пронзающие руки», хотя в устной речи эти названия звучат одинаково. Каждая школа имела свой тип приветствия, которое лишь едва заметной тонкостью отличалось от обычного поклона. Например, шаолиньские бойцы кланялись, подняв левую ладонь на уровень бровей, а последователи мицзунцюань перед поклоном описывали небольшой круг ладонями перед корпусом, вращая их в разные стороны. На юге среди последователей тайных обществ, практиковавших ушу, был распространен следующий тип приветствия: левая ладонь накрывала сверху правый кулак, руки в таком положении шли от правого бедра на уровень глаз, после этого выполнялся поклон. Такой знак символизировал приверженность китайской династии Мин, в противоположность маньчжурскому правлению Цин. Иероглиф «мин» («светлый») состоит из двух графем — «солнце» и «луна», а ладонь и кулак, соединенные вместе, и символизировали единство этих двух начал в одном иероглифе. Многие типы таких приветствий можно встретить и сегодня — они выполняются перед началом таолу в виде традиционного поклона, но большинство занимающихся, конечно, уже забыли их скрытый смысл. Заповеди боевой морали Крупнейшие школы имели свои кодексы удэ. Часть из них базировалась на буддийских монастырских уложениях, некоторые повторяли конфуцианские правила поведения «благородного». Лишь немногие из таких кодексов записывались, да и происходило это в основном не раньше XVIII века, до этого же они передавались исключительно устно. Следует учесть, что формулировались эти «заповеди удэ» зачастую весьма непохожим образом. Так, например, в стилях «внутренней семьи» под «боевой добродетелью» понимались пять запретов, или пять качеств, не достойных истинного ученика. Эти пять запретов были сформулированы знаменитым мастером «внутренних стилей» Ван Чжэн-нанем. Ван не преподавал свое искусство пяти категориям людей — боязливым сердцем, драчливым, пристрастным к вину, болтливым, мягкотелым и глупым по своей природе, а также всем тем, кто вел низкий и ограниченный образ жизни. Ван Чжэннань весьма строго придерживался своих принципов, и попасть к нему в ученики было чрезвычайно трудно. Даже такой знаменитый мастер, как Хуан Байцзя, завершивший формирование «Кулака внутренней семьи», был искренне рад, когда Ван Чжэннань счел, что тот не подвержен ни одному из пяти пороков и может стать его учеником.[61] Самым известным кодексом удэ явилось традиционное шаолиньское уложение, разработанное в XIV–XV веках. Этот уникальный документ, дошедший практически полностью до нашего времени, представляет собой удачное сочетание доктрины ахимсы (непричинения вреда живому) и боевых традиций ушу. Со временем это уложение стало прообразом сотен кодексов ушу в других школах. «Шаолиньские заповеди» «1. Основная цель того, кто изучает нашу технику, заключается в том, чтобы укреплять тело и дух. Он должен заниматься с рассвета до заката и не может прекращать занятия, когда ему вздумается. 2. Совершенствующий боевую технику делает это лишь ради самозащиты, укрепляя собственную кровь и циркуляцию ци, воспитывая в себе смелость и отвагу в бою. Тот, кто нарушает это, совершает то же преступление, что и нарушающий буддийские предписания. 3. Ежедневно общаясь с наставником, необходимо быть предельно уважительным к нему, и нельзя совершать поступки, в которых сквозит заносчивость или пренебрежение. 4. В отношении собратьев следует вести себя мягко и обходительно, быть искренним и не допускать обмана. Нельзя, бравируя силой, обижать слабого. 5. Если же во время странствия встретишь мирянина, главное, что при этом необходимо, — терпеливо удостаивая низшего, спасти его, и нельзя необдуманно демонстрировать свою технику. 6. Каждый, кто познал методы шаолиньских учителей, не должен пускать в ход силу для выяснения отношений. Если он вдруг встретит человека, неизвестно откуда пришедшего, он должен сначала поместить левую ладонь на уровень бровей. Если странник принадлежит к той же школе, он должен ответить знаком правой ладони, дабы по нему они узнали друг друга и оказывали взаимопомощь, выражая дружеские чувства к товарищу по Учению. 7. Употребление вина и мяса является тяжелейшим грехом в буддизме. Нужно благоговейно придерживаться этого запрета, не преступая. Употребление вина отнимает волю, а мясо ослабляет дух. 8. Увлечение женщинами и мужеложством неизбежно встретит гнев Неба, к тому же это непростительно с точки зрения буддизма. Все последователи нашей чаньской школы не должны забывать об этом строжайшем запрете. 9. Нельзя необдуманно обучать технике последователей-мирян, дабы избежать вреда, который может принести это обучение в мир в нарушение основных принципов буддизма. Если же ты точно уверен, что природа и характер человека чисты и беспорочны, а в учении он не дерзок и не бесчеловечен, то можно начинать передавать ему патру и рясу (т. е. учение. — А. М.). Но если он впадет в грех увлечения вином и развратными желаниями, то надо взять клятву с этого человека, дабы впредь он соблюдал правила приличия. Нельзя, однажды добившись от него энтузиазма в обучении, сразу же уверовать в это на всю жизнь. Это первый и наиважнейший принцип нашей школы, и ни в коем случае им нельзя пренебрегать. 10. Остерегайся духа соперничества, избегай также привычки алчного самовосхваления. Этим ты убиваешь себя, к тому же отравляешь и других людей, даже неизвестно скольких. Жизненным принципом таких людей, практикующих боевые искусства, является либо хвастовство своей техникой, либо жажда обогащения, поэтому все это — лишь брызги, выходящие за ключевые принципы ушу. Такие люди являются отбросами чаньской школы. Принесшему позор в этот мир через короткое время воздастся смертью. Разве в этом смысл искусства, созданного первоучителями?! Все последователи должны накрепко запомнить это».[62] Простая мудрость и суровый аскетизм «Шаолиньских заповедей» (а их создание приписывается легендарному Бодхидхарме) показывают, что корни мастерства ушу лежат прежде всего в строжайшей самодисциплине ученика, овладении не столько своим телом, сколько своим сознанием. Боевая добродетель взывает к чистоте и неугасимости школы и оборачивается в первую очередь требовательностью к самому себе, к искренности и чистоте своих помыслов. Шаолиньские правила удэ, ставшие классическими практически для всех северных школ ушу, носили несомненное влияние буддийского миропереживания. Задумаемся над парадоксальным фактом: в сущности, монахи-бойцы должны были столкнуться с неразрешимой проблемой. С одной стороны, они посвящали долгие часы, совершенствуясь далеко не в самой безобидной и безвредной боевой технике. Но, с другой стороны, один из постулатов буддизма провозглашал принцип ахимсы (кит. бу шашэн) — «непричинение вреда живому», ставший наипервейшим из пяти базовых буддийских запретов. Не случайно жесткие правила (вина и монашеского поведения), разработанные досконально еще в индийских школах, даже запрещали обрабатывать землю, ибо это могло причинить вред всякой мелкой живности. Но вот парадокс: китайский буддизм, в частности секта чань-буддизма, изящно и безболезненно обошел этот запрет, даже особо не рефлексируя на него. На местной почве исконный китайский практицизм взял верх. Никто не отрицал важности принципа ахимсы. О нем просто никто в контексте боевых искусств не вспоминал. И тем не менее этот принцип — ограничение вреда (разумеется, до разумных пределов, определяемых чисто интуитивно) — подспудно присутствовал в правилах монахов-бойцов. За требованиями «безустанно заниматься ушу» шли мягкие оговорки: «использовать искусство лишь ради самозащиты», «главное — поддерживать справедливость», «ради помощи попавшим в беду». Принцип «непричинения вреда живому» приобрел некую высшую добродетельную разумность: если нападают — надо защищаться, иначе всякое свершение добрых дел на этом может закончиться. Перед нами — одно из ярких проявлений «китаизации» буддизма, никогда не имевшего постоянной, четко очерченной формы, которое отчетливо проступило в чаньской традиции. Строгий принцип индийской ахимсы стал сополагаться с конфуцианской «гуманностью» — гуманностью, имеющей сакральный исток, но вполне практичной, разумной, привязанной к конкретным моментам жизни. Такая экстраполяция буддийского принципа «непричинения вреда живому» дала возможность воспитывать блестящих бойцов в монашеской среде. Поэтому у китайских буддистов-бойцов святость (реальная святость!) вполне сочеталась с блестящим боевым мастерством. Приведем хотя бы один пример. Одним из самых великолепных бойцов за всю историю Шаолиня стал Мяосин (мирское имя — Се Мэнвэнь), прозванный Золотым Архатом, который исполнял обязанности старшего наставника по ушу в 20-х годах прошлого века. Он был «благочестив, соблюдал все буддийские правила, был искусен в ушу и литературе». Тем не менее, этот миролюбивый и добродетельный человек, выступая вместе с отрядом монахов на стороне одного из местных лидеров-милитаристов, с успехом использовал в бою даже огнестрельное оружие, разя противников с коня. Интересно, что именно Мяосину принадлежит последняя редакция правил шао-линьского удэ. Они были обобщены под названием «Пять запретов и семь вредоносных факторов». Монах писал: «Первое — сторонись нерадивости и лени, второе — сторонись гордыни и похвальбы, третье — сторонись вспыльчивости и суетливости, четвертое — избегай перескакивать через установленные ступени, пятое — избегай чрезмерного увлечения вином и женщинами». Семь вредоносных факторов заключались в следующем: «Первый — сексуальные связи вредят семени, второй — вспышки гнева вредят ци, третий — мучительные раздумья угнетают дух, четвертый — зависть вредит сердцу, пятый — излишества в напитках и питие вредят крови, шестой — ленивый образ жизни вредит мышцам, седьмой — суетливость вредит костям».[63] Доброжелательность к людям «Боевая добродетель» зависит не столько от того, насколько хорошо боец выучил те или иные правила поведения, сколько от чистоты и искренности его сознания. Дух обычного человека, замутненный волнениями, метаниями, страхом, неуверенностью в себе, может породить неадекватное отношение к окружающим. Такой человек способен убить, когда можно остановить противника лишь одним жестом или даже взглядом. Незамутненность сознания сополагается с пониманием того, что природный мир по своему отношению к человеку «никаков», он равнодушен, стоит выше понятий добра и зла, справедливости и жестокости, или, как говорится в «Дао Дэ цзине», «Небо и Земля не гуманны». Во внутренних, высших структурах мира, равно как и в сознании просветленного мастера, все бинарные оппозиции сливаются воедино, иначе бы получалось, что духовное начало мира подчинено обыденным понятиям типа «нравится — не нравится». Поэтому удэ являлось на высших этапах не простым следованием каким-то предписаниям, но моментом постоянного присутствия чистого сознания мастера в его поступках. Он свободен от всяких чувств (в том числе и от милосердия, добра, жалости, снисхождения) и способен воспринимать мир и ситуацию в их естественности, или «таковости», а следовательно, и действовать таким образом, чтобы быть неотличимым от самой окружающей обстановки. Не случайно даосское изречение говорит: «Мастер ни с кем не соперничает, поэтому и нет у него соперников». В этом смысле он абсолютно неуязвим для мира, ибо неотличим от него, и у него нет нужды применять свою технику — его Мастерство многократно переросло всякий отдельный прием. Доброжелательность к людям — вот основа, на которой строится обучение в ушу и общение бойцов между собой. Им нечего делить — ведь гунфу универсально и в то же время абсолютно внутреннее: его нельзя украсть или «выведать». По этому поводу приведем одну характерную историю из канонов ушу. Мусульманин Май Чжуанту считался известным мастером по стилям синъицюань и шэньцюань («Священный кулак»). Уже будучи седовласым, но по-прежнему крепким старцем, он приехал в 1884 году в Наньян, где познакомился с известным мастером по стилю обезьяны Тан Ваньи. Тан, обрадованный встречей со знаменитым учителем, пригласил его к себе в гости, желая обсудить некоторые тонкости ушу. Во дворе дома его сын Тан Цзючжоу, считавшийся одним из лучших мастеров во всей округе, упражнялся с копьем. Юноша решил воспользоваться случаем и завоевать похвалу самого Май Чжуанту. Мальчик-слуга бросал в Тан Цзючжоу медные монетки с отверстием посредине, а тот, подхватывая их на лету, нанизывал на наконечник копья. Тан Ваньи, ожидая восхищения гостя, спросил Май Чжуанту, как ему понравилось искусство копья. Но Май ответил, что плохо разбирается в этом искусстве, к тому же сам с копьем не занимается. Тан Ваньи, зная, что в то время даже средний ушуист владел копьем, подумал, что слава Май Чжуанту дутая, и решил проверить, насколько хорошо он владеет кулачным искусством, и вызвал его на поединок. Поединок начался, и хотя Тан использовал хитроумную технику обезьяны, Май Чжуанту, несмотря на свой преклонный возраст, без труда уходил от ударов, уворачивался, подпрыгивал, приседал, но сам ни разу не нанес удара. Вдруг Тану показалось, что его противник принял неудачную позицию. Он моментально сделал «обезьяний» захват, наложив свои ладони на предплечья Май Чжуанту, и попытался подсечь его. Но Май, уступив давящему усилию, вдруг подался немного назад, в сторону и со звуком «Чу!» сделал резкий выброс ци, повернул предплечья внутрь и отбросил Тана так, что тот взлетел в воздух. Тан даже не успел ничего понять, как Май Чжуанту обогнал его, оказавшись за спиной, и поймал его, не дав упасть. При этом он сокрушенно приговаривал: «Простите, обидел вас! Очень, очень виноват!» Отец и сын Таны принесли извинения за свое поведение.[64] Характерная ситуация — поединка нельзя было избежать, но он закончился полным примирением соперников и носил характер не столько жестокой схватки, сколько тонкого дидактического наставления. Повторимся: правила боевой добродетели служили своеобразным критерием меры человеческого в человеке-бойце. Гуманность — превыше всего в бойце, равно как и добродетель и снисходительность превыше силы и жестокости. Но не существует гуманности по отношению к тому, кто нарушает нормы ритуала и поведения. Не может быть и снисходительности в решающие моменты поединка, когда речь идет о спасении жизни или защите нравственной нормы. Конфуцианская гуманность и добродетель действовали выборочно и точно. В связи с этим в ушу вырабатываются определенные нормы применения правил удэ в различных ситуациях. Прежде всего, на поединках-лэйтай, проводившихся в конце XIX — начале XX века, существовало неписаное правило «не дотрагиваться до болевой точки». Удар лишь обозначался легким шлепком, что опередило принцип бесконтактного поединка в каратэ почти на сто лет. Проводились и некоторые «редуцированные» поединки, где состязались не столько в умении нанести противнику решающий удар, сколько во внутреннем мастерстве. Например, мастеру Сунь Лутану в 30-х годах как-то шестеро японских дзюдоистов предложили помериться силами. Сунь Лутану было в то время уже под семьдесят лет. Но он не только не отказался от поединка, но и предложил довольно оригинальный способ его проведения. Старый мастер лег на землю и приказал пяти дзюдоистам крепко прижать его: двое держали за руки, двое — за ноги и один поставил ногу ему на корпус. Сунь Лутан сказал: «Пусть один из вас досчитает до трех. Если на счет «три» я не сумею встать на ноги, считайте, что вы выиграли». Японец начал отсчет, и тут старик Сунь применил весьма изощренный и сложный способ подъема с земли — «Прыжок сколопендры». По его телу прошла дрожь, он весь изогнулся, а затем резко напрягся, оттолкнулся руками и ногами и, сбросив японцев, вскочил на ноги. Изумленные японцы признали свое поражение.[65] Такой тип «добродетельного поединка» назывался «бу чу шоу» — «не пуская рук в ход». Его использовали мастер тайцзи Ян Лучань, изматывавший противника хитрыми уходами от ударов, сам при этом не атакуя, инструктор императорских войск и член тайного общества Гань Фэнчи, который вместо того, чтобы бить мечом в голову противника, точным ударом срезал волоски у него на бровях; наставник по мицзунцюань Хо Юаньцзя, несильными шлепками по уязвимым зонам противника заставлявший его выходить из себя. В бою принцип «удэ» сводился приблизительно к следующему: ограничить атаку противника, не вредя ему выше нужды. В шаолиньских и эмэйских школах существовало правило «восьми ударов» и «восьми ограничений в ударах». Система восьми ударов позволяла без труда остановить противника с помощью резкого болевого эффекта, при этом не нанося ему существенного вреда. Такими ударами, соответственно, считались удары в брови у переносицы, в точку над губой, в спину в районе лопаток, удары «клювом журавля» и «лапой тигра», приводившие к резкой боли, атака в голень ударом ноги сверху вниз, удары в грудь в районе легких и в ребра и, наконец, удар снизу вверх в лобковую кость ладонью. Другие же восемь ударов разрешалось применять лишь в самых крайних случаях, при непосредственной угрозе для жизни. Обычно запрещалось наносить удары в виски, в горло, в ключицы, нельзя было слишком сильно атаковать в ребра, наносить одновременный удар двумя руками в почки, бить ладонями по ушам, использовать удар сверху вниз («вонзать иглу в дно моря» для атаки в пах) и бить снизу вверх в район промежности и в крестец. Вообще, подход к использованию ударов по болевым точкам в ушу был весьма и весьма строг. Прежде всего, эту технику запрещалось подробно описывать, и она передавалась только изустно и только небольшими «порциями», в соответствии с этапами посвящения. Полное использование техники воздействия на болевые точки (дяньсю), например, схемы сочетания атак на различные зоны, что вызывало серьезные повреждения у противника, проявлявшиеся через несколько часов или даже дней, вообще открывалось немногим. Поэтому все рассказы о том, что кто-то в наши дни способен открыто использовать эту технику, — обыкновенные выдумки или грубоватые попытки саморекламы. Первое, с чего начиналось обучение дяньсю, — суровое напоминание о том, что всем этим лучше никогда не пользоваться. Одним из самых известных трактатов по этому разделу ушу стал «Искусство коротких ударов архатов» («Лохань сингун дуаньда»), описывающий, заметим кстати, не практику, а теорию. Его вступление напоминает всем: «Мудрец обнажает свое оружие лишь тогда, когда поединка не избежать. Так можно ли научиться умеренно пользоваться искусством «коротких ударов»? Поэтому, пока тебя не вынудят — не наноси удара. Лишь демонстрируй свое нежелание нанести удар тем, что, нанося удар, на самом деле не наносишь его. Для этого используй технику «расщепления мышц и перерезания меридианов» (один из разделов дяньсю. — А. М.). Мудрец использует это с большой осторожностью. Так называемое «перерезание меридианов» не только перекрывает ток крови по каналам, но и полностью сбивает дыхание, в результате чего дух приходит в хаос и угнетение, руки и ноги теряют способность двигаться. Человек как бы умирает, но затем снова оживает, поэтому боец не наносит вреда сопернику. Именно в этом действии утонченное начало «коротких ударов» доходит до предела. Обладающий силой воли будет с превеликим тщанием учиться этому».[66] 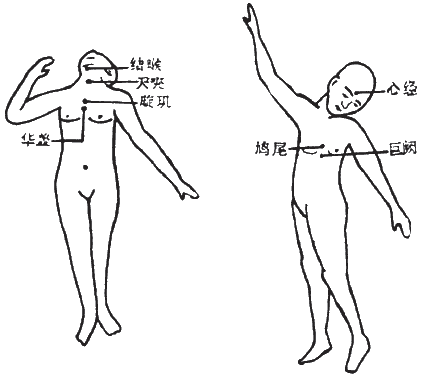 Смертельные точки (Из шаолиньских архивов XIX века) Столь же осторожно советовали учителя обращаться и с различными разделами «внутреннего» шаолиньского искусства, где использовался выброс внутреннего усилия через ладонь, приводящий к серьезному повреждению соперника. В основном эти методики объединялись в разделе «72 упражнения Шаолиня», такие как «Алмазный палец» (укрепление пальцев и нанесение ими ударов по болевым точкам), «Ладонь красного песка» (набивание ладони о раскаленный песок и золу), «Ладонь бессмертного небожителя» (набивание ребра ладони о деревяшку и использование различных укрепляющих бальзамов). Эти удары были столь опасны, что «лишь прикоснешься к сопернику — и он уже мертв, без яда можно лишить его жизни — увы, все это противоречит пути гуманности». Дабы сохранить бойцовскую добродетель и избежать столь плачевных последствий в поединке, предписания советовали: «Лучше всего пользоваться левой рукой и избегать использования более умелой правой руки, чтобы ненароком не травмировать человека». Конечно, во многом эти предписания, ограничения и обращения к внутренней, имплицитной добродетели были лишь идеальными, но в реальности неприменимыми вещами. Слишком велик был соблазн ловким приемом свалить соперника, зрелищно и эффектно взять верх над драчливым, но неумелым нападающим. Однако не случайно обучение ушу было столь пролонгировано во времени, не случайно существовали в некоторых школах этапы посвящения. Каждому этапу соответствовала новая, более комплексная ступень морально-этического воспитания и психоподготовки, направленная на постепенное высвечивание «глубины сердца» в бойце. Практически во всех школах наставники учили строить поединок от защиты, что позволяло соразмерить свою контратаку с силами и тренированностью нападающего. Гуманность воина и здесь тесно соприкасалась с прагматикой боя — «сначала изучи противника, затем атакуй». Это соответствовало учению древних стратегов, советовавших дождаться, пока противник проявит себя, обнаружит свои сильные и слабые стороны — «полные и пустые», а затем следовало «как вода проникнуть в трещины и разрушить скалу». Ключевой принцип внутренних стилей, в частности тайцзицюань, учил «господствовать мягкостью над силой и начинать свою атаку от защиты». Вот эта потенциальная «защитность» и как логическое ее завершение неявленность боевого аспекта ушу близки к даосскому пониманию «добродетели» — столь же неявленной, невыразимой, проступающей лишь как благая, животворящая мощь внутри человека. Таким образом, понятие «удэ» приобретало два оттенка, в общем-то взаимосвязанных, хотя и не очень близких. На поверхности — соблюдение определенных морально-этических норм и предписаний, касающихся повседневного поведения бойца, правил ведения поединка и т. д. В глубине же все это оборачивается особым свойством истинного бойца, являясь исконным смыслом ушу, как бы обратным по своему знаку видимому проявлению боевого искусства как искусства поединка. Если, например, публика ценила силу бойца, ловкость приема, восхищалась могучим ударом, то мастер много выше ставил способность не проявлять эту силу, не использовать техническую сторону ушу вообще. Этого уже нельзя было добиться лишь запретами и писаными правилами, так как сие полностью зависело от внутренних свойств самого человека. Шаолиньский монах Мяосин как-то заметил: «Тот, кто следует по пути боевых искусств, превыше всего ставит добродетель, а не силу, придает большее значение защите, а не нападению. Когда пробуждаешь в себе добродетель — то встречаешь признательность, а когда используешь силу — то наталкиваешься на противодействие. Защита — это предвестник жизни, а нападение — предвестник смерти. Когда меня атакуют, я защищаюсь. В этот момент у меня на сердце спокойно, мое ци концентрируется, дух просветляется и пробуждается отвага… Все это приводит к полному внутреннему умиротворению, благодаря чему мое ци оживает. Кто бы меня ни атаковал — ничто не обеспокоит меня. А вот у атакующего гневливое ци поднимается вверх, шесть духов (шесть качеств души. — А. М.) перевозбуждаются и не способны сдерживаться внутри. Из-за этого состояние его духа поверхностно, ци рассеивается, и он никак не может собрать свои силы. Мне же, который противостоит ему своим покоем, нет нужды травмировать соперника, ибо через короткое время он сам повредит себя».[67] Итак, эзотерический характер ушу, ясно просматривающийся в понимании правил поведения бойца как мистического ритуала особого рода, безболезненно сочетался с прагматикой боя и обыденностью жизни. Здесь проявлялись особый тип, особая стилистика жизни, выработанные всем развитием китайской культуры. Надо не просто поступать хорошо или гуманно, надо знать точное время, когда следует действовать, и сам характер этого действия. Это — мак-симальная гибкость сознания, лабильность психики, способность адаптироваться к ситуации таким образом, чтобы стать неуязвимым для нее. Это — абсолютный универсализм жизни, умение следовать природной естественности бытия, постоянно «перетекая» из формы в форму, из состояния в состояние. Нелишне заметить, что правила удэ были всегда прагматичными не только в отношении ведения поединка и выживания ушу как Учения, но и по отношению к исторической эпохе. Например, после прихода в Китай маньчжуров в правилах многих школ ушу появляется лозунг патриотизма и «восстановления китайской династии Мин». В частности, трансформировались и «Шаолиньские заповеди». Отныне их первый пункт гласил: «Основной целью изучающего шаолиньскую технику является стремление к возрождению Китая».[68] Напомним, что за несколько веков до этого основной целью шаолиньских бойцов было «укрепление тела и духа». Нравственный императив мастера предусматривал особую вежливость при обучении. Ее высшим выражением был несложный принцип, которого сегодня, увы, нечасто придерживаются, — не обучать тому, чего не изучал сам у носителей «истинной традиции». Несложно понять, что все недостатки такого преподавания полностью отражаются на ученике, светлая струя ушу размывается искажениями и выдумками. Обучать может лишь гуманный человек, сторицей обладающий «благой мощью», ибо без этого все его старания что-либо передать окажутся тщетны. Эта мысль настойчиво звучит во всех классических трактатах по ушу. «Способы боя с эмэйским копьем» («Эмэй цяофа») гласят: «Незнающий не способен выразить словами, негуманный не способен передать». Другой трактат — «Кулак белого журавля вечной весны» («Юнчунь байхэцюань») — говорит о том же: «Неискренний не сумеет обучить, не придерживающийся ритуалов не сумеет обучить».[69] Перед нами — важнейший акт передачи «истинной традиции»: оказывается, способен передать не тот, кто лучше всех подготовлен технически, но лишь тот, кто открыт миру, кто искренен и через ритуал прозревает внутреннюю сущность явлений. Не случайно великий учитель тайцзицюань Дун Иньцзе ставит во главу угла именно искренность: «Лишь тот, кто искренен в своих помыслах, сможет прочувствовать Небо и Землю».[70] В процессе обучения в ученике матрицируется учитель, и необходимо всегда сохранять некую «духовную гигиену» самой передачи. Но сколь много мужества должен иметь человек, дабы понять, что он не способен что-либо передавать. Например, великий мастер синъицюань Го Юньшэнь на многие годы прекратил преподавание, после того как его ученик тяжело ранил соперника, сочтя, что не может пока передавать истинный дух боевых искусств. Трактат «Наставления в мече куньу» («Куньу цзянь янь»), проповедуя такую «духовную гигиену», называет десять типов «испорченных» людей, которым нельзя преподавать ушу. «Тем, кто по своим человеческим качествам не прям, нельзя преподавать. Нечестным и не испытывающим почтения к старшим нельзя преподавать. Неровным в общении с людьми нельзя преподавать. Не умеющим оценивать по достоинству нельзя преподавать. Не искушенным в военных и гражданских науках нельзя преподавать. Стремящимся заработать на этом богатство нельзя преподавать. Тем, у кого грубость проникла в кости, нельзя преподавать. Торговцам нельзя преподавать. Драчливым нельзя преподавать. Почему? Боюсь за изъян в возвышенном мастерстве куньу».[71] Интересно, много ли найдется сегодня учителей, придерживающихся этих правил? Переосмысление канонов боевой добродетели в XX веке К началу XX века некоторые традиционные каноны удэ начали заметно переосмысливаться. Менялось время, менялось отношение к боевым искусствам, для многих ушу как способ приобщения к трансцендентным истинам было уже малодоступно. «Тайность» и святость знания боевых искусств иногда начинали вызывать «аллергию»: с одной стороны, из-за того, что за этим порой скрывалась полная утрата какого-то действительно глубинного знания, а с другой стороны, это не позволяло всем желающим вступить на путь «истинной традиции» боевых искусств. На этой волне возникает новое направление в осмыслении удэ. Его представителями стали такие известные мастера как У Тунань по стилю тайцзицюань, Ван Сянчжай по стилю дачэнцюань («Кулак высшего достижения») и другие. Последний, в частности, провозгласил первым принципом удэ «чувство национального достоинства и развитие духа патриотизма». Он писал: «Занимаясь боевым искусством, прежде всего надо учиться воспитывать людей. Надо воспитывать людей, преисполненных чувства национального достоинства, надо воспитывать патриотов. Мы — люди, занимающиеся ушу, — должны брать в качестве примера для подражания Юэ My (знаменитый генерал и блестящий воин XII века, более известный под именем Юэ Фэй; символ патриотизма. — А. М.). В современном государстве это трудно поставить во главу угла, но тем не менее мы не должны дрожать за собственную жизнь, страшась опасностей и избегая мечей. Нам необходимо сделать все ради нашей страны и нашего народа, невзирая даже на опасности для своей жизни».[72] Таким образом, к 20-м годам прошлого столетия был предложен новый подход к осмыслению боевой добродетели. Конечно, он был достаточно политизирован и значительно отличался от традиционных предписаний, требовавших некоего предельного самосокрытия, дистанцирования от праздной действительности и политической шумихи, так как это лишь затемняло смысл боевых искусств как духовного учения. Здоровый прагматизм национального возрождения в кризисный момент для китайской нации приходит на смену исконному эзотеризму ушу. Мистицизм традиции духовной практики зачастую скорее пугал, нежели звал к трансцендентным глубинам мира. Негативную роль здесь играли некоторые школы, тщательно имитировавшие тайные ритуалы и мистические культы ушу, будучи при этом не способными что-либо передать за внешними формами. Извечная мистерия передачи духовного опыта древних мудрецов через ушу умирала, многие традиции боевых искусств казались бессмысленными и неоправданными. Так, например, Ван Сянчжай выступил резко против традиционных отношений «молчаливой передачи» ушу между мастером и учеником, обвиняя эти отношения в косности и неоправданной зависимости ученика от своего наставника. Действительно, нередко случалось, что учитель был уже не способен что-либо передать последователю и тем самым продолжить учение школы, но при этом тщательно, хотя и непроизвольно, копировал манеры «учителя истинной традиции». Ван Сянчжай на этой волне внутреннего кризиса ушу, господства имитации и умирания истинной традиции формулирует пять новых принципов удэ: обладание чувством национального достоинства и духом патриотизма; необходимость изучать ушу с реальных и практических позиций; преодоление мистицизма в ушу; преодоление клановой закрытости школ; устранение феодальных отношений между учителем и учеником. Нетрудно заметить, что многим последователям боевых искусств в ту пору представлялось, что сохранения истинного смысла ушу возможно достичь лишь путем максимальной открытости школ, ломки интимно-доверительных отношений между наставником и последователем. История показала, что сохранение внутреннего смысла любого учения зависит не столько от того, в какой форме — открытой или закрытой — оно передается, но от того, кто его передает, какая личность стоит у духовного источника Знания. Увы, открытость школ ушу отнюдь не породила стимул к регенерации боевых искусств. Оказалось, что за свою многовековую историю ушу выработало оптимальные формы существования и передачи знаний, базирующиеся на принципах удэ, поэтому их искусственная трансформация и не принесла желаемого результата. Даже сегодня в современных клубах и секциях ушу в КНР и Японии существуют свои правила удэ. Конечно, они намного проще классических и не несут в себе столь глубокого уважения к самому акту занятий ушу. Скорее, они нацелены на групповое воспитание человека, хотя и ведется оно во вполне традиционном китайском духе. Приведем для примера правила удэ одного из современных клубов тайцзицюань. 1. В общении будь доброжелателен. 2. В учении не знай преград. 3. Тренируйся каждый день. 4. Обучая других, учись и сам. 5. Преодолевая себя, совершенствуй мысли. 6. Уважая Небо, доверяй и людям. 7. Служи для других. 8. Разделяй свой успех с другими. 9. Достигай единства в группе. 10. Стремись ко всеобщему единению, сохраняя при этом индивидуальность. Хотя эти правила значительно проще классического Шаолиньского канона, тем не менее они универсальны и приложимы к процессу воспитания практически любого члена китайского общества. Так реализуется на практике взаимопроникновение сакрального и профанного, самоуглубленной святости культа и прагматики жизни в китайской цивилизации на уровне боевых искусств. Итак, боевая добродетель — это фактически и есть особая философия ушу, вобравшая в себя множество принципов из конфуцианства, буддизма, даосизма. Это свои особые тип и стиль жизни и даже свое отношение к самой жизни. Именно благодаря сложному комплексу боевой добродетели (а он охватывает, как мы видели, все, начиная с эзотерических основ мироздания до обыденных правил поведения) ушу отошло от обычного кулачного боя и приобрело вид духовного учения и пути к высшему Знанию. Глава 9 Равновесие между гражданским и военным — гармония в человеке и обществе
Культура воина и человек культуры Каноны ушу утверждают: настоящий мастер должен быть не столько блестящим бойцом, сколько всесторонне развитой личностью, чего требует само понятие всеохватности мастерства — гунфу. Ущербность одной боевой техники без внутреннего саморазвития очевидна, так как превращает человека в «боевую машину», способную повернуть свое умение и против правых и против виноватых исходя лишь из своей прихоти. Так же и слабосильный человек, неспособный защитить себя, теряет уверенность в себе, даже будучи замечательным интеллектуалом. Для китайского общества это было настолько актуально, что практически каждый его член так или иначе владел приемами боя с оружием и кулачным искусством. Для начала — боевое и духовно-интеллектуальное должны дополнять друг друга, формируя внутренне целостную личность. Казалось бы, этот тезис о единстве боевого и культурного начал, силы и интеллекта не вызывает сомнений, но, оказывается, для Китая он не сводился к несколько утрированному утверждению о том, что «надо работать не только руками, но и головой. Столетиями Поднебесная империя стремилась найти равновесие между двумя важнейшими антиномиями, обозначаемыми как «военное», или «боевое» (у), и «гражданское», или «культурное» (вэнь). Как мы увидим позже, перевод этих понятий весьма относителен и никоим образом не отражает их реального содержания, так что не стоит фиксироваться на нем. По своей сути вэнь и у были конкретной проекцией космической связи взаимодополняющих сил инь и ян, которая приводила мир в гармонию, а государство — в благоденствие. Лишь немногим людям китайская традиция приписывает полное сочетание гражданского и военного. Такими людьми были некоторые императоры, например Чжао Куанъинь (X век), не только сумевший провести многие хозяйственно-административные реформы, но и собравший немало стилей ушу, распро-страненных в то время. Шаолиньские монахи наряду с тренировкой ушу в равной степени изучали гражданские дисциплины — литературу, небуддийские тексты, стихосложение, каллиграфию и т. д. Один из величайших мастеров ушу за всю историю Китая У Шу (XVII век), создатель грандиозного компендиума «Записки о рукопашном бое» («Шоуби лу»), прославился также как астроном, географ и исто-риописатель. Такие люди служили примером в любой школе ушу, и про них ходила поговорка: «Тому, кто обладает помимо военных достоинств еще и гражданскими, нет необходимости вступать в поединок». Но что вообще китайская культура подразумевала под вэнь — гражданским, или культурным, началом? В обиходе гражданское понималось как знание классической литературы, каллиграфии, стихосложения, правил составления петиций, прошений и других документов, знание конфуцианской философии — одним словом, всего того, что необходимо «благородному мужу» для выполнения своей функции служения правителю. Но существовал и более глубинный смысл понятия «вэнь». Вэнь включает в себя такие понятия, как «культура», «литература», «текст», «письмена». Нетрудно заметить, что культура понималась как фиксация Знания в виде письменного текста, не случайно в Китае так высоко ценился всякий иероглиф, ибо он заключал в себе некую вселенскую мудрость. Вэнь — это небесные, невидимые письмена, которые перенесены на землю в виде каких-то изображений, например, гексаграмм или иероглифов. Таким образом, они опосредуют связь Человека и Неба. Сама культура (вэнь) — есть обнаружение глубины небесно-священного в человеческо-профанном создании и в то же время мера человека культурного в человеке природном. Оказывается, что вэнь — это не просто некие гражданские науки, но глобальный способ, позволяющий коррелировать поведение человека в обществе, устанавливая связь через его поступки и ритуалы с высшими началами. Известно, что культура для самого Конфуция была способом воспитания «благородного мужа»: «Учитель (Конфуций) наставлял посредством четырех начал: культуры, праведного поведения, честности и искренности».[73] Вэнь становится мостком между непроглядной, ускользающе далекой глубиной Космоса и реально осязаемым миром человека. Если эта связь через «письмена культуры» утрачивается, то человек теряет некий «внутренний принцип», одухотворенность поступка. Современное китайское понятие «культура» (вэньхуа) можно перевести как «внесение изменения в изначальные письмена» или «приобщение к изначальным письменам», т. е. к естественному развитию вещей, что вполне соответствует требованию к настоящему воину быть «культурным». Это не просто соблюдение неких правил поведения на людях, но постоянное ощущение присутствия в себе небесного начала. С ним человек и коррелирует свое поведение. Если даосы считали, что культура — это насильственное «приукрашивание» естественной природы вещей, то конфуцианцы, наоборот, осознавали культуру как связующее звено с естественным началом мира, которое благодаря ритуалам (в том числе и боевым ритуалам) становится «подконтрольно». Не случайно одно из древних значений слова «ритуал» (ли) — «контролировать». Философское течение неоконфуцианцев, развившееся в XII–XIII веках, оказавшее решающее влияние на становление философской основы ушу и, в частности, правил «боевой морали», четко разделило «изначальные природные свойства человека» (чжи), данные ему от рождения, и «окультуренный» (вэнь) вид человека, к которому он приходил благодаря воспитанию. Известный неоконфуцианец Чжу Си (XII век) говорил: «Принцип всех вещей заключен в том, что они вначале должны обладать изначальными свойствами (чжи), а затем окультуриваться (вэнь), а поэтому изначальные свойства есть основа ритуала».[74] Итак, культура — не просто навыки, усвоенные в процессе воспитания, но сложный комплекс сочетания природных и социальных комплексов, живущих в человеке. Чжу Си, комментируя Конфуция, упомянул слова неоконфуцианца Чэнь-цзы, говорившего: «Преподающий человек, изучая культуру, вскармливает тем самым праведное поведение, к тому же сохраняет честность и искренность».[75] Оказывается, что овладение культурой запускает в человеке сложный механизм, позволяющий проявиться наиболее чистым, наиболее ценимым качествам его души — искренности, открытости, гуманности, человеколюбию. И если эти качества «подпирают» изнутри боевые навыки и знания ушу, т. е. военное начало, то становится ясным, почему истинного мастера ушу не существует без сочетания двух этих начал. Пусть экскурс в понятие «культурного» не покажется читателю слишком затянутым — иначе нам не будет понятно, почему китайское вэнь не отразишь адекватно ни словом «культурный», ни словом «гражданский», ни каким-то другим. У нас просто нет его аналога, западное слово «культура» уведет нас совсем в иную сторону, понятие «гражданского» наведет на мысль о «гражданском достоинстве» или «добропорядочном гражданине». Все это очень далеко от китайской реальности. Но вернемся теперь к тому, как «вэнь» и «у» постепенно стали едва ли не важнейшими понятиями всего ушу. Понимание сути равновесия между вэнь и у в истории не оставалось постоянным. Вначале в этой классической антиномии не было столь глубокого, космического смысла понятия «человек-воин». Теория «военно-гражданского» появилась уже в XI веке до н. э. и была связана прежде всего с идеальной личностью императора. Правителю династии Чжоу Чэн-вану (XI век до н. э.), прославившемуся своими ратными подвигами и умением управлять народом, история приписывает следующие слова: «Обладающий гражданскими достоинствами и не обладающий военными не сможет править в Поднебесной. Того же, кто обладает военными достоинствами и не обладает гражданскими, народ боится и не испытывает [к нему] любви. Когда военные и гражданские начала следуют вместе, мощь и благая добродетель достигают совершенства».[76] Таким образом, уже в те времена единство культурного и военного начал связывалось с продуцированием особой Благой энергии, или Добродетельного могущества, — Дэ, которое император распространял на своих подданных. Требование сочетания вэнь и у было равносильно взаимодополнению гуманности и мужества, духовных свойств и физического совершенства и в конечном счете выражалось в особом типе сознания, присущем «человеку целостных свойств» — совершенномудрому.  Культурные мужи со счетами и тушечницей (XV век) В период ранней китайской государственности в обществе преобладало мнение, что военное и гражданское следует сочетать как внутри одного человека, так и в политике государства. Это нашло свое отражение в концепции: «Военное и гражданское следуют вместе». Многие китайские правители не чурались продемонстрировать свое боевое мастерство, что еще выше поднимало их престиж как людей абсолютных и совершенных, преисполненных Небесной силой. Рассказывают, что правитель У-ван (Воинственный; годы правления 310–306 до н. э.) из известного своей военной мощью царства Цинь любил состязаться со своим чиновником Мэн Юэ в поднятии тяжелого треножника и немало преуспел в этом. Правда, однажды он сильно повредил себе коленную чашечку, вероятно, мениск, и соревнования на этом закончились.[77] Начиная приблизительно с этого времени чиновникам и аристократии в обязательном порядке предписывалось заниматься воинскими искусствами, а в VI веке требование знания ушу было введено даже в придворные экзамены на чиновничью должность. Понимание неразрывной целостности культуры заставляло конфуцианцев обращать особое внимание на сопряжение военного и гражданского в образе «благородного мужа» (цзюньцзы), идеально воплощавшего в себе такие качества как справедливость, человеколюбие, почитание ритуалов. Культурно-упорядочивающее начало (вэнь) в таком человеке как бы оттенялось его военными достоинствами, хотя, несомненно, сам Конфуций выше ценил именно «письмена культуры». Но и само военное начало — это часть глубочайшего ритуала, соотносящего человека с сакральными силами мира. Именно через ритуальность воинской практики можно было прозреть ее духовный, культурный смысл, и в этом суть жестких императорских предписаний своим подданным заниматься боевыми искусствами, хотя помимо этого существовали и чисто прикладные цели. В Китае сложилась пятичленная система ритуальной практики, охватывавшая практически все области социальной и политической жизни и символизировавшая собой единство военного и гражданского внутри единого «тела» ритуала. Это были свадебные обряды, жертвоприношения, прием гостей, военные обряды и траурные обряды. Характерно, что военное оказывалось гармонично вплетенным в гражданское начало общества, а это в свою очередь вело к психологической установке на гармонию военного и гражданского в сознании каждого члена китайского общества.  Конфуцианец (XV век) Традиционная система образования была издавна подчинена этой цели. Уже с глубокой древности мальчики и юноши получали комплексную подготовку, не худшую, чем отроки в Древней Спарте. В 8 лет мальчик поступал в младшую школу (сяосюэ), а в 15 лет — в высшую школу (дасюэ). И в младшей и в высшей школе весь процесс обучения был разбит на три взаимосвязанных направления: моральное, интеллектуальное и физическое воспитание. В частности, в младшей школе моральное воспитание детей заключалось в обучении таким простейшим навыкам как сметать пыль, подметать пол, отвечать на вопросы старших и т. д. В высшей школе это уже приобретало характер привития «истинности и искренности в мыслях», требуемых для самовоспитания. Для интеллектуального образования в младшей школе преподавались навыки чтения, письма, пения и математики, в высшей школе к ним прибавлялись знания, необходимые для «проникновения в суть вещей и расширения познаний». Весьма нелегким было физическое воспитание, которое более чем наполовину состояло из воинских искусств. В него входили стрельба из лука, фехтование на различных видах оружия, управление колесницами, вольтижировка и ритуальные танцы, включающие также многие боевые элементы. Такой комплексный военно-гражданский тип обучения сложился уже в IV–V веках до н. э. Трактат «Чжоу ли» («О чжоуском ритуале») рассказывает, что главный министр образования обучал массы людей всего лишь трем вещам, символизировавшим единство вэнь и у в Поднебесной. Первая из трех — это шесть истин: мудрость, гуманность, совершенство в мыслях, справедливость, преданность и гармония. Вторая — это шесть правил поведения: сыновняя почтительность, братская любовь, любовь к родственникам из одного клана, любовь к родственникам по узам брака, готовность взять на себя ответственность и помощь слабым и бедным. Третья — это знаменитые шесть конфуцианских искусств (люи), которыми должен был владеть каждый благородный муж, чиновник и аристократ: ритуалы, музыка, стрельба из лука, управление колесницами, каллиграфия и математика. Было точно установлено, за сколько занятий должен преподаваться тот или иной предмет, например, воинские ритуалы преподавались за двадцать три занятия, а ритуалы приема гостей — лишь за шесть.[78] Понятие военного, или боевого, становилось неотъемлемой чертой жизни китайца, в его сознании оно связывалось не только с ведением сражений или физическим воспитанием, но, что самое главное, с непреходящим пониманием ритуальной глубины вещей. Это и предопределило процесс постепенной сакрализации всего комплекса боевых искусств, когда ушу из элементарного боевого ремесла стало видом духовной практики. В шести искусствах был искушен не только сам великий Конфуций, но и некоторые его ученики. Так, по рассказам, один из его ближайших последователей Цзы Гун блестяще владел боем с копьем. Широко распространилась и история об отце Конфуция прекрасном воине Шулян Хэ. В 560 году до н. э. Шулян Хэ был в рядах армии царства Лу, что находилось на территории современного Шаньдуна, которая атаковала город Биян. Когда часть нападавших ворвалась в город, осажденный противник внезапно начал опускать тяжелые ворота, отрезая тем самым авангард луской армии. В этот критический момент Шулян Хэ подсунул предплечья под ворота и сумел удержать их, позволив остаткам армии ворваться в город. За это он был пожалован высоким чиновничьим титулом «дафу».[79] Сочетание военного и гражданского постепенно становится символом гармонии внутри человека, способного своей благой мощью напитывать Поднебесную. Именно таким должен быть истинный правитель или великий полководец. Объясняя восполнение одного начала через другое, знаменитый китайский стратег древности У-цзы (IV век до н. э.) так иллюстрировал свою мысль: «В древности Чэнь Сан развивал у себя гражданское начало и забросил военное дело; этим он погубил свое государство. Ю Ху полагался во всем на свое многочисленное войско и ценил одну храбрость; этим он утратил свои родные храмы. Мудрый правитель, учась на этом, непременно у себя в стране развивает гражданские начала, а против внешних врагов держит военную силу».[80] Обратим внимание: здесь гражданское служит синонимом «внутреннего», «внутристранового», а у — «внешнего», используемого для решения внешних проблем. В XVII–XVIII веках эта идея соотношения вэнь и у не как просто гражданского и военного, а именно как внутреннего и внешнего, или основы и ее функции — проявления во внешнем мире, становится моральным императивом для последователей внутренних стилей в ушу. Но в древности перед нами предстал лишь легкий образ будущей грандиозной и глубокой доктрины «внешнего — внутреннего» в боевых искусствах. В древности взаимоотношение вэнь и у понималось достаточно упрощенно, как сочетание двух видов воспитания в одном человеке. Перемены в китайском обществе привели к постепенному размыванию идеальной доктрины «Военное и гражданское следуют вместе». С одной стороны, формирование сложного конфуцианского канона с массой комментариев и уложений требовало большого времени на его заучивание и «благостные размышления» над ним. С другой стороны, развитие военно-стратегической мысли, широкомасштабные военные операции, наличие сложных методов воинской тренировки и даже формирование особой философско-прикладной школы «военных воспитателей» (бинцзя) неизбежно вели к формированию в обществе особой группы людей, уделявшей военному делу гораздо больше внимания, чем изучению канонов. Таким образом, в эпоху Борющихся царств, когда Китай раздирался непрекращающимися войнами, в обществе возобладала новая доктрина: «Гражданское и военное идут разными путями» («Вэнь у фэньту»). Часть людей в соответствии с ней стали считаться «книжниками» (жо) — позже этим термином стало обозначаться все конфуцианство, другая — «воинами», или «рыцарями» (ся). Несмотря на это «разделение дорог», по-прежнему считалось, что профессиональный воин должен знать различные формы ритуала, разбираться в музыке и каллиграфии, а чиновник — обладать общими навыками владения мечом, алебардой, копьем, приемами борьбы цзюэди и цзюэли. «Расколовшись» на военную и гражданскую области, древняя и средневековая китайская культура не позволила своим частям далеко отойти друг от друга, регулируя тем самым свою интеллектуальную и военную мощь. Военное и гражданское для традиционного Китая можно рассматривать в двух ипостасях — как понятие государственно-политической доктрины и как морально-психологическую норму для занимающихся боевыми искусствами. О практике государственного правления через вэнь и у китайские трактаты говорят весьма пространно и афористически точно. Например, «Исторические записки» (I век) гласят: «Если, натягивая, не отпускать — то гражданское и военное не смогут проявиться. Натягивать и отпускать — в этом путь военного и гражданского». А вот для человека-бойца сочетание вэнь и у внутри себя связано с вечным самопреодолением, самоотрешением и вступлением в область изначального единства культурного и природного. Об этом трактаты говорят скупо, и первые упоминания о том, что такое гармония военного и гражданского внутри конкретного человека, появляются лишь после возникновения стилей «внутренней семьи» в ушу — тайцзицюань, багуачжан, синъицюань. Приходит новое осмысление меры открытости человека Космосу и возможности их идентификации.  Воин (VIII век) Сочетание вэнь и у в практике ушу ставило человека на удивительно тонкую грань между неистовой свирепостью боя и очарованием эстетики китайской культуры. Лишь находясь между этими крайностями, в «промежутке», можно постичь всю мощь и гуманность внутреннего смысла боевых искусств. Понимание Дао, как известно, приходит от постижения срединной сущности вещей, когда в предельной форме вещи или явления исчезает полярность, различие на «то» и «это», «плохое» и «хорошее». Военное и гражданское, сливаясь воедино, образуют точку пересечения всех лучей духовного импульса внутри человека, идущих от древних мастеров. Преломление этих лучей через дополнение военного и гражданского начал и есть постижение Дао через практику ушу. Во внутренних стилях отразилась и древняя формула (вспомним высказывание У-цзы) о том, что вэнь — это внутреннее начало, а у — внешнее. Но что в этот момент начинает подразумеваться под «вэнь», столь упорно переводимом на Западе как «гражданское начало»? Оказывается, что для последователей тайцзицюань и багуачжан вэнь становится «физической культурой»! Оговоримся: не в западном понимании, как «тренировка тела», но именно как воспитание своей физическо-психической основы, считающейся в данном смысле внутренней. Эта внутренняя основа проявляется во внешнем мире в виде своей функции — боевых искусств.  Чиновник В качестве иллюстрации этой мысли приведем замечательный пассаж из «Канона тайцзицюань» Ян Чэнфу: «Если говорить о Дао, то нет ему иного начала, нежели в самовоспитании. Весь метод самовоспитания может быть разделен на три учения. Каждое учение представляет собой определенный уровень достижения. Высший уровень — это высшее достижение, низший уровень — это малое достижение, средний уровень — это искренность. Хотя и существуют три уровня достижений, но в конечной фазе они едины. Гражданское воспитывается внутри, военное — снаружи. Физическая культура — это внутреннее, а боевые искусства — это внешнее. Когда вскармливание внутреннего и внешнего достигает своей высочайшей фазы — это и зовется высшим уровнем достижения. Если же кто достигает знания боевых искусств через гражданское начало в физической культуре или гражданское начало в физической культуре достигается занятиями ушу — то это является средним достижением. Низший уровень — это знания физической культуры без боевых искусств или занятия одними лишь боевыми искусствами без физической культуры».[81] Нетрудно уловить мысль о том, что культурное считается здесь внутренним, а боевое — внешним, однако, думается, нас по-прежнему смутит понимание вэнь как физической культуры. Чтобы устранить это кажущееся противоречие, обратимся к показательному факту. С глубокой древности методы стрельбы из лука подразделялись на «военные» (у) и «гражданские» (вэнь), причем разнились они не какой-то конкретной техникой, не способами выстрела, а именно глубиной осознания самого процесса выстрела. Вспомним историю о чаньском патриархе Мацзу и охотнике Шигуне и их умении выполнять «внутренний выстрел», который намного эффективнее внешнего. Метод «военного выстрела» (ушэ) заключался в принятии правильной, стабильной позиции перед выстрелом, а затем собственно метком выстреле. Здесь конечной целью было точно послать стрелу в цель, то есть чисто внешняя форма стрельбы. А вот что древний трактат «Объяснения к иллюстрациям о способах стрельбы из лука» («Шэцзи тушо») говорит о «гражданском выстреле» (вэньшэ): «Его роль заключается не только в том, чтобы тренировать руки и способы движения телом, но и в том, чтобы упражнять ци, благодаря чему можно уяснить утонченную [сущность выстрела], которая сначала начинается с упражнения ци, а затем проникает и в руки».[82] Здесь, в этой небольшой фразе, таится ответ, что такое «вэнь — физическая культура» для ушу и вообще что такое физическая культура для традиционного Китая: укрепление физической основы через упражнения ци. А конкретные проявления — прием, выстрел из лука — есть реализация способности мобилизовать внутреннее культурное начало вэнь в виде концентрации ци в любой момент жизни человека. В предельной же форме и вэнь и у сводятся воедино к духовно-психическому началу человека — сердцу (синь), которое есть «исток всякого движения ци и конечностей». А сердце, в свою очередь, соотносится с пустотой Дао, не случайно извечное требование к психологической подготовке бойца: «Опустоши свое сердце». В момент, когда в XVII–XIX столетиях ушу расцветает во всей своей полноте, «гражданское» и «военное» стали обозначать два уровня тренировки, то есть тренировку внешней формы — непосредственно выполнение приема (у) и внутреннее искусство управления ци (вэнь) для усиления физической основы человека. Не случайно с осознанием начала «вэнь» в человеке древние тексты связывали понятие искренности, или веры, вспомним хотя бы приводившийся нами выше отрывок из Ян Чэнфу о среднем уровне достижения. Искренность, или вера, — это именно то чувство, которое необходимо для реализации своей внутренней, «энергетической» природы. Надо быть искренним к учителю, стилю, системе, к самому себе, к окружающему миру, к Дао, так как искренность — начало взаимодоверия мира и человека, а следовательно, и их окончательного слияния. А это и есть полное отождествление, с одной стороны, культурного, человеческого, «придуманного» и, с другой стороны, природного, естественного, навек данного. Именно этот смысл и вкладывает китайская традиция в понятие «вэнь» в человеке. Так ушу способствует реализации сложнейших философско-духовных понятий в человеке через внешне непритязательные формы боевой тренировки. Многие стили делились на разделы «вэнь» и «у». Например, существовал раздел «гражданский шаолинь» (вэнь шаолинь) — особые дыхательно-медитативные упражнения из монашеской практики, направленные на обретение «истинного» состояния сознания бойца, подобного медитативным экстатическим формам. Другая знаменитая система цигун «Восемь кусков парчи» также состояла из двух разделов — «военного» и «гражданского». Раздел «вэнь» был технически проще, так как выполнялся сидя, в отличие от раздела «у», выполнявшегося стоя и включавшего ряд боевых движений, например, удары кулаком. Однако именно знание раздела «вэнь», как считали знатоки, стимулировало «изменения духа» человека через концентрацию ци, поэтому этот раздел считался более элитарным и утонченным. Эта разница между понятиями «вэнь» и «у» оказалась подхвачена в XVIII веке тайными обществами, для членов которых практика ушу стала не только методом тренировки тела и сознания, но играла особую объединяющую роль. В 1774 году в Шаньдуне вспыхивает крупное восстание, поднятое одним из ответвлений тайного общества «Белого лотоса», которым руководил Ван Лунь. По деревням он создавал ячейки, которые делились на два типа — уже известные нам «вэнь» и «у». В первых занимались медитацией и духовным совершенствованием, они представляли собой руководящую элиту общества, так как благодаря своим необычайным психическим способностям могли влиять на рядовых и духовно менее сильных членов. Основные же бойцы общества группировались в ячейках типа «у» и изучали кулачное искусство, бой с мечом и палкой. Точно так же строили свою структуру тайные общества, поднявшие грандиозное восстание ихэтуаней («боксерское») в 1898–1901 годах. На верхнем этаже — «культурных алтарях» (вэньтань) — изучали сутры, медитативные тексты, а на нижнем этаже — «военных алтарях» (утань) — активно занимались боевыми искусствами, и из их числа вышло немало известных мастеров ушу.[83] Не меньше конфуцианцев поддерживали комплексное военно-гражданское воспитание и даосы, причем их практика носила крайне мистифицированный характер, приобретая оттенок какого-то сверхъестественного могущества. Здесь и проявлялось важнейшее свойство «истинного человека», который «может все». Правда, к самому понятию «вэнь» («культурное») даосы относились не очень хорошо. Оно представлялось им синонимом чего-то наигранного, неестественного, нарушающего естественный путь вещей. Культура противопоставлялась в данном случае изначальной, врожденной сути вещей, а следовательно, и Дао.  Аристократия упражняется в стрельбе из лука Культура для даоса — это искусственный рисунок на естественной красоте вещей, который лишь портит их. Это надуманное излишество. Именно даосские системы выдвинули концепцию внешней простоты движений в ушу, считая, что самое главное — не техническая сложность приема, а способность через этот прием раскрыть глубину врожденных свойств самого человека. Это и есть эффективный прием. И хотя для даосов культура не существует как регулирующая сила общества, но тем не менее она остается как наличие каких-то гражданских навыков, необходимых человеку для самореализации. А эта самореализация, в свою очередь, приводила к блестящему боевому мастерству. Даосы издавна считались блестящими бойцами, так как, помимо знания технических навыков боя, блестяще владели способами психорегуляции. Известный даосский маг, описавший несколько сот способов достижения бессмертия и продления жизни путем создания внешней пилюли бессмертия из химических элементов и путем дыхательно-медитативных упражнений, Гэ Хун (IV век) характеризует себя как замечательного бойца. Но сколь удивительно, сколь необычно для обыденного сознания его состояние — видение мира как легкой дымки, скрывающей разницу между реальностью и иллюзией. Отрывок из его автобиографии настолько характерен, что мы приведем сравнительно большую цитату из него. «Конфуций предостерегал от пустых мечтаний. Но когда я говорю о себе, то не допускаю, что я не лучше, чем тот, кто грезит наяву. Кто это, грезящий наяву? Лишь тот, кто не принадлежит ни к чему, так что по крайней мере никогда не оказывается втянут в склоки или ссоры. Обдумаем то, как совершенномудрый посвящал себя изучению классики: пока ремни, скреплявшие книги, не перетирались трижды. А как же могут современные люди с их скромными способностями с успехом делать больше одного дела одновременно? Будучи молодым человеком, я немного обучался стрельбе из лука, но моя сила была слишком мала, чтобы натянуть тугой лук подобно Янь Као. Я верил, что стрельбе из лука учатся лишь потому, что она представляет собой одно из шести искусств, практикуемых благородными мужами, а также для того, чтобы остановить бандитов, разогнать грабителей или охотиться на птиц и животных. Давным-давно, когда я служил в армии, я однажды выстрелил из лука, преследуя всадника. В ответ на мой выстрел два бандита и одна лошадь свалились замертво. Так я сам избежал смерти. Еще я обучался бою с мечом и щитом, а также одиночному мечу и парным копьям, основанным на малопонятных наставлениях и многозначительных уловках для использования против нападающих. Постигнув эти секретные методы и став их последователем, я сумел оставаться невредимым и добиваться победы, используя эти знания против непосвященных. Неважно, каким образом действовал нападающий, ничто не могло помешать мне. Позже в жизни я также изучал искусство длинного шеста, который можно использовать против короткого меча или длинной алебарды. Но это также представляло собой мертвые знания низшего порядка. Это искусство сравнимо с обломанным рогом или фениксом без шпор. Где оно может пригодиться? Сверх тех вещей, которые я здесь перечислил, нет, наверное, ничего, кроме того, что я уже выучил».[84] Напомним: перед нами слова великого даосского мага Гэ Хуна, по легендам, ставшего бессмертным, который, как видно, отводит немалое место в своем духовном становлении боевым искусствам. Да и само мастерство его чудесно, не случайно от одного Хуна замертво падают два разбойника и одна лошадь. В военном обнаруживается культурно-внутреннее начало, которое даосы называли «пестованием своей жизненности», «определением собственной судьбы». Путь воина — это проживание своей жизни как акта культуры через занятия боевыми искусствами. Если даосы избегали говорить о сочетании культурного и военного, то они с большим удовольствием рассуждали о «совместном пестовании природы и жизненности», т. е. соединении врожденных природных свойств человека (син) и его судьбы, предопределения, или «жизненности» (мин), и таким образом формировали гармонию врожденного и предопределенного в человеке. Истинный воин обязан знать путь к тому, как реализовать заложенные в нем способности. Сочетание военного и гражданского соответствовало особому моральному императиву настоящего бойца испокон веков. Например: «Тот, кто не искушен в военных и гражданских науках, не должен передавать знания ушу», — гласили «Наставления в мече куньу», так как такой человек не способен достаточно полно выразить существо «истинной традиции».[85] Гармония двух начал должна проявляться и в самой манере поведения бойца в соответствии с правилами «боевой морали» — удэ. Казалось бы, тяжелые тренировки, жестокие поединки должны сделать такого человека суровым, нечувствительным к окружающим. И сегодня сплошь и рядом встречаются люди, считающие заносчивость и грубость едва ли не признаком настоящего бойца. А вот мастер тайцзицюань Чэнь Синь в своих наставлениях так описывал облик истинного бойца: «Не кичлив и не бахвалится, поведением мягок и приветлив. И если мы и говорим об обучении боевому искусству („военному“), то в его сердцевине, тем не менее, заключено гражданское (в данном случае — именно „культурное“) начало».[86] Окультуривающе-регулирующее начало в человеке превалирует над какими-то боевыми навыками и представляет собой некую абсолютную ценность, воистину возвышающую человека над другими. В знаниях ушу существуют две крайности, в которые нередко впадают поклонники боевых искусств. На первых этапах свойственно переоценивать значение боевого аспекта ушу, которое понимается лишь как искусство боя. Кажется, что все занятия подчинены лишь тому, как эффектно и быстро одолеть соперника. Трудно понять, что эти боевые формы — врата в глубокий мир наиболее тонких духовных структур человека, а следовательно, и универсальный путь воспитания, не ограничивающийся лишь искусством самозащиты. Но может наступить и другая крайность — за глубокомысленными и напыщенными рассуждениями о «внутренних основах» ушу забывается, что все начинается с тщательной отработки боевых элементов, простейших навыков укрепления физического и психического здоровья. Таким образом, боевой аспект из ушу может пропасть вообще, как, например, это случилось в современном тайцзицюань или спортивном ушу. Надо всегда оставаться в «золотой середине», в «промежутке» между боевым и гражданским, внешним и внутренним, ведь не может же быть боевого искусства без боевых приемов, равно как не может существовать ушу лишь как способ постановки сильного удара, типа европейского бокса. В начале века, впрочем, как иногда и в наши дни, эта полифункциональность ушу не замечается европейцами — по этой причине в обиход вошло нелепое выражение «китайский бокс», «шаолиньский бокс», «бокс Великого предела» (имеется в виду тайцзицюань), что ставит ушу на уровень европейского аналога и лишает его внутренней перспективы. Целостность, объемность жизни, ее постоянная неоднозначность, кажущаяся противоречивость, ведущая на самом деле к единству, — это путь полнокровной жизни человека вообще, а не только бойца ушу. Об этом универсализме принципов боевых искусств образно говорил один из канонов тайцзицюань: «Одна деревянная подпорка не удержит всей конструкции, одной ладонью не сделаешь хлопка в ладоши.[87] Это справедливо не только для гражданской основы и боевой тренировки, но и для всех явлений в мире. Гражданское — это внутренний принцип, а боевое — это внешнее множество техники. Внешнее множество техники без внутреннего принципа — всего лишь отвага грубого свойства… Тот, кто обладает лишь внутренним принципом без внешней техники, кто лишь думает об искусстве покоя и ничего не знает о способах ведения поединка, проиграет, едва допустив малейшую ошибку».[88] Подведем краткий итог сказанному о равновесии между вэнь и у. Эти два понятия стали важнейшим императивом воспитания истинного бойца ушу и наиболее глубокое осмысление приобрели в XVII–XVIII веках после становления стилей «внутренней семьи». Именно здесь гражданское и военное стали осознаваться как способ гармоничного пестования внутреннего и внешнего начал в человеке. При этом вэнь и у понимались чрезвычайно широко, например, как гражданские и военные науки, внутренний ритуал и его внешнее проявление, внутренний принцип и внешнее множество техники, спокойные размышления и грубая отвага, мудрость и сила. В любом случае параллельное воспитание двух начал способно сформировать того, кого даосы называли «цюаньжэнь», — «человека целостных свойств». Поэтому мы и говорим, что ушу — не только мощное боевое искусство, не только эффективная система физического оздоровления, но это еще и путь духовного здоровья, умение видеть за обыденностью действия живую душу «человека культурного» во всей ее полноте и единстве с окружающим миром. Наверное, в этом сегодня и состоит высшая ценность ушу, не только являющегося продуктом китайской культуры, но несущего в себе общечеловеческие духовные ценности. Примечания:1 Брюс Ли обучался в Гонконге у одного из наставников боковой ветви стиля юнчунь (винчунь) Е Мэня (Ип Мэна). Однако, так как он не был чистым китайцем и в нем текла малайская кровь, Ли Цзяньфань (таково настоящее имя Брюса Ли) не состоял даже в группе учеников, приближенных к учителю. Примечательно, что в период своей жизни в США Брюс Ли почти не общался с китайскими знатоками ушу. Думается, что причина здесь, естественно, заключается не в боязни поединка с одним из таких мастеров, но лежит в сфере коммерческих интересов. Весьма характерна в этом плане одна из первых книг Брюса Ли по кунфу, которую даже он сам позже считал неудачной, — попытка описать именно китайское ушу окончилась провалом. Фактически, автор сам расписался в своем незнании китайских боевых искусств. Зато его работы, посвященные собственной системе джиткундо (кит. цзецюаньдао — «Путь опережающего кулака»), пред-ставляют собой высокопрофессиональные учебники рукопашного боя. 2 Parker Е. Secrets of Chinese Karate. Prentice-Hall, 1963. Habersetzer R. Kung-fu (Wu-shu): Les techniques de la boxe chinoise. Paris, 1979. Gillbey G. F. Secret Fighting Arts of the World. N. Y., 1971. (Перевод на русский язык: Гилби Д. Секреты боевых искусств мира. Рига, 1991). 3 Примечательно, что у нас в стране изучение боевых искусств, в том числе и ушу, проходит те же этапы, что и на Западе, только с десятилетним опозданием. Например, большинство книг, издаваемых у нас, представляют собой либо точный пересказ западных легенд, либо исключи тельно собственные «изобретения» авторов. Например, одним из таких итогов абсолютно варварского отношения к культуре боевых искусств стали выдержавшая несколько переизданий книга А. А. Долина и Г. В. Попова «Кэмпо — традиция воинских искусств» и их же «Традиции ушу», где авторы так и не сумели объяснить, в чем же действительно заключается традиция ушу. Здесь история ушу оказалась превращена в сборник забавных выдумок, в основном переписанных с западных книг. Многие книги, изданные под претенциозными названиями «Боевые единоборства народов мира», «Останови оружие», «Восточные единоборства», грешат таким фантастическим количеством нелепостей, что иначе как шарлатанство расценивать их трудно. Вообще, писать про ушу, не ознакомившись ни с одним китайским источником — это, по крайней мере, весьма смело и весьма неэтично. 4 Giles H. A. The Home of Jiu-jitsu. — Adversaria Sinica. Shanghai, 1914. 5 Ушу (Материалы для использования в высших учебных заведениях). Шанхай, 1982, с. 1. 6 «Лао-цзы» байхуа цзиньши («Лао-цзы» с комментариями и переводом на современный китайский язык). Сост. Чжан И. Пекин, 1993, § 21, с. 42. 7 У Юйсян. Шисаньши сингун синьцзяо (Искренние объяснения методов тринадцати позиций). — В кн.: Тайцзицюань цюаньшу (Полная книга тайцзицюань). Пекин, 1991, с. 439. 8 Дун Иньцзе. Тайцзицюань ши и (Объяснение смысла тайцзицюань). Шанхай, 1986, с. 5. 9 Yang Jwing-ming. Advanced Yang style Tai-chi Chuan. Vol. 1. Boston, 1986, p. 5. 10 Ли Тяньцзи, Ли Дэинь. Синъи цюань шу (Кулачное искусство «Стиля формы и воли»). Пекин, 1983, с. 206. 11 Сунь Фуцюань. Цюань и шу чжэнь (Истинное описание смысла кулачного искусства). Тайбэй, б. г., с. 47–48. 12 Цыхай (Море слов). Т. 2, Пекин, 1979, с. 953. 13 Чжунго ушу дацыдянь (Большой словарь китайского ушу). Под ред. Ма Сянда. Пекин, 1990, с. 1. 14 Гу Люйсин. Тайцзицюань шу (Искусство тайцзицюань). Шанхай, 1982, с. 431. 15 У Шу. Шоуби лу (Записки о рукопашном бое). Пекин, 1990, с. 156. 16 Groot J. J. M. The Religious System of China. Vol. 5, book 2. Taibei, 1969, p. 595–596. 17 Tai-chi Touchstones. Yang Family Secret Transmis sions. Сотр. and translated by D. Wile. N. Y., 1983, p. 147. 18 Гу Люйсин. Тайцзицюань шу, с. 430. 19 Сунь Фуцюань. Цюань и шу чжэнь, с. 41. 20 Reflection on Things at Hand. The Neoconfucian Antology. Сотр. by Chu Hsi and Lu Tsu-Ch’ien. Tr. by Wing Tsit-Chan. N. Y., 1967. 21 Ibid. 22 Люцзу таньцзин (Престольная сутра Шестого патриарха). Пекин, 1990, с. 60–61. 23 Ицзин (Книга перемен). Т. 1, с. 63. 24 Сунь Фуцюань. Цюань и шу чжэнь, с. 27. 25 Долин А. А., Попов Г. В. Традиции ушу. Красноярск, 1990. Долин А. А., Попов Г. В. Кэмпо — традиция воинских искусств. М., 1990. 26 «Лао-цзы» байхуа цзиньши, § 49, с. 95. 27 Дун Иньцзе. Тайцзицюань ши и, с. 7. 28 Там же. 29 Ян Чэнфу чжуань (Предания о Ян Чэнфу). Чэнду, 1989, с. 86. 30 «Лао-цзы» байхуа цзиньши, § 40, с. 78. 31 Цит. по: Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 28. 32 Ян Чэнфу чжуань, с. 34. 33 «Лао-цзы» байхуа цзиньши, § 2, с. 7. 34 Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. М., 1987, с. 91–92. 35 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь (Общая теория культуры китайского ушу). Чэнду, 1990, с. 195. 36 The Wisdom of Confucius. Ed. by Lin Yutang. N. Y. — L., 1938, p. 250. 37 The Wisdom of Confucius, p. 250. В данном случае — изречение, приписываемое Конфуцию в «Лицзи», раздел «Сюэчи», гл. XVIII. 38 Sourses of Chinese Tradition. Сотр. by Wm. Th. de Barry, Wing-tsit Chan, B. Warson. Vol. 1. N. Y. — L. I960, p. 253. 39 Дэцян. Шаолинь усэн чжи (Хроники монахов-бойцов Шаолиньского монастыря). Пекин, 1988, с. 58. 40 Клановое имя в Китае обычно обозначалось иероглифом «ши» (чэньши тайцзицюань — тайцзицюань клана Чэнь), хотя в литературе его принято переводить как «семья» или вообще опускать, например, «стиль Чэнь тайцзицюань», что в строгом смысле не верно. 41 В связи с этим выглядит весьма нетактично, в частности, публикация в одной из отечественных работ генеалогического древа багуачжан и синъицюань, взятого, естественно, из китайской книги. Правда, если европейцам, поверхностно знакомым с внутренними традициями ушу, это простительно, в Китае это рассматривается как серьезное нарушение этики. 42 Гу Люйсин. Тайцзицюань шу, с. 413. 43 Сунь Фуцюань. Багуацюань шу (Искусство «Кулака восьми триграмм»). Тайбэй, б. г., с. 81. 44 Сунь Фуцюань. Багуацюань шу, с. 78. 45 Сунь Фуцюань. Цюань и шу чжэнь, с. 27. 46 Хуан Бонянь. Лунсин багуачжан (Форма дракона «Ладони восьми триграмм»), с. 1–2. 47 Гу Люйсин. Тайцзицюань шу, с. 411. 48 Чжунхуа ушу цыдянь (Словарь китайского ушу). Сост. Вань Цзиньхуэй и др. Хэфэй, 1987, с. 15. 49 Tai-chi Touchstones, p. 142. 50 Yang Jwing-Ming. Advanced Yang Style Tai-chi Chu-an. Vol. 1, p. 236. 51 Tai-chi Touchstones, p. 144. 52 «Луньюй» чжанцзюй цзичжу («Беседы и суждения» с членением на разделы и комментариями). С ком. Чжу Си. — В сб.: Сышу уцзин (Четыре книги и пять канонов). Т. 1. Пекин, 1984, п. 14.4. 53 Там же. 54 Там же, п. 14.28. 55 Там же, п. 12.1. 56 Сунь Фуцюань. Цюань и шу чжэнь, с. 27. 57 Ян Пэйжун. Мицзунцюань («Потерянный след»). Чанша, 1985, с. 55–56. 58 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 191. 59 Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982, с. 341. 60 Ван Сюаньцзе. Дачэнцюань. («Кулак Высшего достижения»). Сянган, 1986, с. 38. 61 Удан цзюэцзи (Абсолютная техника уданского направления ушу). Сост. Ли Тяньцзи. Т. 1. Цзилинь, 1989, с. 262. 62 Шаолиньсы юй шаолиньцюань (Шаолиньский монастырь и «Шаолиньский кулак»). Гуанчжоу, 1984, с. 42–43. 63 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 198. 64 Чжунхуа ушу (Китайское ушу). 1987, № 12, с. 43–44. 65 Сунь Луган идай усюэ даши (Сунь Луган — великий наставник ушу целого поколения). — Цзинъу, 1986, № 2. 66 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 191–192. 67 Там же, с. 198. 68 Шаолиньсы юй шаолиньцюань, с. 44. 69 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 195. 70 Дун Иньцзе. Тайцзицюань ши и, с. 5. 71 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 195. 72 Ван Сюаньцзе. Дачэнцюань, с. 39. 73 «Луньюй» чжанцзюй цзичжу, с. 30. 74 Чжэсюэ дацыдянь (Большой философский словарь). Шанхай, 1985, с. 140. 75 «Луньюй» чжанцзюй цзичжу, с. 30. 76 Шо фань (Наставления правителю). — В сб.: Сыбу бэйяо. Шанхай, 1936, цз. 1, с. 1. 77 Ли Цзифан, Чжоу Сикуан, Си Юнчан. Чжунго гудай тиюй ши (Краткая история физического воспитания в старом Китае). Пекин, 1984, с. 44. 78 Chen Jingpan. Confucius as a Teacher. Philosophy of Confucius with Special Reference to its Educational Impli cation. Beijing, 1990, p. 72. 79 Ли Цзифан. Чжунго гудай тиюй ши, с. 45. 80 Конрад Н. И. «У-цзы»: трактат о военном искусстве. М., 1958, с. 24. 81 Ян Чэнфу. Тайцзицюань шиюн фа (Способы применения тайцзицюань). Пекин, 1931, с. 23. 82 Чжунго ушу дацыдянь, с. 536. 83 Ляо Ичжун. Ихэтуань юньдун ши (История движения ихэтуаней). Ланьчжоу, 1983, с. 42. 84 Alchemy, Medicine and Religion in the China A. D. 320. The Nei P’ien of Ко Hung (Pao-p’u tzu). Jr. by J. R. Ware. N. Y., 1981. 85 Чжан Куанъу. Чжунго ушу вэньхуа гайлунь, с. 195. 86 Чэнь Синь. Тайцзицюань лунь фэньлэй чжайлу (Классифицированные заметки по теории тайцзицю ань). — В кн.: Гу Люйсин. Тайцзицюань шу (Искусство тайцзицюань). Шанхай, 1982, с. 408. 87 В чань-буддийских школах был распространен парадоксальный вопрос (гунань), ставший, вероятно, предтечей фразы Дун Иньцзе: «Удар двумя ладонями — это хлопок. А что такое хлопок одной ладонью?» В сфере формальной логики ответа на этот вопрос нет, он требует интуитивного проникновения в суть вещей. Ответ на него мог быть самым нестандартным и спонтанным, выходящим из глубин сознания, преодолевшего рамки строгих логических ограничений, например, резкий выкрик «Хэ!» или выражение типа «Кипарис во дворе!» 88 Дун Иньцзе. Тайцзицюань ши и. |
|
||
|
Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх |
||||
|
|
||||
